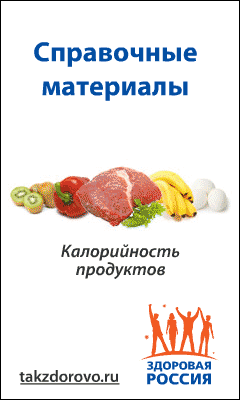Россия из века в век Глава 7
Глава седьмая
О репрессиях[1]
Хрущёвым и заведённой им после XX съезда прессой утверждалось, что Сталин проводил репрессии, движимый исключительно амбициозным желанием оставаться в истории вторым после Ленина руководителем в Октябрьской революции, гражданской войне, а после смерти Ленина – первым историческим лицом, создателем социалистического государства. Для достижения этой цели Сталин якобы безжалостно уничтожил бывших революционеров, которые в какой-то форме не поддерживали это его желание, зная правду о его действительно не первостепенном положении в революции и в партии в те годы.
«Личные амбиции, жестокость и недальновидность» — таково объяснение сталинских репрессий пришедшими к власти «демократами» в перестроечные годы. На утверждение этой версии брошены все силы средств массовой информации, представляющие Сталина «палачом, извергом, беспринципным, единовластным диктатором».
Всё это лишь видимая, надводная часть айсберга – имя которому – политическое нашествие на Россию. Подводная часть этого айсберга – большая часть, главное основание – для широкой массы людей невидима. Подводную часть старательно прячут пришельцы и всех мастей доморощенные разоблачители Сталина.
Мудрые люди говорят, что всё познаётся в сравнении. Последуем и мы этому доброму совету. Постараемся взглянуть на подлинные документы и факты непредвзято.
Репрессии проводились во всех революциях и восстаниях. Это уже считается закономерным: приходят к власти новые силы, они убирают прежних сопротивляющихся властителей и их приближённых. В России после революции чистка от представителей старого строя затянулась на несколько лет, в числе репрессируемых, как возможных врагов революционных преобразований, истребляли «буржуев», бывших офицеров, жандармов, кулаков, священнослужителей. Но, повторяю, политическими деятелями, а позднее историками, это воспринималось как естественное для революции явление, протест вызывали только масштабы.
Репрессии, о которых пойдёт разговор, проводились в мирное время и были своеобразной аномалией для революции. Происходило нечто непонятное: репрессировались не только представители старого царского строя, а революционеры начали истреблять своих же соратников – революционеров, с которыми свергали царя и защищали молодую республику на фронтах гражданской войны.
Не всем и не сразу понятно, как и почему произошло разъединение двух групп революционеров, приведшее к борьбе не на жизнь, а на смерть и, в конечном счёте, к физическому уничтожению друг друга. Начался раскол, когда ещё революционеры были в подполье, представляли собой вроде бы единую партию, но уже тогда в ней появились разногласия по программным и тактическим проблемам. Партия разделилась на большевиков и меньшевиков.
Каждой стороной это разъединение объяснялось одинаково – якобы для того, чтобы быстрее принести свободу и счастье народу, ради чего, собственно, и была начата вся революционная борьба.
Настоящая причина разлада была совсем не в бесконечных спорах и дискуссиях, а в том, что извечно губило все движения, восстания, революции, — это борьба за власть внутри руководства, амбиции и претензии на господство, по виду групповое, а на деле – индивидуальное и эгоистичное. Имя этой болезни – вождизм. Эта болезнь всегда очень тщательно скрывается. В ней никто не признаётся, прячут её от окружающих и даже от себя претенденты на лидерство.
Во второй половине XX века (после смерти Сталина) ни по какой другой теме не писали (и не пишут по сей день) так много в нашей и зарубежной печати, как о репрессиях. Случайно ли это?
Вроде бы объективную причину репрессий я услышал от Молотова, ближайшего соратника и единомышленника Сталина, в последние десять лет его жизни часто бывая у него на даче.
Однажды Молотов подробно рассказал, на мой взгляд, о самом главном – о репрессиях:
— Вы должны понять прежде всего то, что репрессии являются следствием борьбы за власть, с одной стороны, и уничтожением вражеской агентуры, в которую превратились троцкисты, с другой стороны. Ещё до революции в партии произошёл раскол на меньшевиков и большевиков. Идейные разногласия приводили не только к словесным битвам за формулировки каких-то программ, решений и постановлений. Борьба велась и за руководящее положение в центральных органах партии.
После революции были в партии два течения, которые продолжали борьбу уже в новых условиях, но, в конечном счёте, и это было соперничество за власть – я имею ввиду ленинцев и троцкистов.
Сталину досталось очень тяжёлое наследство: опытный, талантливый руководитель Троцкий с его могучей организацией (многие государственные и партийные посты занимали его единомышленники). Для того, чтобы справиться с ними, Сталину необходима была опора на людей, которые его поддерживали бы.
В тридцатые годы у Сталина ещё не было авторитета, необходимого для Генсека. Поэтому во всех своих делах и выступлениях он подчёркивал, что является продолжателем дела Ленина. Авторитет Ленина служил ему опорой. Ленинцы объединились вокруг Сталина в борьбе с троцкистами.
Надо не упускать из виду, что Сталин и его сторонники в те годы были стороной, которая защищалась от нападок троцкистов.
При неукротимой энергии Троцкого, его напористости и эрудиции Сталину очень нелегко приходилось в неравной борьбе. Сначала всё шло в словесных битвах. Затем Иосиф Виссарионович, будучи человеком крутым и решительным, стал кроме говорильни и дискуссий применять власть. Ну а власть, как вы знаете, оружие очень сильное. Сталин свалил и выслал самого Троцкого и принялся выкорчёвывать его сторонников. А их было много! И они оружия не сложили. Троцкий продолжал руководить своей оппозицией из-за рубежа. Ставилась задача: не только свержение Сталина и его соратников, но и физическое устранение. Троцкисты первыми перешли к террору – убийство Кирова стало апогеем в этой их чёрной затее. Но Сталин после убийства Кирова тоже показал зубы и даже клыки!
Чтобы сегодня ни писали, не выдумывали о причастности Сталина к убийству Кирова, всё это неправда, попытка обелить троцкистов. Сталин по настоящему дружил и высоко ценил Сергея Мироновича.
Ну а потом пошло и поехало. Как снежный ком. Сталин истреблял своих врагов в центре, а на местах угодники, желая выслужиться перед Генсеком, выискивали врагов в республиках и областях. А заодно, оказывается, «убирали» и своих недоброжелателей, людей чем-то неудобных местной власти.
Я спросил Вячеслава Михайловича:
— Неужели у вас не возникали сомнения, ведь арестовывали людей, которых вы хорошо знали по их делам ещё до революции, а затем в гражданской войне?
— Сомнения возникали, однажды я об этом сказал Сталину, он ответил: «Поезжайте на Лубянку и проверьте сами, вот с Ворошиловым». В это время в кабинете был Ворошилов. Мы тут же поехали. В те дни как раз у нас были свежие недоумения по поводу ареста Постышева. Приехали к Ежову. Он приказал принести дело Постышева. Мы посмотрели протоколы допроса. Постышев признаёт себя виновным. Я сказал Ежову: «Хочу поговорить с самим Постышевым». Его привели. Он был бледный, похудел и вообще выглядел подавленным. Я спросил его: «Правильно ли записаны в протоколах допроса Ваши показания?» Он ответил: «Правильно». Я ещё спросил: «Значит, Вы признаёте себя виновным?» Он ответил: «Раз подписал, значит, признаю, чего уж тут говорить».
— Вот как было дело. Как же мы могли не верить, когда человек сам признаётся.
В одном выступлении на Пленуме Сталин изложил причины репрессий. Первую из них он указывает ту же, о которой мне сказал Молотов в нашей беседе.
« В стране боролись две программы – непримиримые, как смертельные враги, стоящие одна против другой. Две программы, два лагеря. С одной стороны – оторванная от народа и враждебная народу маленькая кучка людей, ставшая агентами иностранных разведок (троцкисты – В.К), с другой стороны – трудящиеся, строящие светлое социалистическое общество, обеспечивающее им свободную и сытую жизнь» (сталинисты.– В.К).
Другой причиной расширения репрессий Сталин считал следующее: «Среди коммунистов существуют ещё не вскрытые и не разоблачённые отдельные карьеристы-коммунисты, старающиеся отличиться и выдвинуться на исключениях из партии, на репрессиях против членов партии, старающиеся застраховать себя от возможных обвинений в недостатке бдительности путём применения огульных репрессий против членов партии.
Такой карьерист-коммунист полагает, что раз на члена партии подано заявление, хотя бы неправильное или даже провокационное, он, этот член партии, опасен для организации и от него нужно избавиться поскорее, чтобы застраховать себя как бдительного. Поэтому он считает излишним объективно разбираться в предъявленных коммунисту обвинениях и заранее предрешает необходимость его исключения из партии.
В связи с этим Пленум обязал обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартий снимать с партийных постов и привлекать к партийной ответственности тех партийных руководителей, которые не выполняют директив ЦК ВКП(б), исключают из партии членов и кандидатов ВКП(б) без тщательной проверки всех материалов и допускают произвол по отношению к членам партии».
Исходя из этого, часть вины, которую огульно валят на Сталина, наверное, следует переложить на подхалимов, перестраховщиков и тех, о ком говорят: «Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт».
Во все времена все государственные руководители и военачальники при приближении войны не только готовили армию, но очищали тыл от шпионов и ненадёжных субъектов, которые с началом боевых действий могли принести огромный вред своим войскам и содействие противнику.
Напомню пример из истории.
Русские войска, изгнав Наполеона со своей земли, приближались к Парижу. Наполеон с главными силами отошёл не к столице, а на юг, за Манд, рассчитывая ударить во фланг армиям союзников, которые, конечно же, пойдут на Париж и подставят свой фланг.
Императору Александру I и до этого поступала информация, и даже приезжали эмиссары от оппозиционеров, но он не доверял им. Теперь, убедившись по захваченной переписке, что враждебные силы действительно существуют и помогут наступающим, Александр I решил двинуть силы союзных армий на Париж, не ввязываясь в последний бой с главными силами французского императора. Взятие Парижа означало победный конец войны. Сам Наполеон воскликнул: «Если неприятель дойдёт до Парижа – конец империи!»
Роялисты-оппозиционеры (как троцкисты) занимали многие государственные посты, например, Талейран был верховным камергером – нечто равное нашему председателю правительства (Каменеву). Роялисты в Париже саботировали распоряжение Наполеона по организации обороны столицы, распространяли слухи, что русский император обещает французам неприкосновенность личности и имущества. «Русский царь берёт Париж под своё покровительство». Талейран (как наши перевёртыши) организовал государственный переворот и доложил русскому царю, что сенат лишил Наполеона престола, создал новое правительство. С этим правительством в дальнейшем Александр I и его союзники вели переговоры о мире.
Затем сенат провозгласил королём Людовика XVIII. В общем, контрреволюция состоялась. Этот пример подтверждает, если оппозицию («пятую колонну») вовремя не убрать, она может восторжествовать и привести к очень трагическим последствиям.
Леон Фейхтвангер, не будучи военным деятелем, очень точно и метко написал в своей книге: «Главной причиной, заставившей руководителей Советского Союза провести этот процесс перед множеством громкоговорителей, является, пожалуй, непосредственная угроза войны. Раньше троцкисты были менее опасны, их можно было прощать, в худшем случае – ссылать. Теперь, непосредственно накануне войны, такое мягкосердие нельзя было себе позволить. Раскол, фракционность, не имеющие серьёзного значения в мирной обстановке, могут в условиях войны представить огромную опасность».
Убедительно оправдывают Сталина в его репрессиях против врагов, слова человека с той, с зарубежной стороны, который по своему положению ни в коем случае не может считаться другом Советского Союза. Я имею в виду бывшего американского посла в СССР Джозефа Дэвиса. Вот что он писал в газете «Санди Экспресс» в 1941 году. После нападения Германии на Советский Союз его спросили: «А что Вы скажете относительно «пятой колонны» в России?» Он ответил: «У них таких нет, они их расстреляли». Дэвис говорит далее: «Значительная часть всего мира считала тогда, что знаменитые процессы изменников и чистки 1935-1938 гг. являются возмутительными примерами варварства, неблагоприятности и проявлением истерии. Однако в настоящее время стало очевидным, что они свидетельствовали о поразительной дальновидности Сталина и его близких соратников».
После подробного изложения планов Бухарина и его сподвижников – троцкистов – Дэвис пишет: «Короче говоря, план этот имел в виду полное сотрудничество с Германией. В качестве вознаграждения участникам заговора должны были разрешить остаться на территории небольшого, технически независимого Советского государства, которое должно было передать Германии Белоруссию и Украину, а Японии – приморские области и сахалинские нефтяные промыслы».
Дэвис заявляет также, что советское сопротивление, «свидетелями которого мы в настоящее время являемся (боевые действия 1941 года. – В.К), было бы сведено к нулю, если бы Сталин и его соратники не убрали предательские элементы».
Обобщая, подводя итог «сталинским репрессиям», оппоненты из троцкистов заявляют: Сталин уничтожил «ленинскую гвардию».
Так ли это? Вспомним, что говорил сам Ленин о «гвардии», которую репрессировал Сталин. Например, Зиновьева и Каменева ещё в 1917 году за предательство Ленин назвал «политическими проститутками», а в завещании писал: «Это не является случайностью». Следовательно, Ленин предвидел систематическую антипартийность Каменева и Зиновьева.
О Бухарине, наряду с его талантливостью, Ленин отмечает: «Его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нём есть нечто схоластическое, он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики».
О Пятакове Ленин пишет: «Он не тот человек, на которого можно было положиться в серьёзном политическом вопросе». Говорил и о самом «Иудушке Троцком», с его, по определению Ленина, «не большевизмом», «его борьбой против ЦК», «чрезмерной самоуверенностью» и «чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела», неоднократным предательством. Прежде всего этого была многотысячная Еврейская коммунистическая партия с её сионистской сутью, влитая в ВКП(б) усилиями троцкистов-перекрасившиеся эсеры, бундовцы и прочие, которые тоже стали объектом «сталинских репрессий».
Разве можно всех, перечисленных выше, называть «ленинской гвардией?» Наверное, более точное название этим проникшим в большевистскую партию было бы – «сионистская гвардия Троцкого».
И если это так (а это именно так), то «сталинские репрессии» обретают совсем иной смысл и направленность: Сталин вынужден был защищать страну и партию от враждебных действий оппозиционеров-заговорщиков. Он долго вел эту защиту в дискуссиях и спорах. И только когда встал вопрос о «дворцовом перевороте» и уничтожении большевиков-руководителей, Сталин перешёл к решительным мерам, которых требовала создавшаяся ситуация.
Результатом репрессий, проведённых Сталиным, был не только разгром троцкизма и всяких антисоветских и антирусских блоков и оппозиции – главная победа Сталина, по масштабам исторически стратегическая, фактически это разгром сионизма на территории Советского Союза. Одержав победу над сионизмом, Сталин избавил тем самым народы, населяющие Советский Союз, от порабощения не менее опасного, чем гитлеровское фашистское нашествие. Если бы победу в «политической войне» 20-х-30-х годов одержали троцкисты, ход истории в нашей стране сразу обрёл бы форму истинного порабощения и истребления коренного населения, наподобие того, что происходит сейчас, начиная с 90-х годов, в нашей стране. Об этом, например, красноречиво свидетельствует описанный выше троцкистско-сионистский разгром Русской Православной Церкви.
Многие страдания, горе и трудности всех народов населяющих Советскую страну, лежат на совести заговорщиков и предателей. Не будь их, строительство нового общества и жизнь людей, несомненно, проходили бы более благоприятно, безболезненно и плодотворно. Не было бы массового истребления коренных жителей России (в основном русских) при троцкистском извращении и насильственном насаждении коллективизации. Не истребляли бы кулачество как класс. Не сбивались бы с толку участники революции, и особенно молодые коммунисты, в бесконечных дискуссиях и провокационных обвинениях Сталина и его сторонников. Не было бы массовых арестов за антисоветские разговоры. Из-за этих спровоцированных троцкистами массовых арестов возникла у людей потребность самозащиты, которая проявилась в доносах, наушничестве, стукачестве, ложных обвинениях и прочих подлостях.
Переполненные тюрьмы и лагеря в 20-х и первой половины 30-х годов – это последствие деятельности оппозиционеров. Причём сами они порождали волну «преступлений» и сами же карали, находясь в органах НКВД, прокуратуры, судах и лагерях.
Из стенограмм судебных процессов 1937-1938 годов, из политической платформы правых, из их стратегии и тактики обнаруживается полное совпадение с политикой и практикой нынешних реформаторов в России. Но если у заговорщиков всё было в теории, то наши перестроечники-«демократы» осуществили это на практике. То есть в действительности они оказались наследниками троцкистов, оппозиционеров, заговорщиков.
Именно поэтому они прежде всего реабилитировали «врагов народа», осуждённых в показательных процессах 1937-1938 годов, они оказались их единоутробными братьями, единомышленниками.
Для Сталина, для законов, которые существовали в то время в СССР, троцкисты были и юридически и практически несомненными преступниками, чего они и сами не отрицали.
Следовательно, и репрессии были естественной ответной реакцией на преступления, вражескую деятельность троцкистов, контрреволюционеров и военных заговорщиков.
* * *
Читателям, наверное, интересно узнать, что думал, как оценивал сам Сталин деяния заговорщиков и судебные процессы 1937-1938 годов. В личном архиве Сталина сохранилась стенограмма его выступления на расширенном заседании Военного совета. Стенограмма неправленная, она пролежала в сейфе полвека и впервые была опубликована в 1994 году в журнале «Источник», № 3. Поскольку эта публикация дошла до немногих, привожу её в очень сокращённом виде – самую суть, из которой видно, что заговорщиков привлекли к ответственности на законном основании, а не по прихоти «тирана» и «диктатора», как это утверждают его многочисленные очернители.
Сталин в своём выступлении приводит много конкретных фактов преступных действий и имена их исполнителей. Опускаю всё это для краткости, оставляю лишь причины, по которым эти люди, по мнению Сталина, пошли на преступную измену и предательство.
Сталин: — Товарищи, в том, что военно-политический заговор существовал против Советской власти, теперь, я надеюсь, никто не сомневается. Факт, такая уйма показаний самих преступников и наблюдения со стороны товарищей, которые работают на местах, такая масса их, что несомненно здесь имеет место военно-политический заговор против Советской власти, стимулировавшийся и финансировавшийся германскими фашистами.
Прежде всего, обратите внимание, что за люди стояли во главе военно-политического заговора. Троцкий, Рыков, Бухарин – это, так сказать, политические руководители. К ним я отношу также Рудзутака, который также стоял во главе и очень хитро работал, путал всё, а всего-навсего оказался немецким шпионом, Карахан, Енукидзе.
Дальше идут: Ягода, Тухачевский – по военной линии, Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман, Гамарник – 13 человек. Что это за люди? Это очень интересно знать. Из них 10 человек шпионы. Троцкий организовал группу, которую прямо натаскивал, поучал: давайте сведения немцам, чтобы они поверили, что у меня, Троцкого, есть люди. Делайте диверсии, крушения, чтобы мне, Троцкому, японцы и немцы поверили, что у меня есть сила.
У нас нет данных, что Рыков сам информировал немцев, но он поощрял эту информацию через своих людей. С ним очень тесно были связаны Енукидзе и Карахан, оба оказались шпионами. Карахан с 1927 года и с 1927 года Енукидзе. Мы знаем, через кого они получали секретные сведения, через кого доставляли эти сведения – через такого-то человека из германского посольства в Москве. Знаем. Рыков знал всё это. У нас нет данных, что он сам шпион.
У нас нет данных, что Бухарин сам информировал, но с ним были связаны очень крепко и Енукидзе, и Карахан, и Рудзутак, они им советовали – информируйте, сами не доставляли.
У нас нет данных, что Гамарник сам информировал, но все его друзья, ближайшие друзья: Уборевич, особенно Якир, Тухачевский, — занимались систематической информацией немецкого генерального штаба.
Остальные – Енукидзе, Карахан, как я уже сказал. Ягода – шпион, и у себя в ГПУ имеет такие-то пороки. Чекистов таких он посылал за границу для отдыха. За эти пороки хватала этих людей немецкая разведка и завербовывала, возвращались они завербованными. Ягода говорил им: я знаю, что вас немцы завербовали, как хотите, либо вы мои люди, личные и работайте так, как я хочу, слепо, либо я передаю в ЦК, что вы – германские шпионы. Так он поступил с Гаем – немецко-японским шпионом. Он это сам признал. Эти люди признаются. Так он поступил с Воловичем – шпион немецкий, сам признаётся. Так он поступил с Паукером – шпион немецкий, давнишний, с 1923 года. Значит, Ягода. Дальше – Тухачевский. Вы читали его показания.
Голоса: — Да, читали.
Сталин: — Он оперативный план наш, оперативный план – наше святое святых передал немецкому рейхсверу. Имел свидание с представителями немецкого рейхсвера. Шпион? Шпион. Якир — систематически информировал немецкий штаб. Он выдумал себе эту болезнь печени. Может быть, он выдумал себе эту болезнь, а может быть, она у него действительно была. Он ездил туда лечиться. Уборевич – не только с друзьями, товарищами, но отдельно сам лично информировал. Карахан – немецкий шпион, Эйдеман – немецкий шпион. Карахан – информировал немецкий штаб, начиная с того времени, когда он был у них военным атташе в Германии.
Могут задать, естественно, такой вопрос – как это так, эти люди, вчера ещё коммунисты, вдруг стали сами оголтелым орудием в руках германского шпионажа? – А так, что они завербованы. Сегодня от них требуют – дай информацию. Не дашь – у нас есть уже твоя расписка, что ты завербован, опубликуем. Под страхом разоблачения они дают информацию. Завтра требуют: нет, этого мало, давай больше и получи деньги, дай расписку. После этого требуют – начинайте заговор.
Ядро, состоящее из 10 патентованных шпионов и 3 патентованных подстрекателей-шпионов. Ясно, что сама логика этих людей зависит от германского рейхсвера. Если они будут выполнять приказания германского рейхсвера, ясно, что рейхсвер будет толкать этих людей сюда. Вот подоплёка заговора. Это военно-политический заговор. Это собственноручное сочинение германского рейхсвера. Рейхсвер хочет, чтобы у нас был заговор, и эти господа систематически доставляли им военные секреты. Рейхсвер хочет, чтобы существующее правительство было снято, перебито, и они взялись за это дело, но не удалось. Рейхсвер хотел, чтобы в случае войны было всё готово, чтобы армия перешла к вредительству с тем, чтобы армия не была готова к обороне, этого хотел рейхсвер – и они это дело готовили.
Тухачевский особенно, который играл роль благородного человека, на мелкие пакости неспособного, воспитанного человека. Я его спрашиваю: как вы могли в течение 3 месяцев довести численность дивизии до 7 тысяч человек? Что это? Что за дивизия в 7 тысяч человек? Это либо дивизия без артиллерии, либо это дивизия с артиллерией без прикрытия. Вообще это не дивизия, это срам. Как может быть такая дивизия. Я у Тухачевского спрашивал, как вы, человек, называющий себя знатоком этого дела, как вы можете настаивать, чтобы численность дивизии довести до 7 тысяч человек и вместе с тем требовать, чтобы у нас дивизия была 60… 40 гаубиц и 20 пушек, чтобы мы имели столько-то танкового вооружения, такую-то артиллерию, столько-то миномётов? Здесь одно из двух, либо вы должны всю эту технику к чёрту убрать и одних стрелков поставить, либо вы должны только технику поставить. Он мне говорит: «Тов. Сталин, это увлечение». Это не увлечение, это вредительство, проводимое по заказам германского рейхсвера.
Вот тот же Гамарник. Видите ли, если бы он был контрреволюционером от начала до конца, то он не поступил бы так, потому что я бы на его месте, будучи последовательным контрреволюционером, попросил бы сначала свидания со Сталиным, сначала уложил бы его, а потом бы убил себя. Так контрреволюционеры поступают. Эти же люди были не что иное, как невольники германского рейхсвера, завербованные шпионы, и эти невольники должны были катиться по пути заговора, по пути шпионажа, по пути отдачи Ленинграда, Украины и т.д. Те командовали, давали приказы, а эти в поте лица выполняли. Этим дуракам казалось, что мы такие слепые, что ничего не видим. Они, видите ли, хотят арестовать правительство в Кремле. Оказалось, что мы кое-что видели. Они хотят в Московском гарнизоне иметь своих людей и вообще поднять войска. Они полагали, что никто ничего не заметит. Оказалось, что мы кое-что видели.
И вот эти невольники германского рейхсвера сидят теперь в тюрьме и плачут. Политики! Руководители!
Второй вопрос – почему этим господам так легко удалось завербовать людей? Вот мы человек 300-400 по военной линии арестовали. Среди них есть хорошие люди. Как их завербовали?
Сказать, что это способные, талантливые люди, я не могу. Сколько раз они поднимали открытую борьбу против Ленина, против партии при Ленине и после Ленина и каждый раз были биты. И теперь подняли большую кампанию и тоже провалились. Не очень уж талантливые люди, которые то и дело проваливались, начиная с 1921 г. и кончая 1937 г. Не очень талантливые, не очень гениальные.
Как это им удалось так легко вербовать людей? Это очень серьёзный вопрос. Я думаю, что они тут действовали таким путём – недоволен человек чем-либо, например, недоволен тем, что он бывший троцкист или зиновьевец и его не так свободно выдвигают, либо недоволен тем, что он человек неспособный, не управляется с делами и его за это снижают, а он себя считает очень способным. Очень трудно иногда человек думает, что он гениален, и поэтому обижен, когда его не выдвигают.
Начинали с малого, с идеологической группки, а потом шли дальше. Вели разговоры такие: вот, ребята, дело какое. ГПУ у нас в руках, Ягода в руках, Кремль у нас в руках, т.к. Петерсон с нами. Московский округ, Корк и Горбачёв тоже у нас. Все у нас. Либо сейчас выдвинуться, либо завтра, когда придём к власти, остаться на бобах. И многие слабые, нестойкие люди думали, что это дело реальное, чёрт побери, оно будто бы даже выгодное. Этак прозеваешь, за это время арестуют правительство, захватят Московский гарнизон и всякая такая штука, а ты останешься на мели (Весёлое оживление в зале).
Третий вопрос – почему мы так странно прошляпили это дело? Сигналы были. В феврале был Пленум ЦК. Всё-таки, как-никак, дело это наворачивалось, а вот всё-таки прошляпили, мало кого мы сами открыли из военных. В чём тут дело? Может быть мы малоспособные люди или совсем уж ослепли? Тут причина общая. Конечно, армия не оторвана от страны, от партии, а в партии, вам известно эти успехи несколько вскружили голову; когда каждый день успехи, планы перевыполняются, жизнь улучшается, политика будто бы неплохая, международный вес нашей страны растёт бесспорно, армия сама внизу и в средних звеньях, отчасти в верхних звеньях, очень здоровая и колоссальная сила, — всё это дело идёт вперёд, поневоле развинчивается, острота зрения пропадает, начинают люди думать, какого рожна ещё нужно? Чего не хватает?
Неужели же ещё при этих условиях кто-нибудь будет думать о контрреволюции? Есть такие мыслишки в головах. Но общая обстановка, рост наших сил, поступательный рост и в армии, и в стране, и в партии, вот они у нас притупили чувство политической бдительности и несколько ослабили остроту нашего зрения.
Успехи одни. Это очень большое дело – успехи. И мы все стремимся к ним. Но у этих успехов есть своя теневая сторона – самодовольство ослепляет. Вот тут говорили о сигнализации, сигнализировали. Я должен сказать, что сигнализировали очень плохо с мест. Плохо. Если бы сигнализировали больше, если бы у нас было поставлено дело так, как этого хотел Ленин, то каждый коммунист, каждый беспартийный считал бы себя обязанным о недостатках, которые замечает, написать своё личное мнение. Он так хотел. Но отсюда не всё видно. Думают, что центр должен всё знать, всё видеть. Нет центр, не всё видит, ничего подобного. Есть одно средство настоящей проверки – это проверка людей на работе, по результатам их работы. А это только местные люди могут видеть.
Ещё недостаток, в отношении проверки людей сверху. Не проверяют. Мы для чего организовали Генеральный штаб? Для того, чтобы он проверял командующих округами. А чем он занимается? Я не слыхал, чтобы Генеральный штаб проверял людей, чтобы Генеральный штаб нашёл у Уборевича что-нибудь и раскрыл все его махинации.
Такая практика не годится. Конечно, не любят иногда, когда против шерсти гладят, но это не большевизм. Но бывает и так, что не хотят обидеть командующего округом. Это неправильно, это гибельное дело. Генеральный штаб существует для того, чтобы он изо дня в день проверял людей, давал бы ему советы, поправлял. Проверить как следует.
Так могли происходить все эти художества: на Украине – Якир, здесь в Белоруссии – Уборевич.
И вообще нам не все их художества известны, потому что люди эти были предоставлены сами себе и что они там вытворяли, бог их знает!
Генштаб должен знать всё это, если он хочет действительно практически руководить делами. Я не вижу признаков того, чтобы Генштаб стоял на высоте с точки зрения подбора людей.
Дальше. Не обращали достаточного внимания, по-моему, на дело назначения на посты начальствующего состава. Вы смотрите, что получается. Ведь очень важным вопросом является, как расставить кадры.
Спустя рукава на это дело смотрели. Также не обращали должного внимания на то, что на посту начальника командного управления подряд за ряд лет сидели: Гаркавый, Савицкий, Фельдман, Ефимов. У них какая уловка практиковалась? Требуется военный атташе – представляют семь кандидатур, шесть дураков и один свой, он среди дураков выглядит умницей (Смех). Возвращают бумаги на этих шесть человек – не годится, а седьмого посылают. У них было много возможностей.
В чём основная слабость заговорщиков и в чём наша основная сила? Вот эти господа нанялись в невольники германского вредительства. Хотят они или не хотят, они катятся по пути заговора, размена СССР. Их не спрашивают, а заказывают, и они должны выполнять.
В чём их слабость? В том, что нет связи с народом. Боялись они народа, старались сверху проводить: там одну точку установить, здесь один командный пост захватить, там другой, там какого-либо застрявшего прицепить, недовольного прицепить. Они на свои силы не рассчитывали, а рассчитывали на силы германцев, полагали, что германцы их поддержат, а германцы не хотели поддерживать. Они думали: ну-ка заваривай кашу, а мы поглядим. Они боялись народа. Если бы вы прочитали план, как они хотели захватить Кремль, как они хотели обмануть школу ВЦИК. Одних они хотели обмануть, сунуть одних в одно место, других – в другое, третьих –в третье и сказать, чтобы охраняли Кремль, что надо защищать Кремль, а внутри они должны арестовать правительство. Днём, конечно, лучше, когда собираются арестовывать, но как это делать днём?
Слабенькие, несчастные люди, оторванные от народных масс, не рассчитывающие на поддержку народа, на поддержку армии, боящиеся армии и прятавшиеся от армии и от народа. Они рассчитывали на германцев и на всякие свои махинации: как бы школу ВЦИК в Кремле надуть, как бы охрану надуть, шум в гарнизоне произвести. На армию они не рассчитывали, вот в чём их слабость. В этом же и наша сила.
Говорят, как же – такая масса командующего состава выбывает из строя. Я вижу кое у кого смущение, как их заметить.
Голоса: — Чепуха, чудесные люди есть.
Сталин: — В нашей армии непочатый край талантов. В нашей стране, в нашей партии, в нашей армии непочатый край талантов. Не надо бояться выдвигать людей, смелее выдвигайте снизу.
Ворошилов: — Вот этот самый господчик Фельдман, я в течение ряда лет требовал от него: дай мне человек 150 людей, которых можно наметить к выдвижению. Он писал командующим, ждал в течение 2 ½, почти 3 лет. Этот список есть где-то. Нужно разыскать.
Будённый: — Я его видел, там все троцкисты, одни взятые уже, другие под подозрением.
(Вспомните доклад Фельдмана Гамарнику о том, как он спасал троцкистов, подставляя вместо них под репрессии невиновных командиров, по придуманному им О.У. Особому Учёту. – В.К).
Сталин: — Так как половину из них арестовали, то значит, нечего тут смотреть.
Поэтому надо искать и выращивать, если будут хорошие люди. Я думаю, что среди наших людей, как по линии командной, так по линии политической, есть ещё такие товарищи, которые случайно задеты. Рассказали ему что-нибудь, хотели вовлечь, пугали, шантажом брали. Хорошо внедрить такую практику, чтобы, если такие люди придут и сами расскажут обо всём, — простить их. Есть такие люди?
Голоса: — Безусловно. Правильно.
Сталин: — Кое-кого случайно задели. Кое-кто есть из выжидающих – вот рассказать этим выжидающим, что дело проваливается. Таким людям нужно помочь с тем, чтобы их прощать.
Ворошилов: — Положение их, между прочим, неприглядное; когда вы будете рассказывать и разъяснять, то надо рассказать, что теперь не один, так другой, не другой, так третий, всё равно расскажут, пусть лучше сами придут.
Сталин: — Простить надо. Даём слово простить, честное слово даём.
Из беседы Константина Симонова с Маршалом Советского Союза И.С. Коневым[2]
Барвиха, 24 февраля 1965 года
Разговор зашёл об оценке в печати и в разговорах той отрицательной роли, которую в подготовке к войне сыграли аресты 1937-1938 годов в армии. Я в ходе разговора разделил этот вопрос на три части, вернее на три проблемы, связанные друг с другом.
Первая – это избиение значительной части головки армии, то есть таких людей, как Тухачевский, Егоров, Якир, Уборевич, Корк, Блюхер, Дыбенко, Белов и ряда других.
Вторая проблема – это аресты в большинстве случаев с последующим уничтожением, примерно двух третей высшего начальствующего состава – от комбригов до комкоров включительно.
И наконец, третья проблема – это проблема воздействия самой атмосферы недоверия, — воздействие всего этого на моральный дух армии, на инициативу, на гражданское мужество, на умение, верней, решимость принять на себя ответственность в критической обстановке и так далее.
О второй и третьей проблемах мы говорили, в общем, мало, и к ним, очевидно ещё предстоит вернуться в разговорах. Хотя в общей форме Иван Степанович подтвердил, что всё это имело глубоко отрицательное влияние на начало войны. А что касается первой проблемы – уничтожение головки армии – он высказался более подробно.
По его мнению, когда берут эту проблему отторжённо и педалируют на ней, изображая дело так, что если бы десять, двенадцать, пять или семь человек не были бы оклеветаны и не погибли бы в тридцать седьмом – тридцать восьмом годах, то вся война выглядела бы по-другому, — это преувеличение. С его точки зрения, если оценивать военный опыт, военный уровень и перспективы этих людей, то тут нужно подходить индивидуально к каждому.
Блюхер, по его мнению, был к тридцать седьмому году человеком с прошлым, но без будущего, человеком, который по уровню своих знаний, представлений недалеко ушёл от гражданской войны и принадлежал к той категории, которую представляли собой к началу войны Ворошилов, Будённый и некоторые другие бывшие коноармейцы, жившие не современными, прошлыми взглядами. Представить себе, что Блюхер справился бы в современной войне с фронтом, невозможно. Видимо, он с этим справился бы не лучше Ворошилова или Будённого.
Во всяком случае такую небольшую операцию, как Хасанские события, Блюхер провалил. А кроме того, последнее время он вообще был в тяжёлом моральном состоянии, сильно пил, опустился.
Тухачевский по мнению И.С. Конева, человек даровитый, сильный, волевой, теоретически хорошо подкованный. Это его достоинства. К его недостаткам принадлежал известный налёт авантюризма, который проявился ещё в польской кампании, в сражении под Варшавой.
И.С. Конев говорил, что он подробнейшим образом изучил эту кампанию и, каковы бы ни были ошибки Егорова, Сталина на Юго-Западном фронте, целиком сваливать на них вину за неудачу под Варшавой у Тухачевского не было оснований. Само его движение с оголёнными флангами, с растянувшимися коммуникациями и всё его поведение в этот период не производят солидного положительного впечатления. По мнению И.С. Конева, некоторые замашки бонопартистского оттенка были у Тухачевского и потом. Но главным недостатком Тухачевского он считает, что тот не прошёл ступень за ступенью всю военную лестницу и хотя некоторое время был командующим округом, но непосредственно войсками командовал мало, командного опыта после гражданской войны имел недостаточно. Тем не менее если подводить итоги, то, Тухачевского можно представить себе на одном из высших командных постов во время Великой Отечественной войны с пользой для дела.
Якир, по мнению Конева, человек умный, со способностями, но без настоящей военной школы, без настоящего военного образования, не лишённый блеска, но не обладавший сколько-нибудь основательным военным опытом для руководства операциями крупного масштаба. Его Конев с трудом представляет себе в роли, скажем, командующего фронта на Великой Отечественной войне.
Егорова и Корка он считает людьми средних способностей, образованными, знающими, выдержанными, но не обладавшими сколько-нибудь заметными военными дарованиями.
Дыбенко и Белова он относит к той категории людей, таких, как Ворошилов и как Будённый, которые в военном отношении были целиком в прошлом, в гражданской войне, и, будь они живы, они были бы обречены на то, чтобы показать в условиях большой войны свою отсталость и беспомощность.
Самым крупным военным деятелем из числа всех погибших И.С. Конев считает Уборевича, оценивает его чрезвычайно высоко. Высоко оценивает его опыт в период гражданской войны. Высоко оценивает его как командующего округом, как человека прекрасно знавшего войска, пристально и умело занимавшегося боевой подготовкой, умевшего смотреть вперёд и воспитывать кадры. Плюс ко всему сказанному, по мнению И.С. Конева, Уборевич был человеком с незаурядным военным дарованием, в его лице наша армия понесла самую тяжёлую потерю, ибо этот человек мог и успешно командовать фронтом, и вообще быть на одной из ведущих ролей в армии во время войны.
Потом И.С. Конев говорил о том, что в общем в Отечественную войну, которая произвела отбор кадров, выдвинулись люди, хотя в большинстве своем и участвовавшие в гражданской войне, но без громкого прошлого за плечами. Это прошлое на них не давило, не навязывало им своих концепций, не заставляло смотреть назад – в гражданскую войну. Они заканчивали оформляться как военачальники уже после гражданской войны, проходили одну за другой нормальные ступени службы и именно поэтому шли вперёд, а не останавливались на месте и не жили старым. И то, что из числа именно этих людей выдвинулись все ведущие кадры Великой Отечественной войны, не случайно.
И.С. Конев говорил о том, как после тридцать седьмого года Сталин приглядывался к оставшимся кадрам и брал на заметку людей, которых он собирался выдвигать, на которых собирался делать ставку в будущей войне. Сам он, Конев, ощущал на себе внимание Сталина и его заинтересованность.
К таким людям, по его мнению, принадлежали в равной мере Жуков, за выдвижением которого Сталин очень следил и выдвижению которого активно помогал; Павлов, который не оправдал ожиданий Сталина, растерялся в первые дни войны на Западном фронте, но с которым до этого Сталин связывал большие надежды; Маркиан Попов, с которым Сталин тоже связывал большие надежды и не ошибался с точки зрения военных данных этого человека, но Попов сам помешал себе выдвинуться своим всё усиливавшимся год от года пьянством.
И.С. Конев проводил мысль, что полноценного военачальника, способного командовать крупными соединениями может создать только долгая военная школа, прохождение целого ряда её ступеней – неторопливое, основательное, связанное с устойчивой любовью к пребыванию в войсках, проведению учений, к непосредственному командованию, к действиям в поле.
Он, отзываясь о ряде людей, давал понять, что без этого разносторонний человек, с хорошим военным образованием, волевой и имеющий свой почерк в действиях на поле боя не может родиться. Одной штабной подготовки, длительной службы в штабах для этого недостаточно. Без того, чтобы покомандовать полком, дивизией, корпусом трудно стать командармом и командующим фронтом.
* * *
И.С. Конев сказал, что никогда не ощущал как необходимость приездов Сталина на фронт и поэтому и не ждал их и не ставил в упрёк Сталину то, что он этого не делает. В этом не было никакой нужды. Находясь в Москве, в Ставке Верховного главнокомандования, Сталин был именно в том месте, где он и должен был находиться, откуда он мог управлять всем, чем ему должно было управлять. Он не был человеком поля, он неважно разбирался в топографии, не чувствовал её. Он воспринимал географию, большие категории, крупные населённые пункты, общую стратегическую обстановку, и, для того чтобы разобраться в этих вопросах, руководить, исходя из этого, ему не было никакой необходимости выезжать на фронт.
О себе И.С. Конев сказал, что к началу войны он безгранично верил Сталину, любил его, находился под его обаянием.
Первые сомнения, связанные со Сталиным, первые разочарования возникли в ходе войны.
Взрыв этих чувств был дважды. В первые дни войны, в первые её недели, когда он почувствовал, что происходит что-то не то, ощутил утрату волевого начала, которое исходило от Сталина. Да, у него было тогда ощущение, что Сталин в начале войны растерялся. И второй раз такое же ощущение ещё более сильное, было в начале Московского сражения, когда Сталин, несмотря на явную очевидность этого, несмотря на обращение фронта к нему, не согласился на своевременный отвод войск на можайский рубеж, а потом, когда развернулось немецкое наступление и обстановка стала крайне тяжёлой, почти катастрофической, Сталин тоже растерялся.
Именно тогда он позвонил на Западный фронт с почти истерическими словами о себе в третьем лице: «Товарищ Сталин не предатель, товарищ Сталин не изменник, товарищ Сталин честный человек, вся его ошибка в том, что он слишком доверился кавалеристам, товарищ Сталин сделает всё, что в его силах, чтобы исправить сложившееся положение».
Вот тут И.С. Конев почувствовал крайнюю растерянность Сталина, отсутствие волевого начала.
А когда на фронт приехал с комиссией Молотов, который, вообще-то говоря, человек крайне неумный, и те кто о нём жалеет, просто плохо знают его, – вот тогда при участии Молотова попытались свалить всю вину на военных, объявить их ответственными за создавшееся положение, — вот тут у Конева возникло ощущение, что Сталин не соответствует тому представлению о нём, которое сложилось у него, Конева, представлению о чём-то бесконечно сильном. Представление это оставалось, но за ним стоял растерявшийся в тот момент человек. Растерявшийся и во многом виновным.
Но вины считать было не время, и в обстановке этого вакуума, растерянности надо было возмещать своими волями отсутствие воли сверху и делать всё возможное для спасения положения.
* * *
6 марта 1965 года
При моём назначении на Степной фронт (в 1943 году во время Курской операции. – А.М.) Сталин вдруг задал мне вопрос: — А Захаров вам нужен?
Меня такой вопрос насторожил. Почему он об этом спрашивает?
— Как вы его оцениваете? – спросил Сталин прежде, чем я успел ответить.
— Высоко оцениваю, — ответил я. – Он у меня был начальником штаба на Калининском фронте. Это сильный начальник штаба, я его хорошо знаю, положительно оцениваю.
Сталин обратился к присутствующему здесь же Жукову: — А как вы оцениваете Захарова?
— Я согласен с Коневым в оценке Захарова.
Тогда Сталин расхохотался и говорит:
— Ну вот видите, какие мнения – высоко оцениваете его, хороший начальник штаба, а Мехлис поставил вопрос о его снятии, о том, что он ему не доверяет!
Так Захаров остался начальником штаба Степного фронта – он пошёл на эту должность до моего назначения, — а я узнал ещё об одном очередном художестве Мехлиса.
Однажды летом сорок второго года вдруг Сталин звонит ко мне на фронт и спрашивает:
— Можете ли вы приехать?
— Могу.
— Приезжайте.
Я был тогда на Калининском фронте. Взял самолёт, прилетел в Москву. Являюсь к Сталину. У него Жуков и, уже не могу вспомнить, кто-то ещё из нашего брата. Сталин с места в карьер спрашивает меня:
— Пьесу Корнейчука «Фронт» в «Правде» читали?
— Читал, товарищ Сталин.
— Какое ваше мнение?
— Очень плохое, товарищ Сталин.
— Почему плохое?
Чувствую, что попадаю не в тон настроения, но уже начал говорить – говорю дальше. Говорю, что неправильно, вредно так высмеивать командующего фронта. Если плохой командующий, в вашей власти его снять, но когда командующего фронтом шельмуют, высмеивают в произведении, напечатанном в «Правде», это уже имеет не частное значение, речь идёт не о ком-то одном, это бросает тень на всех.
Сталин сердито меня прервал:
— Ничего, вы не понимаете. Это политический вопрос, политическая необходимость. В этой пьесе идёт борьба с отжившим, устарелым, с тем, кто тянет нас назад. Это хорошая пьеса, в ней правильно поставлен вопрос.
Я сказал, что по-моему, в пьесе много неправды. В частности, когда Огнев, назначенный вместо командующего фронтом, сам вручает ему предписание о снятии и о своём назначении, то это, с точки зрения любого военного, не лезет ни в какие ворота, так не делается. Тут у меня сорвалась фраза, что я не защищаю Горлова, я скорей из людей, которых подразумевают под Огневым, но в пьесе мне всё это не нравится.
— Ну да, вы Огнев! Вы не Огнев, вы зазнались. Вы военные, вы всё понимаете, вы всё знаете, а мы гражданские, не понимаем. Мы лучше вас это понимаем, что надо и что не надо.
Он ещё несколько раз возвращался к тому, что я зазнался, и пушил меня, горячо настаивая на правильности и полезности пьесы Корнейчука. Потом он обратился к Жукову:
— А вы какого мнения о пьесе Корнейчука?
Жукову повезло больше, чем мне: оказалось, что он ещё не читал этой пьесы так что весь удар в данном случае пришёлся ко мне.
Однако – и это характерно для Сталина – потом он дал указание: всем членам Военных советов фронтов опросить командующих и всех высших генералов, какого они мнения о пьесе Корнейчука. И это было сделано. В частности, Булганин разговаривал у нас на фронте с командующим артиллерией Западного фронта генералом Камерой. Тот ему резанул со всей прямотой: «Я бы не знаю, что сделал с этим писателем, который написал эту пьесу. Это безобразная пьеса, я бы с ним разделался за такую пьесу». Ну, это, разумеется, пошло в донесение, этот разговор с Камерой.
В следующий мой приезд в Москву Сталин спрашивает меня, кто такой Камера. Пришлось долго убеждать его, что это хороший, сильный командующий артиллерией фронта с большими заслугами в прошлом, таким образом отстаивать Камеру. Это удалось сделать, но, повернись всё немного по-другому, отзыв о пьесе Корнейчука мог ему дорого обойтись.
* * *
Очень интересной была реакция Сталина на наше предложение присвоить ему звание Генералиссимуса. Это было уже после войны на заседании Политбюро, где обсуждался этот вопрос, присутствовали Жуков, Василевский, я и Рокоссовский (если не ошибаюсь).
Сталин сначала отказывался, но мы настойчиво выдвигали это предложение. Я дважды говорил об этом. И должен сказать, что в тот момент искренне считал это необходимым и заслуженным. Мотивировали мы тем, что по статусу русской армии полководцу, одержавшему большие победы, победоносно окончившему кампанию присваивается такое звание.
Сталин несколько раз прерывал нас, говорил:
«Садитесь», а потом сказал о себе в третьем лице:
— Хотите присвоить товарищу Сталину генералиссимуса. Зачем это нужно Сталину? Товарищу Сталину это не нужно. Товарищ Сталин и без этого имеет авторитет. Товарищу Сталину не нужны никакие звания для авторитета. Это вам нужны звания для авторитета. Подумаешь, нашли звание для товарища Сталина – генералиссимус. Чан Кайши – генералиссимус. Франко – генералиссимус. Нечего сказать, хорошая компания для товарища Сталина. Вы маршалы, и я маршал, вы что, меня хотите выставить из маршалов? В какие-то генералиссимусы? Что это за звание? Переведите мне.
Пришлось тащить разные исторические книги и статуты и объяснить, что это в четвёртый раз в истории русской армии после Менщикова и ещё кого-то, и Суворова.
В конце концов он согласился. Но во всей этой сцене была очень характерная для поведения Сталина противоречивость: пренебрежение ко всякому блеску, ко всякому формальному чинопочитанию и в то же время чрезвычайное высокомерие, прятавшейся за той скромностью, которая паче гордости.
* * *
Вы знаете, какая вещь? Сталин очень верил людям, как это ни странно звучит. Он был очень доверчивым человеком. Это была своеобразная сторона его мании величия, его очень высокого мнения о самом себе. И, когда он смотрел на человека, разговаривал с ним, он считал, что человек, глядя ему в глаза, не может ему соврать, что он должен сказать ему правду и говорит правду. Вот почему он оказывался доверчивым, и люди преспокойно ему лгали и втирали очки.
И вы не совсем правы, когда говорите, что Сталин знал цену Ежову, Берии, всегда знал, и что они были просто оружием в его руках. Это, с одной стороны, так, а с другой стороны, они его и обманывали. В особенности Берия. Это был человек умный, хитрый, сильный, и он был большой мастер втирать очки. Такой авантюрист, который шёл на всё. И Сталину он втирал очки. Тот считал, что он его не может обмануть, а он его преспокойно обманывал. А Сталин ему доверял. А к старости особенно. Тут сказывалась к старости и национальная черта, возвращалась привязанность национальная: говорил с ним на одном языке – это всё тоже играло роль.
28 апреля 1965 г.
Через некоторое время, когда Уборевич был назначен командующим Белорусским военным округом, он забрал меня туда командиром 37-й стрелковой дивизии. Там во время учений в присутствии иностранных гостей я отказался от принятого тогда метода рыть одиночные ячейки и организовал целый укреплённый район с отрытием траншей и ходов сообщения, с возможностью полного маневрирования внутри района, не поднимая головы выше уровня земли.
Оборудовал командный пункт, на который, кстати сказать, приводили тогдашнего начальника штаба французской армии генерала Гелена, показывали ему как образцовый командный пункт.
(Вместе с тем оборудование сплошных траншей и ходов сообщения было известно и широко применялось в Царской армии, но «почему-то забыто»? В ходе Великой Отечественной войны всё быстро вспомнили и повсеместно применяли. – А.М).
Поездка в Брест
сентябрь 1965 года
Перед тем как Жукова первый раз снимали, было заседание Главного военного совета с участием всех маршалов. На нём выступал Сталин. Сталин очень резко говорил о Жукове. Говорил, что он неправильно ведёт себя, что у него есть высказывания против правительства, что он преувеличивает свою роль в войне, делает вид, что все победы связаны с ним, даёт интервью в иностранную печать.
— Вы читали, что там пишут? – спрашивал Сталин.
Мы, конечно, не читали, что там пишут. В общем обвинения были самые грозные. И самое грозное сводилось к тому, что Жукову было брошено обвинение, что он плохо отзывается о правительстве. Смысл этого обвинения состоял в том, что он выступает, можно сказать, против правительства.
В речи Сталина проводились в частности, показания в то время арестованного и сидевшего Новикова. После Сталина выступали Берия, Каганович. Они подбавляли жару, говорили то же самое, развивали его мысли.
Жуков сидел потрясённый всем этим, бледный. Потом Сталин обратился к нам:
— Ну, а вы что скажете?
Я попросил слова. Обстановка для выступления после того, что говорил Сталин, была тяжёлая. Но я всё же сказал, что, конечно, у Жукова есть ошибки и были ошибки, что с ним трудно работать, что он бывает резок, нетерпим, самолюбив. Но что я считаю – а я глубоко убеждён в этом, — что Жуков честный человек, то что там написано про то, что он якобы говорил про правительство, это неправда. Он предан правительству, предан стране. Человек, который не был бы предан стране, не стал бы ползать под огнём на войне, рискуя жизнью, выполняя ваши указания, — это я обратился к Сталину. И в заключение ещё раз повторил, что глубоко верю в честность Жукова.
После меня выступал Павел Семёнович Рыбалко. Он вообще человек решительный, твёрдый, и он сказал о Жукове, тоже критикуя его за недостатки, в целом положительно, подчеркнув его честность и преданность Родине. Затем выступал Соколовский, он говорил несколько более уклончиво, но в общем, надо отдать ему должное, тоже в целом сказал в защиту Жукова.
Потом выступал Рокоссовский. Говорил витиевато. Мне почувствовалось в его словах обида на то, что в своё время Жуков сдвинул, заменил его на 1-м Белорусском фронте, и ему пришлось перейти на второстепенный – 2-й Белорусский фронт. Хотя, конечно, с точки зрения масштабов командующих фронтами это, на мой взгляд, величины несоизмеримые и сделано это было правильно.
Выступали и другие. Потом взял слово Сталин. Да, когда я выступил, он в конце бросил мне реплику:
— Вот вы говорите тут. А вы знаете, что Жуков пытался присваивать вашу победу под Корсунь-Шевченковским? Говорил, что это результат его деятельности.
Я на это ответил, что я не знаю, не слышал. И что вопрос этот для меня несомненный. И кто бы что ни говорил на эту тему – тут история разберётся, на этом сел.
Вот после всех выступлений выступал Сталин. Он опять говорил резко, но уже несколько по-другому. Видимо, поначалу у него был план ареста Жукова после этого Военного совета. Но, почувствовав наше внутреннее, да и не только внутреннее сопротивление, почувствовав известную солидарность военных по отношению к Жукову и оценке его деятельности он, видимо сориентировался и отступил от первоначального намерения. Так мне показалось.
В итоге Жуков был снят со своего поста и назначен командующим Одесским Военным округом.
Так проходил этот Военный совет. Он должен много дать для понимания всей последующей обстановки в армии, многих личных отношений, сложившихся впоследствии. Историкам, которые этим будут заниматься, надо найти и прочесть протокол этого Военного совета.
Из бесед Константина Симонова с адмиралом флота Советского Союза И.С. Исаковым[3]
21 мая 1962 года
Человек, рассказывавший мне всё это, стремился быть предельно объективным, стремился рассказать о разных чертах Сталина – и привлекавших и отталкивавших. Воспоминания касались главным образом предвоенных лет, отчасти военных. Буду приводить их так, как запомнил, не, соблюдая последовательности.
По-моему, это было вскоре после убийства Кирова. Я в то время состоял в одной из комиссий, связанных с крупным военным строительством. Заседания этой комиссии происходили регулярно каждую неделю – иногда в кабинете у Сталина, иногда в других местах. После таких заседаний бывали иногда ужины в довольно узком кругу или смотрели кино, тоже в довольно узком кругу. Смотрели и одновременно выпивали и закусывали.
В тот раз, о котором я хочу рассказать, ужин происходил в одной из нижних комнат: довольно узкий зал, сравнительно небольшой, заставленный со всех сторон книжными шкафами. А к этому залу от кабинета, где мы заседали, вели довольно длинные переходы с несколькими поворотами. На всех этих переходах, на каждом повороте стояли часовые – не часовые, а дежурные офицеры НКВД. Помню, после заседания пришли мы в этот зал, и, ещё не садясь за стол, Сталин вдруг сказал: «Заметили сколько их там стоит? Идёшь каждый раз по коридору и думаешь: кто из них? Если вот этот, то будет стрелять в спину, а если завернёшь за угол, то следующий будет стрелять в лицо. Вот так идёшь мимо них по коридору и думаешь».
Я, как и все слушал это в молчании. Тогда этот случай меня потряс. Сейчас, спустя много лет, он мне кое-что, пожалуй, объясняет в жизни и поведении Сталина, не всё, конечно, но кое-что.
Второй случай.
Я вернулся из поездки на Север. Там строили один военный объект, крупное предприятие. А дорога к этому объекту никуда не годилась. Сначала там через болото провели шоссе, которое было, как подушка, и всё шевелилось, когда проезжали машины, а потом, чтобы ускорить дело, не закончив строительство железной дороги, просто положили на это шоссе сверху железнодорожное полотно.
Я был в составе комиссии, руководитель комиссии не имел касательства к Наркому путей сообщения, поэтому не был заинтересован в дороге. Несмотря на мои возражения, докладывая Сталину, он сказал, что всё хорошо, всё в порядке, и формально был прав, потому что по линии объекта, находившегося непосредственно в его подчинении, всё действительно было в порядке, а о дороге он даже не заикнулся. Тогда я попросил слова и, горячась, сказал, об этой железнодорожной ветке, о том, что это не лезет ни в какие ворота, что так мы предприятия не построим и что вообще эта накладка железнодорожных путей на шоссе, причём единственное, — не что иное, как вредительство.
Сталин дослушал до конца, потом сказал спокойно: «Вы довольно убедительно товарищ Исаков проанализировали состояние дела. Действительно, объективно говоря, эта дорога в таком виде, в каком она сейчас есть, не что иное как вредительство. Но прежде всего тут надо выяснить, кто вредитель? Я – вредитель. Я дал указание построить эту дорогу. Доложили мне, что другого выхода нет, что это ускорит темпы, подробностей не доложили, доложили в общих чертах. Я согласился для ускорения темпов. Так что вредитель в данном случае я. Восстановим истину. А теперь давайте принимать решение, как быть в дальнейшем».
Это был один из многих случаев, когда он демонстрировал и чувство юмора, в высшей степени ему свойственное, очень своеобразного юмора, и в общем-то способность сказать о своей ошибке или заблуждении, сказать самому.
Третий случай.
Стоял вопрос о строительстве крупных кораблей.
Был спроектирован линкор, по всем основным данным первоклассным в то время. В тоже время на этом линкоре было запроектировано всего шесть крупнокалиберных орудий. Происходило заседание в Совете Труда и Обороны (СТО) под председательством Сталина.
Докладывала комиссия. Ну доложили, я был не согласен и долго до этого боролся на разных этапах, но сломить упорство моих коллег по комиссии не мог. Пришлось говорить здесь. Я сказал, что на английских линкорах менее мощного типа ставится не менее двенадцати зенитных орудий, а если мы не учитывая развитие авиации, её перспективы, поставим на наши новые линкоры такое малое количество крупнокалиберных орудий, то этим самым обречём их на то, что их потопит авиация и миллиарды пустим на ветер. Лучше затратить большие деньги, но переделать проект.
Со мной стали спорить, я тоже спорил и, горячась, спорил.
Последний гвоздь в мой гроб забил Ворошилов, сказавший: «Что он хочет? На ростовском мосту, на котором сидит весь Кавказ и всё Закавказье, все коммуникации – на нём у нас стоят восемь зенитных орудий. А на один линкор ему мало шести». Это всем показалось убедительным.
Я был подавлен, отошёл в сторону, сел на стул.
И вдруг, как иногда человека выводят из состояния задумчивости шум, так меня вывела внезапно установившаяся тишина. Я поднял глаза и увидел, что передо мной стоит Сталин.
— Зачем товарищ Исаков такой грустный? А?
Тишина установилась двойная, во-первых, оттого, что он подошёл ко мне, во-вторых, оттого, что он заговорил.
— Интересно, — повторил он, — почему товарищ Исаков такой грустный?
Я встал и сказал:
— Товарищ Сталин, я высказал свою точку зрения, её не приняли, а я её по-прежнему считаю правильной.
— Так, — сказал он и отошёл к столу, — значит, утверждаем в основном проект? Все хором сказали, что утверждаем. Тогда он сказал:
— И внесём туда одно дополнение: с учётом установки дополнительно ещё четырёх зенитных орудий того же калибра. Это вас будет устраивать, товарищ Исаков?
— Да, конечно, спасибо, товарищ Сталин.
— Значит, так и запишем, — заключил он заседание.
Надо сказать, что он вёл заседания по принципу классических военных советов. Очень внимательно, неторопливо, не прерывая, не сбивая, выслушивал всех. Причём старался дать слово примерно в порядке старшинства, так, чтобы высказанное предыдущим не сдерживало последующего. И только в конце, выловив всё существенное из того, что говорилось, отметя крайности, подводил итоги.
И ещё одна история.
Это было тоже в середине тридцатых годов. Не помню, кажется, это было после парада 1 мая, когда принимались участники парада.
Ну это так называется «участники парада», это были не командиры дивизий и полков, прошедших на параде, а верхушка командования.
Помню, что в этот раз речь зашла о скорейшем развёртывании строительства Тихоокеанского флота, а я по своей специальности был в какой-то мере причастен к этим проблемам. Был ужин. За ужином во главе стола сидел Сталин и рядом с ним сидел Жданов. Жданов вёл стол, а Сталин довольно явственно подсказывал, за кого и когда пить и о ком (в известной мере даже что) говорить.
Уже довольно много выпили. А я, хотя вообще умею хорошо пить и никогда пьян не бываю, на этот раз вдруг почему-то очень крепко выпил.
Однако когда Сталин, вернее Жданов по подсказке Сталина и притом в обход моего прямого начальства, сидевшего рядом со мной, за которого ещё не пили, поднял тост за меня, я в ответ встал и тоже выпил.
Все уже стали вставать из-за столов, всё смешалось, и я подошёл к Сталину. Меня просто потянуло к нему, я подошёл к нему и сказал:
— Товарищ Сталин! Наш Тихоокеанский флот в мышеловке. Это всё не годится. Он в мышеловке. Надо решать вопрос по-другому.
И взял его под руку и подвёл к громадной карте. Видимо, эта карта Дальневосточного театра и навела меня на эту пьяную мысль: именно сейчас доказать Сталину необходимость решения некоторых проблем, связанных со строительством Тихоокеанского флота. Я подвёл его к карте и стал показывать, в какую мышеловку попадёт наш флот из-за того, что мы не вернём Сахалин. Я ему сказал:
— Без Южного Сахалина там, на Дальнем Востоке, большой флот строить невозможно и бессмысленно. Пока мы не возвратим этот Южный Сахалин, до тех пор у нас всё равно не будет выхода в океан.
Он выслушал меня довольно спокойно, а потом сказал:
— Подождите, будет вам Южный Сахалин!
Но я воспринял это, как шутку, и снова стал убеждать его с пьяным упорством, что флот наш будет в ловушке на Дальнем Востоке, что нам нужно обязательно, чтобы у нас был Южный Сахалин, что без этого нет смысла строить там большой флот.
— Да я же говорю вам: будет у нас Южный Сахалин! – повторил он уже немного сердито, но в то же время усмехаясь.
Я стал говорить что-то ещё, тогда он подозвал людей, да, собственно, их и звать не надо было, все столпились вокруг нас, и сказал:
— Вот, понимаете, требует от меня Исаков, чтобы мы обладали Южным Сахалином. Я ему отвечаю, что будем обладать, а он не верит мне.
Этот разговор вспомнился мне потом, в сорок пятом. Тогда он мне вспомнился, не мог не вспомниться.
Ещё одно воспоминание.
Сталин в гневе был страшен, вернее опасен, трудно было на него смотреть в это время и трудно было присутствовать при таких сильных вспышках гнева, но всё происходило не так, как можно себе представить, не зная этого.
Вот одна из таких вспышек гнева, как это выглядело. Это происходило на Военном совете, незадолго до войны, совсем незадолго, перед самой войной. Речь шла об аварийности в авиации, аварийность была большая. Сталин по своей привычке, как обычно на таких заседаниях, курил трубку и ходил вдоль стола, приглядываясь к присутствующим, иногда глядя в глаза, иногда в спины.
Давались то те, то другие объяснения аварийности, пока не дошла очередь до командовавшего тогда военно-воздушными силами Рычагова. Он был, кажется генерал-лейтенантом, вообще был молод, а уж выглядел совершенным мальчишкой по внешности. И вот когда до него дошла очередь, он вдруг говорит:
— Аварийность и будет большая, потому что вы заставляете нас летать на гробах.
Это было совершенно неожиданно, он покраснел, сорвался, наступила абсолютная гробовая тишина. Стоял только Рычагов ещё не отошедший после своего выкрика, багровый и взволнованный, и в нескольких шагах от него стоял Сталин. Вообще-то он ходил, но когда Рычагов сказал это, Сталин остановился.
Скажу своё мнение. Говорить это в такой форме на Военном совете не следовало. Сталин много усилий отдавал авиации, много ею занимался и разбирался в связанных с нею вопросах довольно основательно, во всяком случае, куда более основательно, чем большинство людей, возглавлявших в то время Наркомат обороны. Он гораздо лучше знал авиацию. Несомненно эта реплика Рычагова в такой форме прозвучала для него личным оскорблением, и это все понимали. Сталин остановился и молчал. Все ждали, что будет.
Он постоял, потом пошёл мимо стола, в том же направлении, в каком и шёл. Дошёл до конца, повернулся, прошёл всю комнату назад в полной тишине, снова повернулся и вынув трубку изо рта, сказал медленно и тихо, не повышая голоса:
— Вы не должны были так сказать!
И пошёл опять. Опять дошёл до конца, повернулся снова, прошёл всю комнату, опять повернулся и остановился почти на том же самом месте, что и в первый раз, снова сказал тем же низким спокойным голосом:
— Вы не должны были так сказать, — и, сделав кромешную паузу, добавил: — Заседание закрывается. И первым вышел из комнаты.
Ни завтра, ни послезавтра, ни через два дня, ни через три ничего не было. А через неделю Рычагов был арестован и исчез навсегда.
Вот так это происходило. Вот так выглядела вспышка гнева у Сталина. Когда я сказал, что видел Сталина во гневе только несколько раз, надо учесть, что он умел прятать свои чувства, и умел это очень хорошо. Для этого у него были давно выработанные навыки. Он ходил, отворачивался, смотрел в пол, курил трубку, возился с ней. Всё это были средства для того, чтобы сдержать себя, не проявить своих чувств, не выдать их. И это надо было знать для того, чтобы учитывать, что значит в те или иные минуты это его мнимое спокойствие.
После этого Исаков рассказал мне о том, как он был дважды поздней осенью, вернее, зимой сорок первого года у Сталина в его подземном кабинете в Кремле – и оба раза Исаков был там во время воздушных тревог, в часы, когда Сталин спускался туда. Любопытная подробность, что из себя представлял этот кабинет: ход туда был обыкновенный, забетонированный, со всеми полагающимися в таких случаях устройствами, но когда вы из тамбура входили в самый кабинет, то вы как бы оказывались не внизу, а наверху.
Это был точно такой же кабинет, как кабинет Сталина в ЦК. Такие же высокие дубовые панели, такой же стол, стулья, такой же письменный стол, те же портреты Ленина и Маркса на стене, и даже гардины висели такие же самые, закрывая несуществующие окна. Только (это даже не сразу бросалось в глаза) площадь кабинета была раза в два меньше того, верхнего.
Одна из встреч в этом кабинете была очень короткой. Это было через несколько дней после начала войны между Японией и Америкой. Сталин поздоровался с Исаковым, пожал ему руку и сказал:
— Поезжайте на Дальний Восток. Посмотрите, как там обстоят дела, чтобы японцы не устроили там тоже Перл-Харбор. Ясна вам задача?
— Ясна.
— Поезжайте.
Вот и весь разговор. Задача была действительно ясна. На этом свидании присутствовал и Апанасенко, в то время командующий Дальневосточным фронтом. Он просил танков, указывая, что у японцев в составе Квантунской армии большие танковые силы, а у нас на Дальнем Востоке совершенно нет новых танков Т-34.
Сталин сказал:
— Нет, мы не можем дать вам танки. Он ещё не воюет, а хочет танков! Танки нам здесь нужны, где мы воюем: нам их и здесь не хватает.
Потом обратился, как помнится Исакову, к Шапошникову и сказал:
— Нам танки надо будет дать всё-таки товарищу Апанасенко, чтобы они знали, что такое «тридцатьчетвёрки», чтобы обучались ими владеть, чтобы можно было пропустить часть людей через эти танки.
Второй раз Исаков был в этом подземном кабинете уже в конце зимы сорок первого — сорок второго года, после возвращения с Дальнего Востока. Рассказывая об этом мой собеседник перешёл к тому впечатлению, которое произвёл на него Сталин в эти два посещения.
За две недели до войны я докладывал Сталину по разным текучим вопросам. Я помню это свидание и абсолютно уверен, что Сталин был тогда совершенно убеждён в том, что войны не будет, что немцы на нас не нападут. Он был абсолютно в этом убеждён. Когда несколькими днями позднее я докладывал своему прямому начальнику о тех сведениях, которые свидетельствовали о совершенно очевидных симптомах подготовки немцев к войне и близком её начале, и просил его доложить об этом Сталину, то мой прямой начальник сказал:
— Да говорили ему уже, говорили. Всё это он знает. Я несу тоже свою долю ответственности за то, что не перешагнул через это и не предпринял попытки лично доложить Сталину то, что я докладывал своему прямому начальнику. Слова эти, что Сталин всё знает, были для меня в сочетании с тем авторитетом, которым пользовался тогда в моих глазах Сталин, убедительными.
Я много раз на протяжении ряда лет своей службы убеждался, что Сталин действительно имел великолепную информацию по разным каналам: по линии партийных и советских органов, по линии НКВД и по линии разведки. У меня было чувство, что он действительно знает всё, что ему будут докладывать, что я не скажу новости. Я не оправдываюсь этим, так и было, ему, конечно, докладывали, и по многим каналам.
Но он имел предвзятое мнение, которое вообще в военном деле самое страшное из всех возможных вещей, — когда у командующего, у человека, стоящего во главе твёрдое предвзятое мнение относительно того, как будет действовать противник и как развернутся события.
Это одна из самых частых причин самых больших катастроф.
Насколько я помню, Сталин был очень потрясён случившимся – таким началом войны. Он категорически не допускал этой возможности. Размеры потрясения были связаны и с масштабом ответственности, а также и с тем, что Сталину, привыкшему к полному повиновению, к абсолютной власти, к отсутствию сопротивления своей воле, вдруг пришлось в первые же дни войны столкнуться с силой, которая в тот момент оказалась сильнее его. Ему была противопоставлена сила, с которой он в тот момент не мог совладать. Это было потрясение огромное. Думаю, что с этим связано и то, что не он, а Молотов выступил по радио и говорил о начале войны, хотя естественно было бы ждать такого выступления именно Сталина. И только третьего июля Сталин заговорил и заговорил так, как он никогда не говорил до тех пор, заговорил словами «Братья и сёстры». В этой речи я лично чувствовал присутствие глубокого человеческого потрясения у человека, произносившего её.
Так вот, когда я увидел Сталина в начале декабря сорок первого года, а я его до этого во время войны не видел, — Сталин уже был точно таким, каким он был раньше. Это был прежний, всё тот же Сталин. Та же медлительность, то же хождение мягкими шагами, чаще всего сзади стульев, на которых сидят присутствующие, та же ленивая размеренность шагов. Та же тщательно выработанная медлительная манера речи, с короткими абзацами и длинными паузами, тот же низкий спокойный голос.
Трудно сказать, был ли он сдержан вообще, очевидно, нет. Но личину эту он давно надел на себя, как шкуру, к которой привык до такой степени, что она стала его второй натурой. Это была не просто сдержанность, это была манера, повадка, насколько тщательно разработанная, что она уже не воспринималась как манера. Ни одного лишнего жеста, ни одного лишнего слова. Но на самом деле в ней был расчёт на то, чтобы не показать никому, что он думает, не дать угадать своих мыслей, не дать никому составить заранее представление о том, что он может сказать и как он может решить. Это с одной стороны. С другой, медлительность, паузы были связаны с желанием не сказать ничего такого, что придётся брать обратно, не сказать ничего сгоряча, успеть взвесить каждое своё слово.
Надо, забегая вперёд, сказать, что он сохранил эту сдержанность и потом, среди побед и ликований, когда люди вокруг него были возбуждены этими победами. Он был просто несколько веселее, чаще шутил, улыбался, но к этому и сводились, пожалуй, все перемены в его поведении, скажем, в сорок четвёртом году по сравнению с сорок первым.
По его лицу невозможно или почти невозможно было угадать направление его мысли. И в этом был смысл, потому что охотников угадывать его мысли было много, он знал это, знал и меру своего авторитета, а также и меру того подхалимажа, на который способны люди, старающиеся ему поддакнуть. Поэтому он был острожен, особенно тогда, когда речь шла о вопросе, который был ему относительно мало знаком.
Когда он бывал в хорошем настроении или что-либо его смешило, он улыбался. Но улыбался сдержанно, одними уголками рта, и даже и эту скупую улыбку прикрывал рукой и трубкой.
У меня лично вызывает удивление то, что он объявил себя генералиссимусом и стал носить маршальскую форму. Тем более это было странно, что к его полувоенному облику привык весь мир, и этот образ известный всем, вполне вязался с войной. На совещании у Сталина речь зашла о побережье Финского залива о курсе бывшей Ингерманландии, где до войны с точки зрения симпатий к советской власти, настроения населения оставляли желать лучшего.
В период финской войны всё это проявилось в ещё большей мере, но я, находясь там ещё и до войны, столкнулся с фактами организованного хранения оружия, вплоть до станкового пулемёта и большого запаса патронов. В разговоре я напомнил об этом, о том, как во время случайного пожара в одной рыбацкой деревне началась дикая стрельба – взрывались патроны, которые были спрятаны буквально во всех домах между брёвнами и конопаткой.
Разговор происходил в присутствии Ворошилова, он вдруг стал говорить, что надо выселить население этого прибрежного района. Тогда Сталин сказал:
— А что значит – выселить? Выселить, чтобы они смотрели в сторону Финляндии? Надо будет потом финнов переселить.
Он сказал это совершенно спокойно, как будто это было нечто вполне рядовое, находящееся в его власти.
— Как переселить? – невольно спросил я.
— Переселить население Финляндии в соответствующие климатические условия, а сюда переселить другое население из соответствующих климатических условий. В чём дело – население Финляндии меньше, чем население одного Ленинграда. Можно переселить.
Так он говорил о целом народе и о целом государстве, говорил как о чём-то, что вполне в его власти.
Но был разговор со Сталиным, который запомнился, потому что он поднимал его в моих глазах. Это было в 1933 году после проводки первого маленького каравана военных судов через Беломорско-Балтийский канал, из Балтийского моря в Белое. В Полярном, в кают-компании миноносца, глядя в иллюминатор и словно разговаривая с самим собой, Сталин вдруг сказал:
— Что такое Чёрное море? Лоханка. Что такое Балтийское море? Бутылка, а пробка не у нас. Вот здесь море, здесь окно! Здесь должен быть Большой флот, здесь. Отсюда мы сможем взять за живое, если понадобится, Англию и Америку. Больше неоткуда.
Это было сказано в те времена, когда идея создания Большого флота на Севере ещё не созрела даже у самых передовых морских деятелей. Он добавил:
— Надо перебросить в этом году ещё караван военных судов с Балтики. Как, можно это сделать?
И второе, связанное с этим же годом воспоминание. В Сороках, когда прошли Беломорско-Балтийский канал, был митинг, на котором выступили то ли начальник, то ли заместитель начальника Беломорстроя Рапопорт, начальник ГПУ Ленинграда Медведь и ещё кто-то. Стали просить выступить Сталина, он отнекивался, не хотел выступать, потом начал как-то нехотя, себе поднос:
— Что тут говорили: возьмём, победим, завоюем. Война, война. Это ещё неизвестно, когда будет война. Когда будет – тогда будет. Это Север! – и ещё раз повторил: — Это Север, его надо знать, надо изучить, освоить, привыкнуть к нему, овладеть им, а потом говорить всё остальное.
Мне тоже понравилось это тогда, понравилось серьёзное, глубокое отношение к сложному вопросу, с которым мы тогда только ещё начинали иметь дело.
Потом в разговоре мой собеседник – это уже не относилось прямо к Сталину – вернулся к Керченской катастрофе и в связи с этим вспомнил Мехлиса.
Я видел Мехлиса, когда нам было приказано эвакуировать то, что ещё можно было эвакуировать с Керченского полуострова. Мы эвакуировали всё-таки 121000 человек, и, несмотря на позор нашего поражения и размеры его, об этом тоже нельзя забывать.
Я видел там, под Керчью, Мехлиса. Он делал вид, что ищет смерти. Несмотря на трагичность положения, было что-то в этом показное, — человек показывает, что он ищет смерти. Он там под Керчью, лез всё время вперёд, вперёд. Знаю также, что на Финском фронте он бывал в боях, ходил в рядах батальона в атаку. Но во-первых, это ни в чём не оправдывает его – ни в бездарных действиях в Финскую войну, ни в Керченской катастрофе, за которую на нём лежит главная ответственность.
На мой взгляд, он не храбрый, он нервозный, взвинченный, фанатичный.
Между прочим, я присутствовал у Сталина на обсуждении итогов Финской войны и там был Мехлис, был Тимошенко, был Ворошилов. Мехлис несколько раз вылезал то с комментариями, то с репликой, после чего вдруг Сталин сказал:
А Мехлис вообще фанатик, его нельзя подпускать к армии.
Я помню, меня тогда удивило, что несмотря на эти слова, Мехлис, продолжал на этом заседании держаться как ни в чём не бывало и ещё не раз вылезал со своими репликами.
Беседы К. Симонова с Маршалом Советского Союза А.М. Василевским[4]
1967 год
Финская война была для нас большим срамом и создала о нашей армии глубоко неблагоприятные впечатления за рубежом, да и внутри страны.
Вот тогда и было созвано у Сталина совещание, был снят с поста наркома Ворошилов и назначен Тимошенко. Тогда же Шапошников, на которого Сталин тоже посчитал необходимость косвенно возложить ответственность, был под благовидным предлогом снят с поста начальника Генерального штаба.
Что сказать о последствиях для армии тридцать седьмого — тридцать восьмого года? Вы говорите, что без тридцать седьмого года не было бы поражения сорок первого, а я скажу больше.
Без тридцать седьмого года, возможно, и не было бы вообще войны в сорок первом.
В том, что Гитлер решился начать войну в сорок первом году, большую роль сыграла оценка той степени разгрома военных кадров, который у нас произошёл. Да что говорить, когда в тридцать девятом году мне пришлось быть в комиссии во время передачи Ленинградского военного округа Мерецкову, был ряд дивизий, которыми командовали капитаны, потому что все, кто был выше, были поголовно арестованы. Когда в тридцать девятом году Риббентроп летел в Москву на своём самолёте, то по дороге, в районе Великих Лук (не убеждён, точно ли называю пункт. – К.С) он был обстрелян нашей зенитной батареей. Командир зенитной батареи приказал открыть стрельбу по этому самолёту – таково, видимо, было его настроение в отношении немцев. Уже после посадки в Москве на самолёте были пробоины от попадания осколков. Ни Риббентроп, ни сотрудники германского посольства в Москве никому не сообщили ни одного слова об этом факте. (Видимо они решили добиться заключения договора во что бы то ни стало. – К.С).
Больший вред в подготовке армии к войне принесли известные выводы, сделанные после испанской войны. Под влиянием таких возвысившихся после испанской войны деятелей, как Кулик, были пересмотрены взгляды на использование танковых войск, ликвидированы уже имевшиеся крупные механизированные соединения.
Но при всём о том, что я сказал о Сталине как о военном руководителе в годы войны необходимо написать правду. Он не был военным человеком, но он обладал гениальным умом. Он умел глубоко проникать в сущность дела и подсказывать военное решение.
Надо сказать, что я видел Сталина в разных видах и, не преувеличивая, могу сказать, что я знаю его вдоль и поперёк. И если говорить о людях, которые натерпелись от него, то я натерпелся от него как никто. Бывал он и со мной, и с другими груб, непозволительно, нестерпимо груб и несправедлив.
Видел Сталина в гневе, в раздражении, даже в исступлении. Ругаться он умел, беспощадным быть тоже.
Из больничных бесед
Апрель-2 мая 1976 г.
В течение этих двух недель несколько раз виделся и разговаривал с Александром Михайловичем Василевским.
Ощущение, что в этом человеке сочетается большая мягкость с большой твёрдостью воли, сейчас, последние годы, проявляемой не только в том, что он пишет, в отстаивании собственного взгляда, как мне думается, наиболее самокритического среди всех военных мемуаристов, во всяком случае, среди всего того, что появилось в печати. Воля проявляется и в отношении к себе, своему здоровью, своему распорядку жизни, своей приверженности к работе.
Говорили на разные темы. Сначала разговор зашёл о Ерёменко. Я услышал довольно жёсткую характеристику Ерёменко как человека искательного, ловкого и способного в одних случаях на подхалимство, а в других и на обман, на введение в заблуждение.
По словам моего собеседника, Ерёменко, в частности, в тяжёлые для Сталинграда дни, когда у Чуйкова всё висело на волоске и когда Сталин потребовал через Василевского, чтобы Ерёменко выехал туда, на правый берег Волги, к Чуйкову, и помог ему, — Ерёменко два дня откручивался от этого и поехал только на третий день, при этом выполнив приказ Сталина довольно своеобразно.
Он умел выкручиваться и вместе с тем имел большие способности к подхалимству. Я вернулся к упоминанию о Хрущёве. Спросил какого мнения Александр Михайлович об этом человеке.
Василевский сказал, что в тот период, когда Хрущёв был членом Военного совета фронта, когда ему с ним много в такой роли приходилось встречаться, он оценивал его положительно. Хрущёв был человеком энергичным, смелым, постоянно бывал в войсках, никогда не засиживался в штабах и на командных пунктах, стремился видеться и разговаривать с людьми, и, надо сказать, люди его любили.
В одном из дальнейших разговоров Александр Михайлович коротко охарактеризовал Штеменко. Сказал, что это человек в военном отношении образованный, очень работоспособный, и не только работоспособный, но и способный, энергичный, с волевыми качествами.
В своё время, когда Сталин послал на Кавказ Берию с поручением спасти там положение после поражения Южного фронта, Берия просил рекомендовать, кого из работников Генштаба ему взять с собой, и мы порекомендовали, сказал Василевский, Штеменко как молодого и способного штабного работника, он взял его с собой, и несколько месяцев Штеменко был с ним. Это, к сожалению, многое потом определило и в его судьбе, и в его поведении.
Начальником Генерального штаба он был назначен совершенно неожиданно для Василевского. В послевоенное время, когда Булганин был министром, а Василевский в течение довольно продолжительного времени был и первым заместителем министра и начальником Генерального штаба, он обратился к Булганину с предложением освободить его от одной из этих обязанностей, потому что ему просто невмоготу справляться с ними обеими.
— А кого же назначить? – спросил Булганин.
— Антонова, — сказал Василевский.
И охарактеризовал Антонова самым отменным образом указав при этом, что он уже имеет опыт работы начальником Генштаба, уже побывал в этой роли.
К тому времени, когда возник этот разговор, Антонов был первым заместителем Василевского по Генштабу. Булганин согласился, с этим они и пришли на Политбюро. Но там на Политбюро, произошло нечто совершенно неожиданное для Василевского. Когда они доложили о предложении, Сталин сказал, что на пост начальника Генерального штаба следует выдвинуть Штеменко.
Штеменко был назначен начальником Генштаба прямо из начальников Оперативного управления. А Антонов с должности заместителя начальника Генштаба поехал на должность заместителя командующего Кавказским военным округом.
Снятие Штеменко с должности начальника Генштаба произошло тоже при Сталине и столь же неожиданно, как и его назначение. Начальником Генштаба был назначен Соколовский. Когда я, уходя последним, уже был в дверях, Сталин позвал меня обратно я зашёл, поняв, что он хочет говорить со мной, с одним из нас троих.
— Чтоб вы знали, товарищ Василевский, почему мы освободили Штеменко. Потому что он всё время пишет и пишет на вас, надоело. Поэтому решили освободить. Думается мне (а этого Василевский не говорил), что именно то, что Берия имел на Штеменко свои виды, и послужило причиной его снятия Сталиным. Слишком большого и непосредственного влияния Берии на военные дела Сталин не хотел. Очевидно, усмотрев через какое-то время, что Берия осуществляет такое влияние и имеет соответствующую информацию от Штеменко, решил вопрос о его снятии с поста начальника Генштаба.
Василевский рассказывал о том, что Берия был очень груб и очень активен. В частности он привёл такой эпизод.
Когда в период боёв за освобождение Крыма машина, на которой я ехал, наскочила на мину, это вывело меня на время из строя.
Но как впоследствии выяснилось (это было дело рук Берии) Сталину не сообщили о том, что машина наскочила на мину, не сообщили о том, что я был легко контужен и ранен, и Сталин пребывал в убеждении, что я заболел, что у меня грипп. Только когда я прилетел в Москву и явился на приём к Сталину, то, увидев меня с перевязкой на голове и спросив, что со мной, Сталин узнал о том, что произошло.
У меня была с собой фотография. Мы, в общем, чудом остались целы, и мне хотелось показать Сталину фотографию того, во что превратилась наша машина. Я вынул эту фотографию и хотел показать Сталину, но Берия буквально вырвал её у меня и порвал на кусочки, говоря:
— Зачем показывать, зачем беспокоить.
По своей должности Берия имел касательство к охране командующих фронтами и армиями и тем более членов Ставки и её представителей.
Мой собственный домысел состоит в том, что косвенно ответственность за то, что Василевский чуть не взлетел на мине, только чудом остался цел лежала на его ведомстве и, в конечном итоге, на нём.
Рассказывал Василевский и о том, как он был вынужден уйти в отставку. Он был к тому времени – это было уже при Хрущёве – первым заместителем Жукова, они однажды ехали с Жуковым в машине, и Жуков говорит ему:
— Как, Саша, не думаешь ли ты, что тебе нужно заняться историей войны?
Этот вопрос был для меня неожиданным, сказал Василевский, но я сразу понял, что за этим стоит, и прямо спросил Жукова:
— Что, Георгий, как это понять? Понять так, что надо уходить в отставку? Пора уходить?
И Жуков так же прямо ответил:
— Да. Было обсуждение этого вопроса и Хрущёв настаивает на твоём уходе в отставку.
Я подал после этого в отставку.
Жуков[5]
Маршал жестокой войны
Остановлюсь лишь на том, что в этом, видимо, сыграла свою роль и некоторая обособленность разведуправления от аппарата Генштаба. Начальник разведуправления, являясь одновременно и заместителем Наркома обороны, предпочитал выходить с докладом о разведданных непосредственно на Сталина, минуя начальника Генштаба. Если бы Г.К. Жуков был в курсе всей важнейшей информации, при его положении и характере, он, наверное, смог бы делать более точные выводы из неё и более авторитетно представлять эти выводы Сталину. И тем самым в какой-то мере повлиять на убеждение И.В. Сталина, что мы в состоянии оттянуть сроки начала войны, что Германия не решится воевать на два фронта на Западе и Востоке.
Буржуазные фальсификаторы тщатся доказать, будто «решающие битвы» Второй мировой войны происходили там, где действовали англо-американские войска. Называется, в частности район Эль-Аламейна. Напомним в октябре 1942 года на сталинградском направлении насчитывалось свыше 50 немецких дивизий, а в районе Эль-Аламейна – всего лишь 12. Напомним также, что в то время немецкое командование держало под Сталинградом основные силы танков и авиации.
Далее. Буржуазные фальсификаторы, потеряв всякое чувство меры, ставят Сталинградскую битву в один ряд с высадкой американских войск на остров Гуадалканал. Но известно, что численность японского гарнизона, оборонявшего этот остров, не превышала 2 тысяч человек.
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что самой яркой фигурой среди полководцев в период Великой Отечественной войны являлся Г.К. Жуков.
Я всегда восхищался его неукротимой энергией, широтой и глубиной стратегического мышления. Характерной чертой было его постоянное стремление научить командующих и войска искусству побеждать врага с наименьшими потерями и в короткие сроки. Жуков не выглядел полководцем, стоящим над солдатской массой. При подготовке операций он держал теснейший контакт не только с командирами объединений и соединений, но и с офицерами частей и подразделений, особенно действовавших на главном направлении. И это давало ему возможность глубоко знать настроения подчинённых, управлять их действиями, направлять усилия воинов к победе.
Но лучшей наградой для него было то, что советские люди искренне уважали его как военачальника, столь много сделавшего для разгрома фашизма в годы Второй мировой войны.
И.С. Конев. Жуков и Сталин[6]
Атмосферы формальной субординации в кабинете Верховного Главнокомандующего не было.
Должен сказать по справедливости, что во второй половине войны Сталин не игнорировал Генеральный штаб. Ранее он допускал большие просчёты в своём подходе к этому чрезвычайному военному органу. Я бы даже сказал, что Сталин просто неправильно относился к нему, не понимал до конца характера, роли и значения организации управления войсками.
Ко второй половине войны он уже убедился в том, что Генштаб – это его основной орган управления, на который он может положиться как Верховный Главнокомандующий и через который призван осуществлять все свои распоряжения.
Сталин вообще был чрезвычайно лаконичным, умел коротко излагать свои мысли.
* * *
Некоторые встречи со Сталиным были очень напряжёнными, особенно в тяжёлые дни. Иногда дело доходило до резких вспышек с его стороны. Бывало так, что он выслушивал наши доклады с откровенным недовольством и раздражением, особенно когда они не соответствовали его предварительным представлениям.
«Кто будет брать Берлин?»
Штеменко прочёл вслух телеграмму, существо которой вкратце сводилось к следующему: англо-американское командование готовит операцию по захвату Берлина, ставя задачу захватить его раньше Советской армии. Основная группировка создаётся под командованием фельдмаршала Монтгомери. Направление главного удара планируется севернее Рура по кратчайшему пути, который отделяет от Берлина основную группировку английских войск.
После того как Штеменко дочитал до конца телеграмму, Сталин обратился к Жукову и ко мне:
— Так кто же будет брать Берлин – мы или союзники?
Так вышло: первому на этот вопрос пришлось отвечать мне, и я ответил:
— Берлин будем брать мы, и возьмём его раньше союзников.
— Вон какой вы, — слегка усмехнувшись, сказал Сталин. И сразу в упор задал мне вопрос по существу: — А как вы сумеете создать для этого группировку? У вас главные силы находятся на вашем южном фланге, и вам, по-видимому, придётся производить большую перегруппировку.
Выслушав нас, Сталин сказал:
— Хорошо. Необходимо вам обоим здесь, прямо в Москве, в Генштабе, подготовить свои планы и по мере готовности, через сутки — двое, доложить о них Ставке, чтобы вернуться к себе на фронты с уже утверждёнными планами на руках.
Известно, что Жуков не хотел и слышать, чтобы кто-либо, кроме войск 1-го Белорусского фронта, участвовал во взятии Берлина. К сожалению, надо прямо сказать, что даже тогда, когда войска 1-го Украинского фронта – 3-я и 4-я танковые армии и 28-я армия – вели бои в Берлине, — это вызвало ярость и негодование Жукова. Жуков был крайне раздражён, что воины 1-го Украинского фронта 22 апреля появились в Берлине. Он приказал генералу Чуйкову следить, куда продвигаются наши войска. По ВЧ Жуков связался с командармом 3-й танковой армии и ругал его за появление со своими войсками в Берлине, рассматривая это как незаконную форму действий, проявленную со стороны 1-го Украинского фронта.
Когда войска 3-й танковой армии и корпус Батицкого 27-й армии подошли на расстояние трёхсот метров к рейхстагу, Жуков кричал на Рыбалко: Зачем вы тут появились?!»
Вспоминая это время, должен сказать, что наши отношения с Георгием Константиновичем Жуковым в то время из-за Берлина были крайне обострены. Обострены до предела, и Сталину не раз приходилось нас мирить. 2 мая 1945 года в районе Берлина было взято в плен 134 тысячи немецко-фашистских солдат и офицеров.
Опала Жукова
После окончания войны Жуков был назначен на пост Главнокомандующего Группой войск в Германии и находился в Берлине до марта 1946 года.
Во время пребывания в Берлине, об этом я узнал позже совершенно случайно, Жуков довольно часто рассказывал о своей роли в проведении операций, о своих успехах, причём не всегда был точен и объективен. Он много и часто встречался с Д. Эйзенхауэром; между ними сложилась действительно хорошая боевая дружба, они, бывая друг у друга, делились, несомненно, итогами прошедшей войны. И, видимо, Эйзенхауэр, как это принято у американцев, постарался, чтобы об этом знали журналисты и корреспонденты США, — те получали интервью, которые маршал Жуков охотно им давал; Жуков провёл ряд пресс-конференций.
Так что действительно Жуков не всегда был точен в своих рассказах. Всё то, что он говорил о своей роли в разгроме фашистской Германии, безусловно, было известно Сталину.
* * *
Я присутствовал на том заседании Высшего Военного совета летом 1946 года, которое было посвящено разбору дела Г.К. Жукова.
Незадолго до этого я был назначен первым заместителем Главнокомандующего сухопутными войсками. Сдав должность главкома Центральной группы войск и верховного комиссара по Австрии генералу В.В. Курасову, я получил разрешение на полуторамесячный отпуск и решил провести его в Карловых Варах.
Вскоре мне позвонил Н.А. Булганин и попросил срочно выехать в Москву. На второй день после моего приезда состоялось заседание Высшего Военного совета в Кремле.
Началось заседание с того, что Сталин попросил секретаря Высшего Военного совета генерала С.М. Штеменко (он был начальником Главного оперативного управления) зачитать материалы допроса главного маршала авиации А.А. Новикова, к тому времени арестованного органами безопасности.
Из его показаний следовало, что Жуков, встречаясь с Новиковым, когда тот приезжал к нему на фронт, в дружеской беседе обсуждал деятельность Ставки, правительства, маршал Жуков в ряде случаев нелестно отзывался о Сталине.
Суть показаний А.А. Новикова сводилась к тому, что маршал Жуков – человек политически неблагонадёжный, недоброжелательно относится к Центральному Комитету КПСС, к правительству, ставилась под сомнение его партийность.
После того как Штеменко закончил чтение, выступил Сталин. Он заявил, что Жуков присваивает все победы Советской Армии себе. Выступая на пресс-конференциях в Берлине, в печати, Жуков неоднократно заявлял, что все главнейшие операции в Великой Отечественной войне успешно проводились благодаря тому, что основные идеи были заложены им, маршалом Жуковым, что он в большинстве случаев является автором замыслов Ставки, обеспечил основные успехи Советских Вооружённых Сил.
Сталин добавил, что окружение Жукова тоже старалось и не в меру хвалило Жукова за его заслуги в разгроме немецко-фашистской Германии. Они подчёркивали роль Жукова как основного деятеля и наиболее активного участника в планировании проводимых операций. Жуков против этого не возражал и, судя по всему, сам разделял подобного рода суждения.
— Что ж выходит,-продолжал Сталин, — Ставка Верховного Главнокомандования, Государственный Комитет Обороны, — и он указал на присутствующих на заседании членов Ставки и членов ГКО, — все мы дураки? Только один товарищ Жуков был умным, гениальным в планировании и проведении всех стратегических операций во время Великой Отечественной войны? Поведение Жукова, — сказал Сталин, — является нетерпимым и следует вопрос о нём очень обстоятельно разобрать на данном Совете и решить, как с ним поступить.
Репрессии[7]
Однажды в нашем полку (1925 г.) побывал легендарный герой гражданской войны В.К. Блюхер. До революции он был рабочим Мытищинского вагоностроительного завода, затем унтер-офицером Царской армии. В.К. Блюхер – член партии большевиков с 1916 года. Я очень много о нём слышал, но встретился с ним впервые. Я был очарован душевностью этого человека. Бесстрашный боец с врагами Советской республики, легендарный герой, В.К. Блюхер был идеалом для многих. Не скрою, я всегда мечтал быть похожим на этого замечательного большевика, чудесного товарища и талантливого полководца. Кто мог бы тогда подумать, что через тринадцать лет этот прославленный и безгранично преданный всеми фибрами своей души нашей Родине и партии знаменитый Блюхер будет оклеветан и бездоказательно обвинён во вражеской деятельности, а затем и уничтожен.
К нам в полк Блюхера пригласил посмотреть учебно-воспитательную работу комдив 7-й дивизии герой Гражданской войны Г.Д. Гай.
В 1924 году Жуков по рекомендации Гая поступил в Высшую кавалерийскую школу в Ленинграде. Тогда же на курсы поступили К.К. Рокоссовский, И.Х. Баграмян, А.И. Ерёменко и другие командиры полков.
Высшей кавшколой руководил В.М. Примаков, легендарный герой гражданской войны, командир прославленной 8-й кавалерийской дивизии Червонного казачества В.М. Примаков сразу завоевал симпатии слушателей. Это был человек широко образованный. Говорил он коротко, чётко излагая свои мысли. Через некоторое время Примаков получил назначение на Украину, на должность командира казачьего корпуса, а вместо него был назначен М.А. Баторский, известный теоретик конного дела. В.М. Примаков вместе с другими талантливыми советскими полководцами будет оклеветан и безвинно уничтожен в 1937 году. Приходится с болью сожалеть, что и Михаила Александровича Баторского не миновала тяжёлая судьба. В 1937 году он был оклеветан и трагически погиб.
После окончания Кавалерийских курсов усовершенствования командного состава (ККУКС) я был назначен единоначальником полка в 7-й кавдивизии. Вскоре дивизию принял комдив Д.А. Шмидт, прибывший с Украины. Шмидт – умница, свои мысли выражал кратко, но, к сожалению, не любил кропотливо работать.
Помню приезд в полк Семёна Михайловича Будённого. Выходим к подъезду и ждём. Минут через пять в ворота въезжают две машины. Из первой выходят С.И. Будённый и С.К. Тимошенко. Как положено по уставу, я рапортую и представляю своих помощников. Через полчаса после отъезда начальства приехал комдив Д.А. Шмидт. Я ему с исчерпывающей полнотой доложил всё, что было при посещении С.М. Будённого. Комдив, улыбнувшись сказал: «Надо было построить полк для встречи, сыграть встречный марш и громко кричать «УРА», а вы встретили строго по уставу».
(Вот так у нас быстро появились «красные вельможи» в армии.–А.М).
Дела в дивизии особенно оживились, когда комдива Д.А. Шмидта сменил серб Данило Сердич, прославленный командир Первой конной армии.
Все мы чувствовали свой оперативно-тактический рост и знали, что в этом большая личная заслуга нашего комдива. Словом, он был достойным командиром и умелым воспитателем. К сожалению, в период культа личности он был оклеветан и в 1937 году трагически погиб.
В январе 1930 года командиром 7-й Самарской кавалерийской дивизии был назначен К.К. Рокоссовский. Несколько позднее, в мае того же года, я был назначен командиром 2-й кавалерийской бригады 7-й Самарской кавдивизии. Ко мне Рокоссовский относился с большим тактом. В свою очередь, я высоко ценил его военную эрудицию, большой опыт в руководстве боевой подготовкой и воспитании личного состава.
В конце 20-х годов вышел в свет серьёзный труд Б.М. Шапошникова «Мозг армии», в котором был проанализирован большой исторический материал, всесторонне обрисована роль Генерального штаба.
Дело прошлое, но и тогда, и сейчас считаю, что название книги применительно к Красной Армии неверно. «Мозгом» Красной Армии с первых дней её существования является ЦК ВКП(б), поскольку ни одно решение крупного военного вопроса не принималось без участия Центрального Комитета. Название это скорее подходит к старой царской армии, где «мозгом» действительно был Генеральный штаб.
В конце 1929 года я был командирован в Москву для прохождения курсов по усовершенствованию высшего начальствующего состава (КУВНАС).
В конце 1930 года стало известно, что моя кандидатура рассматривается на должность помощника инспектора кавалерии РККА. Первый заместитель Будённого комкор И.Д. Косогов сказал мне, что, по-видимому, мне лучше взять на себя вопросы боевой подготовки конницы, поскольку в этой области я имею достаточную практику.
Большую роль сыграло учреждение должности начальника вооружений РККА, на которого возлагалось руководство всеми вопросами технического перевооружения армии. До 1931 года этот пост занимал И.П. Уборевич, а после него М.Н. Тухачевский.
Хорошо известна плодотворная деятельность возглавлявших Управление боевой подготовки Красной Армии А.Я. Лапина, а затем его преемника А.И. Седякина, который стал жертвой клеветы и погиб в 1938 году.
В период работы в Инспекции кавалерии мне посчастливилось ближе познакомиться с М.Н. Тухачевским. Личное моё знакомство с ним, как я уже упоминал, состоялось во время ликвидации кулацкого восстания Антонова в 1921 году. Человек атлетического сложения, он обладал впечатляющей внешностью. Мы ещё тогда отметили, что Тухачевский не из трусливого десятка: по районам, где скрывались бандиты он разъезжал с весьма ограниченным прикрытием.
Теперь на посту первого заместителя наркома обороны М.Н. Тухачевский вёл большую организаторскую, творческую и научную работу и все мы чувствовали, что главную руководящую роль в Наркомате обороны играет он.
Умный, широко образованный профессиональный военный, он великолепно разбирался как в области тактики, так и в стратегических вопросах. М.Н. Тухачевский хорошо понимал роль различных видов наших вооружённых сил в современных войнах и умел творчески подойти к любой проблеме.
Ещё в 30-х годах Тухачевский предупреждал, что наш враг номер один – Германия, что она усиленно готовится к большой войне и, безусловно, в первую очередь против Советского Союза.
Позже в своих печатных трудах, он неоднократно отмечал, что Германия готовит сильную армию вторжения, состоящую из мощных воздушных, десантных и быстроподвижных войск, главным образом механизированных и бронетанковых сил. Он указывал на заметно растущий военно-промышленный потенциал Германии, на её возможности в массовом производстве боевой авиации и танков.
Последний раз я видел Михаила Николаевича в 1931 году на партийном активе, где он делал доклад о международном положении. Говоря о роли нашей большевистской партии в строительстве нового государства и армии, Михаил Николаевич тепло вспоминал о В.И. Ленине, с которым ему довелось много раз встречаться и вместе работать.
Меня тогда поразило то, что он почти ничего не сказал о Сталине. Сидевший рядом со мной начальник войск связи Красной Армии большевик-подпольщик Р.В. Лонгва сказал мне, что Тухачевский не подхалим, он не будет восхвалять Сталина, который несправедливо обвинил Тухачевского в неудачах наших войск в операциях под Варшавой.
В Тухачевском чувствовался гигант военной мысли, звезда первой величины в плеяде выдающихся военачальников Красной Армии. Позднее, выступая в 1936 году на 2-й сессии ЦИК СССР, Тухачевский снова обратил внимание на нависшую серьёзную опасность со стороны фашистской Германии. Однако голос М.Н. Тухачевского остался «гласом вопиющего в пустыне», а сам он был взят под подозрение злонамеренными лицами, которые клевеща на Михаила Николаевича, обвинили его во вражеских и бонопартистских замыслах, и он трагически погиб в 1937 году.
Когда приказ о моём назначении (командиром 4-й кавалерийской дивизии. — А.М) уже был подписан наркомом, прощаясь, С.М. Будённый с волнением сказал:
— 4-я дивизия всегда была лучшей в рядах конницы, и она должна быть лучшей!
Несколько раз посетил дивизию и командующий войсками Белорусского военного округа И.П. Уборевич. Это был настоящий советский военачальник, в совершенстве освоивший оперативно-тактическое искусство. Он был в полном смысле военный человек. Внешний вид, умение держаться, способность коротко излагать свои мысли – всё говорило о том, что И.П. Уборевич незаурядный военный руководитель.
В связи с арестом И.П. Уборевича в 1937 году командующим Белорусским военным округом был назначен командарм 1 ранга И.П. Белов.
Однако, оглядываясь назад, я должен всё же сказать, что лучшим командующим округом был командарм 1 ранга И.П. Уборевич. Никто из командующих не дал так много в оперативно-тактической подготовке командирам и штабам соединений, как Уборевич и штаб округа под его руководством. Я проработал командиром дивизии более четырёх лет. После назначения меня на должность командира 3-го конного корпуса дивизию принял командир 21-го кавполка И.Н. Музыченко.
Шёл 1937 год…
Правда, Советский Союз строил новый мир пока почти один, находился во враждебном капиталистическом окружении, иностранные разведки не жалели сил и средств, чтобы помешать нашему народу.
Тем более противоестественными, совершенно не отвечавшими ни существу строя, ни конкретной обстановке в стране, сложившейся к 1937 году, явились необоснованные, в нарушение социалистической законности, массовые аресты, имевшие место в армии в тот год.
Были арестованы видные военные, что, естественно, не могло не сказаться на развитии наших вооружённых сил и на их боеспособности.
1937 год в истории советского народа и советских вооружённых сил занимает особое место. Этот год был тяжёлым моральным испытанием идейной крепости советского народа. Советский народ верил партии и шёл за ней твёрдой поступью вперёд.
Как известно, советский народ беспощадно разгромил белогвардейскую контрреволюцию и изгнал за пределы нашей Родины иностранных интервентов и своей борьбой, своей кровью доказал непоколебимую преданность делу нашей ленинской партии. Однако советскому народу и партии пришлось тяжело поплатиться за беспринципную подозрительность политического руководства страны, во главе которого стоял И.В. Сталин.
В вооружённых силах было арестовано большинство командующих войсками округов и флотов, членов Военных советов, командиров корпусов, командиров и комиссаров соединений и частей. Шли большие аресты и среди честных работников органов государственной безопасности.
В стране создалась жуткая обстановка. Никто никому не доверял, люди стали бояться друг друга, избегали встреч и каких-либо разговоров, а если нужно было – старались говорить в присутствии третьих лиц-свидетелей. Развернулась небывалая клеветническая эпидемия. Клеветали зачастую на кристально честных людей, а иногда на своих близких друзей. И всё это делалось из-за страха не быть заподозренным в нелояльности. И эта жуткая обстановка продолжала накаляться.
Советские люди от мала до велика не понимали, что происходит, почему так широко распространились среди нашего народа аресты. И не только члены партии, но и беспартийные люди с недоумением и внутренним страхом смотрели на всё выше поднимавшуюся волну арестов, и, конечно, никто не мог открыто высказать своё недоумение, своё неверие в то, что арестовывают действительных врагов народа и что арестованные действительно занимались какой-либо антисоветской деятельностью или состояли в контрреволюционной организации.
По существующему закону и по здравому смыслу органы госбезопасности должны были бы вначале разобраться в виновности того или иного лица, на которого поступила анонимка, сфабрикованная ложь или самооговор арестованного, вырванный под тяжестью телесных пыток, применяемых следовательским аппаратом по особо важным делам органов государственной безопасности.
Но в то тяжкое время существовал другой порядок – в начале арест, а потом разбирательство дела. И я не знаю случая, чтобы невиновных людей тут же отпускали обратно домой. Нет, их держали долгие годы в тюрьмах, зачастую без дальнейшего ведения дел, как говорится, без суда и следствия.
В 1937 году был арестован наш командир 3-го конного корпуса Данило Сердич как «враг народа». Что же это за враг народа? Д. Сердич по национальности серб. Это был храбрейший командир, которому верили и смело шли за ним в бой прославленные конноармейцы. Будучи командиром эскадрона и командиром полка Первой конной армии Д. Сердич вписал своими смелыми, боевыми подвигами много славных страниц в летопись немеркнущих и блистательных побед Олеко Дундича. И вдруг Сердич оказался «врагом народа».
Кто этому мог поверить из тех, кто хорошо знал Д. Сердича? Через пару недель после ареста комкора Д. Сердича я был вызван в город Минск в вагон командующего войсками округа. Явившись в вагон, я не застал там командующего войсками округа, обязанности которого в то время выполнял комкор В.М. Мулин. Через два месяца В.М. Мулин был арестован как «враг народа», а это был не кто иной, как старый большевик, многие годы просидевший в царской тюрьме за свою большевистскую деятельность.
В вагоне меня принял только что назначенный член Военного совета округа Ф.И. Голиков (ныне Маршал Советского Союза). Он был назначен вместо арестованного члена Военного совета П.А. Смирнова, мужественного и талантливого военачальника. Задав мне ряд вопросов биографического порядка, Ф.И. Голиков спросил, нет ли у меня кого-либо арестованных из числа родственников или друзей. Я ответил, что не знаю, так как не поддерживаю связи со своими многочисленными родственниками. Что касается близких родственников – матери и сестры, то они живут в настоящее время в деревне Стрелковка и работают в колхозе. Из знакомых и друзей – много арестованных.
— Кто именно? – спросил Голиков.
— Хорошо знал арестованного Уборевича, комкора Сердича, комкора Вайнера, комкора Ковтюха, комкора Кутякова, комкора Косогова, комдива Верховского, комкора Грибова, комкора Рокоссовского (К.К. Рокоссовский единственный из всех за два года не подписал показания против себя. – А.М).
— А с кем из них вы дружили? – спросил Голиков.
— Дружил с Рокоссовским и Данилой Сердичем. С Рокоссовским учился в одной группе на курсах усовершенствования командного состава кавалерии в городе Ленинграде и совместно работал в 7-й Самарской кавдивизии. Дружил с комкором Косоговым и комдивом Верховским при совместной работе в Инспекции кавалерии. Я считал этих людей большими патриотами нашей Родины и честнейшими коммунистами, — ответил я.
— А вы сейчас о них такого же мнения? – глядя на меня в упор, спросил Голиков.
— Да, и сейчас.
Ф.И. Голиков резко встал с кресла и, покраснев до ушей, грубо сказал:
— А не опасно ли будущему комкору восхвалять врагов народа?
Я ответил, что я не знаю, за что их арестовали, думаю, что произошла какая-то ошибка. Я почувствовал, что Голиков сразу настроился на недоброжелательный тон, видимо он остался неудовлетворённым моими ответами. Порывшись в своей объёмистой папке, он достал бумагу и минут пять её читал, а потом сказал:
— Вот в донесении комиссара 3-го конного корпуса Юнга сообщается, что вы бываете до грубости резок в обращении с подчинёнными командирами и политработниками, и что иногда недооцениваете роль и значение политических работников. Верно ли это?
— Верно, но не так, как пишет Юнг. Я бываю резок не со всеми, а только с теми, кто халатно выполняет порученное ему дело и безответственно несёт свой долг службы. Что касается роли и значения политработников, то я не ценю тех, кто формально выполняет свой партийный долг, не работает над собой и не помогает командирам в решении учебно-воспитательных задач, тех, кто критикует требовательных командиров, занимается демагогией там, где надо проявить большевистскую твёрдость и настойчивость, — ответил я.
— Есть сведения, что не без вашего ведома ваша жена крестила в церкви дочь Эллу. Верно ли это? – продолжил Голиков.
— Это очень неумная выдумка. Поражаюсь, как мог Юнг, будучи неглупым человеком, сообщить такую чушь, а тем более он, прежде чем написать, должен был бы провести расследование.
Дальнейший разговор был прерван приходом в вагон исполнявшего должность командующего войсками округа В.М. Мулина. Я раньше никогда не встречался с ним. После предварительной беседы В.М. Мулин сказал:
— Военный совет округа предлагает назначить вас на должность командира 3-го Конного корпуса. Как вы лично относитесь к этому предложению?
Я ответил, что готов выполнять любую работу, которая мне будет поручена.
— Ну вот и отлично, — сказал В.М. Мулин.
Ф.И. Голиков протянул Мулину донесение комиссара 3-го Конного корпуса Юнга, отдельные места которого были подчёркнуты красным карандашом.
В.М. Мулин, прочитав это донесение, сказал:
— Надо пригласить Юнга и поговорить с ним. Я думаю, что здесь много неверного.
Голиков молчал.
— Езжайте в дивизию и работайте. Я своё мнение сообщу в Москву. Думаю, что вам скоро придётся принять 3-й корпус, — сказал В.М. Мулин.
Распростившись, я уехал в дивизию. Прошло не менее месяца после встречи и разговора в Минске, а решение из Москвы не поступало.
А я, откровенно говоря, отчасти даже был доволен тем, что не получил назначения на высшую должность, так как тогда шла какая-то особо активная охота на высших командиров со стороны органов госбезопасности. Не успевают выдвинуть человека на высшую должность, глядишь, а он уже взят под арест как «враг народа» и мается бедняга в подвалах НКВД.
Однако вскоре всё же был получен приказ наркома обороны о назначении меня командиром 3-го Конного корпуса. Командиром 4-й Кавалерийской дивизии вместо меня назначался И.Н. Музыченко. По прибытию в корпус меня встретил начальник штаба корпуса Д. Самарский. Первое, о чём он мне доложил, — это об аресте как «врага народа» комиссара корпуса Юнга, того самого Юнга, который написал на меня клеветническое донесение Ф.И. Голикову.
Внутренне я как-то даже был доволен тем, что клеветник получил по заслугам, — «рыл яму для другого, а угодил в неё сам», как говорится в народной пословице.
Недели через две мне удалось детально ознакомиться с состоянием дел во всех частях корпуса и, к сожалению, должен был признать, что в большинстве частей корпуса в связи с арестами упала боевая и политическая подготовка командно-политического состава, понизилась требовательность и, как следствие, ослабла дисциплин и вся служба личного состава. Пришлось резко вмешаться в положение дел, кое-кого решительно одёрнуть и поставить вопрос так, как этого требовали интересы дела. Правда, при этом лично мною была в ряде случаев допущена повышенная резкость, чем немедленно воспользовались некоторые беспринципные работники дивизии.
На другой же день на меня посыпались донесения в округ с жалобой к Ф.И. Голикову, письма в органы безопасности «о вражеском воспитании кадров» со стороны командира 3-го конного корпуса Жукова.
Через неделю командир 27 кавалерийской дивизии В.Е. Белокосков сообщил мне о том, что в дивизии резко упала дисциплина и вся служба. Я спросил его, а что делает лично командир дивизии Белокосков? Он ответил, что командира дивизии сегодня вечером разбирают в парторганизации, а завтра наверняка посадят в тюрьму. Подумав, я сказал, что сейчас же выезжаю в дивизию.
Повестка дня: персональное дело коммуниста Белокоскова Василия Евлампиевича. Информацию делал секретарь дивизионной парткомиссии. Суть дела: коммунист Белокосков был в близких отношениях с врагами народа Сердичем, Юнгом, Уборевичем и другими, а потому он не может пользоваться доверием партии.
Кроме того, Белокосков недостаточно чутко относится к командирам, политработникам, слишком требователен по службе. Обсуждение заняло около трёх часов. Никто в защиту В.Е. Белокоскова не сказал ни одного слова. Дело шло явно к исключению из партии.
Попросив слово, я выступил довольно резко.
— Я давно знаю Белокоскова как честного коммуниста, чуткого товарища, прекрасного командира. Что касается его служебной связи с Уборевичем, Сердичем, Рокоссовским и другими, то эта связь была чисто служебной, а кроме того, ещё неизвестно, за что арестованы Уборевич, Сердич, Рокоссовский, так как никому из нас неизвестна причина ареста, так зачем мы будем забегать вперёд соответствующих органов, которые по долгу своему должны объективно разобраться в степени виновности арестованных и сообщить нам, за что их привлекли к ответственности. Что касается других вопросов, то это мелочи и не имеют принципиального значения, а товарищ Белокосков сделает для себя выводы из критики. Постановили: предложить В.Е. Белокоскову учесть в своей работе выступления коммунистов.
Он не сказал мне ни одного слова, но его слёзы, рукопожатие были убедительные и дороже всяких слов. Я был рад за него и не ошибся в нём. Всю свою жизнь (умер он в 1961 году) Василий Евлампиевич был достойнейшим коммунистом, скромным тружеником и умелым организатором всех дел, которые ему поручались. В годы Великой отечественной войны он был одним из главных организаторов автомобильной службы и снабжения войск.
После войны возглавлял Главное управление военно-строительных работ, спецработ, а в последние годы был заместителем Министра обороны по строительству. А не заступись за него в 1937 году, могло быть всё иначе. К сожалению, многие товарищи погибли, не получив дружеской помощи при обсуждении их в партийных организациях, а ведь от партийной организации много тогда зависело, так как после исключения из партии тут же следовал арест. В 1937 году приказом Наркома обороны я был назначен командиром 3-го кавкорпуса Белорусского военного округа. Но вскоре в связи с назначением командира 6-го казачьего корпуса Е.И. Горячева заместителем командующего войсками Киевского особого военного округа мне была предложена должность командира этого корпуса.
У моего предшественника Е.И. Горячева трагически закончилась жизнь. После назначения заместителем к С.К. Тимошенко он, как и многие другие, перенёс тяжёлую сердечную травму. На одном из партсобрании ему предъявили обвинение в связях с врагами народа И.П. Уборевичем, Д. Сердичем и другими, и дело клонилось к нехорошему. Не желая подвергаться репрессиям органов безопасности, он покончил жизнь самоубийством.(а С.К. Тимошенко не защитил своего соратника по Первой конной армии. – А.М.).
Будучи командиром 3-го конного корпуса, я одновременно был и начальником гарнизона. В состав гарнизона, кроме частей 3-го конного корпуса, входила прославленная 2-я стрелковая дивизия, которой командовал вначале Шахназаров, после его ареста – Б.И. Бобров, бывший начальник штаба округа, когда округом командовал И.П. Уборевич. После ареста Б.И. Боброва командиром дивизии в конце 1937 года был назначен И.С. Конев.
С И.С. Коневым я часто встречался по делам гарнизона и ничего о нём сказать не могу. Он производил на меня хорошее впечатление и был всегда активен.
6-й кавалерийский корпус был много лучше других частей округа. В этот период войсками Белорусского военного округа командовал командарм 1 ранга И.П. Белов, который взялся энергично осуществлять подготовку войск округа. Осенью 1937 года им были проведены окружные манёвры, на которых в качестве гостей присутствовали генералы и офицеры немецкого генерального штаба. За манёврами наблюдали нарком обороны К.Е. Ворошилов и начальник Генштаба Б.М. Шапошников. Вскоре командующего войсками И.П. Белова постигла та же трагическая участь, что и предыдущих командующих, — он был арестован как «враг народа», и это тогда, когда И.П. Белов, бывший батрак, старый большевик, храбрейший и способнейший командир, положил все свои силы на борьбу с белогвардейщиной и иностранной интервенцией. Как-то не вязалось: Белов – и вдруг «враг народа». Конечно, никто этой версии не верил.
После ареста И.П. Белова командующим войсками округа был назначен командарм 2 ранга М.П. Ковалёв, членом Военного совета вместо Ф.И. Голикова был назначен И.З. Сусайков.
На смену арестованным выдвигались всё новые и новые лица, имевшие значительно меньше знаний, меньше опыта, и им предстояла большая работа над собой, чтобы быть достойными военачальниками оперативно-стратегического масштаба, умелыми воспитателями войск округа. В Белорусском военном округе было арестовано почти 100 процентов командиров корпусов. Вместо них были выдвинуты на корпуса командиры дивизий, уцелевшие от арестов. В числе арестованных командиров корпусов был Кутяков Иван Семёнович. Об И.С. Кутякове мне хочется сказать здесь несколько слов.
Знал я Ивана Семёновича более двадцати лет и всегда восхищался им и как командиром, и как сильным и волевым человеком. И.С. Кутяков – солдат царской армии. В своём полку он пользовался большим авторитетом и в первые дни революции был выбран солдатами командиром полка. В годы гражданской войны И.С. Кутяков командовал бригадой 25-й Чапаевской дивизии. После гибели Василия Ивановича Чапаева И.С. Кутяков был назначен вместо него командиром дивизии. За успешное командование частями в боях с белогвардейщиной он был награждён орденами Красного Знамени и орденом Красного знамени Хорезмской республики, а также почётным оружием. В 1937 году И.С. Кутяков был выдвинут заместителем командующего войсками Приволжского военного округа.
И.С. Кутяков, как и многие другие, был оклеветан и трагически погиб. Разве можно забыть тех, кто был поднят нашей ленинской партией из рабоче-крестьянских низов, обучен и воспитан в борьбе с внутренней и внешней контрреволюцией, тех, кто составляет драгоценную жемчужину военных кадров нашей Родины, нашей партии. Нет! Их забыть нельзя, как и нельзя забыть преступления тех, на чьей совести лежали эти ничем не оправданные кровавые репрессии, аресты и выселение членов семей «в места не столь отдалённые».
В решении партактива было сказано: «Ограничиться обсуждением вопроса и принять к сведению объяснение товарища Жукова Г.К».
Шёл 1938 год. Тягостная обстановка, создавшаяся в армии и в стране в связи с массовыми арестами, продолжала действовать угнетающе. Арестам подвергались уже не только крупнейшие государственные и виднейшие военные работники, но дело дошло и до командиров и политических работников частей.
После ареста командующих войсками округа И.П. Уборевича и И.П. Белова учебная подготовка высшего командного состава в округе резко снизилась, и мы почти не вызывались на какие-либо учебные мероприятия. Чувствовалось, что командование округом само болезненно переживает сложившуюся обстановку.
В 1938 году, как я сказал, на должность командующего Белорусским военным округом был назначен М.П. Ковалёв. Михаила Прокопьевича Ковалёва я знал по гражданской войне. Его назначили командующим войсками округа в порядке выдвижения, кажется с должности заместителя командующего войсками округа. Человек он был весьма душевный, в оперативно-стратегических вопросах разбирался неплохо, но сильнее чувствовал себя в вопросах тактики, которую теоретически и практически освоил очень хорошо. Начальником штаба был назначен комкор М.А. Пуркаев; особенно хорошо он проявил себя в Отечественную войну. Как ни тяжела была обстановка в 1937-1938 годах, боевая подготовка войск у нас проходила в основном нормально, и к концу (1938 года) части 6-го кавалерийского корпуса пришли с хорошими показателями.
В конце 1938 года мне предложили новую должность – заместителя командующего войсками Белорусского военного округа по кавалерии. Первым заместителем командующего в тот период был комкор Ф.И. Кузнецов. В самом начале войны он командовал Северо-Западным фронтом. Я назначался вместо И.Р. Апанасенко, переходившего заместителем командующего войсками Киевского военного округа.
В случае войны я должен был вступить в командование конно-механизированной группой, состоящей из 4-5 дивизий конницы, 3-4 отдельных танковых бригад и других частей усиления.
Вместо меня командиром 6-го кавалерийского корпуса был назначен А.И. Ерёменко (ныне маршал Советского Союза).
А.И. Ерёменко я знал по Кавалерийским курсам усовершенствования командного состава, где он проходил переподготовку в 1924-1925 годах и считал, что со временем из него выработается командир корпуса.
Но, откровенно говоря, народ его не любил за чванливость, с одной стороны, за идолопоклонство – с другой. (Он единственный их всех командующих фронтами закончил ВОВ в звании генерала армии, при Хрущёве после войны ему присвоили звание Маршала Советского Союза. – А.М).
Распрощавшись с командирами и политработниками дивизий и частей корпуса, я уехал в Смоленск, где в то время стоял штаб Белорусского военного округа, и очень тепло был встречен командующим войсками округа М.П. Ковалёвым.
Главный Маршал авиации А.А. Новиков
О репрессиях[8]
Но вот наступил страшный для партии, армии и народа 1937 год.
В феврале газеты опубликовали правительственное сообщение о скоропостижной смерти Народного комиссара тяжёлой промышленности, члена Политбюро ЦК ВКП(б) Г.К. Орджоникидзе. Смерть Оржоникидзе потрясла Новикова, а тут ещё прошёл слух о том, что Орджоникидзе застрелился.
Непонятное творилось и в Смоленском гарнизоне. Один за другим шли аресты «врагов народа». Только в 450-й авиационной бригаде за несколько недель было арестовано свыше 75 человек[9].
«Большие неприятности по службе» — так определит тот период сам Новиков – начались летом 1937 г. после ареста И.П. Уборевича. Буквально на следующий день состоялось внеочередное партийное собрание эскадрильи. Слушалось персональное дело члена ВКП(б) А.А. Новикова. Каких только «обвинений» не было предъявлено к командиру 42-й. Вздорность и предвзятость их видели все от рядового моториста до комиссара и начальника штаба.
Но сверху поступило категорическое указание: «Из партии исключить».
И тут случилось невероятное. Абсолютное большинство членов партии проголосовало против исключения Новикова. Собрание пришлось прервать. Партийную организацию обвинили в либерализме и политической слепоте. Чтобы оказать на неё давление, Новикова сняли с должности и уволили из Красной Армии. Но коммунисты не изменили своего решения – они оставили бывшего командира в своих рядах. Партийная комиссия 116-й авиационной бригады была вынуждена выполнить, хоть и не полностью указание сверху.
2 июня 1937 года члену ВКП(б) А.А. Новикову был объявлен строгий выговор с предупреждением и занесением в учётную карточку. Однако Новиков, продолжая отстаивать свою честь, обратился с жалобой на несправедливость к только что назначенному членом Военного совета Белорусского военного округа комиссару 2 ранга А.И. Мезису.
Когда тот узнал о решении партийной организации эскадрильи, немедленно приказал восстановить бывшего командира эскадрильи в воинском звании и должности. Большего он сделать не успел – сам был арестован в январе 1938 г. В запасе полковник Новиков находился только пять дней. Позднее Новикова восстановили в партии и сняли строгий выговор с предупреждением.
* * *
Вернувшись с Дальнего Востока, полный сил, энергии сорокапятилетний главный маршал авиации ушёл с головой в работу. Новиков делал всё возможное, стараясь подготовить первые советские реактивные самолёты МиГ-9 и Як-15 к лётным испытаниям ранней весной 1946 г. И не только для того, чтобы они участвовали в Первомайском воздушном параде. Нужно было спешить по более важной причине. С Запада потянул ветер «холодной войны», что заставило ускорить дело.
24 апреля 1946 г. лётчик-инженер А.Н. Гринчик совершил первый успешный полёт на МиГ-9. Затем был облётан Як-15, который пилотировал лётчик-испытатель М.И. Иванов. Эра реактивной авиации в стране началась. Однако Новиков в этом историческом событии уже не участвовал.
* * *
В ночь на 23 апреля (1946 г) он был арестован. Такая же участь постигла членов Военного совета ВВС Н.С. Шиманова, А.И. Шахурина, А.К. Репина.
Разбирательство велось торопливо. Особых доказательств вины не требовалось. По приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР А.А. Новиков был осуждён на пять лет лишения свободы.
Различные сроки тюремного заключения получили другие арестованные члены Военного совета ВВС. Снисхождения никому не было, старые заслуги не учитывались. Указом президиума ВС СССР Новиков был лишён воинского звания главный маршал авиации, звания дважды Героя Советского Союза, орденов и медалей. В дневнике – воспоминаниях А.А. Новикова есть запись, которая высвечивает ещё одну сторону этого судебного процесса: «Вопрос о состоянии ВВС был только ширмой, – пишет он многие годы спустя. – Арестовали по делу ВВС (следователь Лихачёв), а допрашивали в основном о другом. Им нужен был компрометирующий материал на одного из Маршалов Советского Союза (речь идёт о Г.К. Жукове). Допрос шёл с 22 по 30 апреля ежедневно. Потом с 4 по 8 мая. Был я у Абакумова не менее семи раз как днём, так и ночью, но не помню, чтобы там не было следователя Лихачёва, который любил повторять: «Был бы человек, статейка найдётся». Методы допроса Абакумова: оскорбления, провокация, угрозы, доведения человека до полного изнеможения морально и физически».
Без малого шесть лет строгой изоляции в следственной тюрьме! Потом он назовёт их иронично «полным курсом сталинской академии», а в дневнике – воспоминаниях запишет две понравившиеся ему фразы из книги Рудольфа Петерсхагена «Мятежная совесть»: «Полная изоляция хуже угроз и пыток» и ещё, «невиновный не просит о помиловании и не бежит, а требует справедливости». Но требовать было бесполезно. Осуждённый на пять лет, Новиков пробыл в заключении до февраля 1952 г. И.В. Сталин был ещё жив, его мнительность не знала предела. Справедливость восторжествовала только в мае 1953 г, когда «Дело Новикова» было пересмотрено, судимость снята. 2 июня того же года вышло постановление Президиума ЦК КПСС о полной реабилитации по сфальсифицированному на него делу. 29 июня 1953г. главный маршал авиации А.А. Новиков был назначен командующим дальней авиацией.
По сравнению с заключительным периодом войны удельный вес ВВС в Вооружённых Силах возрос более чем в три раза[10]. Фронтовая авиация стала реактивной, сверхзвуковой, ракетоносной. Международная обстановка обострялась. Правящие круги империалистических государств во главе с США стали открыто проводить политику подготовки новой мировой войны.
При этом надо иметь ввиду, что его назначение на должность командующего дальней авиацией совпало с началом её перевооружения на реактивную технику. Многие авиационные части, а вместе с ними и Новиков осваивали дальний бомбардировщик Ту-16, имевший скорость около 1000 километров в час и дальность около 5760 километров[11].
В начале 1954 г. личный состав Советских Вооружённых Сил приступил к плановому изучению атомного оружия и способов боевых действий в условиях его применения.
На титульном листе своей книги «В небе Ленинграда» Новиков с признательностью написал «Дорогой жене, товарищу и другу 1.01.70 г. Москва».
Появление на борту ТУ-16 ракет класса «воздух-земля» ещё больше расширяло боевые возможности боевой дальней авиации. Новикову не давала покоя мысль о состоянии парка сверхдальних бомбардировщиков.
Существовавшие в то время самолёты этого класса не имели перспективы. Им на смену нужна была принципиально новая машина, с большим радиусом действия, и повышенной грузоподъёмностью. Обо всём этом он и повёл речь на представительном совещании в начале февраля 1955 г.
— Стратегической авиации у нас пока ещё нет, — прямо и спокойно заявил он.- Мало иметь решения на бумаге.
В ответ ему сказали, что опытные образцы новых стратегических самолётов уже есть.
— Кроме того, — резко заметил Н.С. Хрущёв, – создаются баллистические ракеты, для которых недосягаемых целей на земле нет и не будет.
— Иметь образцы не означает иметь авиацию, — твёрдо стоял на своей позиции Новиков. – Что касается ракет, то, какими бы боевыми возможностями они не обладали, они вряд ли заменят собой самолёты.
Александр Александрович знал, что говорил. Противопоставление ракеты самолёту только-только зарождалось, но оно имело очень опасную, для авиации тенденцию. Со временем это приведёт к тому, что А.С. Яковлев прямо напишет в своей книге:
«Военно-техническая мысль всё больше приводит к таким примерно выводам: с появлением дальних баллистических ракет стратегический бомбардировщик теряет своё значение».
Спорность и ошибочность этих выводов потом, через годы, подтвердит сама жизнь. Ракета и самолёт не исключают, а дополняют друг друга, но в середине 50-х годов их противопоставление набирало силу. Новиков одним из первых заметил эту тенденцию и забил тревогу.
Однако выступление Новикова на февральском совещании не осталось без последствий. В марте 1955 г. он был освобождён от должностей командующего дальней авиации и заместителя главнокомандующего ВВС Советской Армии и направлен в распоряжение Министра обороны СССР. Новая опала.
Новиков тяжело заболел, перенёс инфаркт и сложную хирургическую операцию. 7 января 1956 г. Новиков был уволен из рядов Советской Армии в запас по болезни с правом ношения военной формы одежды. 6 августа 1956 г., главный маршал авиации Новиков А.А. прибыл в Ленинград, где возглавил Высшее авиационное училище Гражданского воздушного флота. Заканчивались лётные испытания ТУ-104.
Занятия в училище начались 15 сентября 1956 года, в день, когда ТУ-104 совершил первый регулярный рейс с пассажирами по трассе Москва-Иркутск. Время в пути по сравнению с полётом на поршневых самолётах сократилось почти втрое.
В январе 1957 г., после поездки в Киев для ознакомления с постановкой дела в Институте ГВФ и новыми машинами ОКБ О.К. Антонова Ан-10 «Украина» и АН-14 «Пчёлка» Новиков заболел. На трассы Аэрофлота вслед за ТУ-104 вышли турбовинтовые Ил-18, Ан-10 и самый большой в мире авиалайнер ТУ-114. Летом 1959г. в училище состоялся первый выпуск. Тяжело больной, Новиков отдавал всего себя работе. Занимали его в те годы и вопросы восстановления доброго имени тех, кто был репрессирован в конце 30-х годов, в том числе и командарма 1 ранга И.П. Уборевича.
Только через четверть века Александр Александрович (после ареста Уборевича), сам испытавший несправедливость обвинений и репрессий, смог написать о нём очерк, в котором есть такие слова:
«И сколько бы лет с тех пор ни прошло, я всегда был и буду благодарен Иерониму Петровичу за резкий поворот в моей военной судьбе. Добрые чувства к Иерониму Петровичу какое-то время нельзя было открыто выразить, и я хранил их глубоко в себе как тайную любовь к опальной святыне».[12]
На трассы Аэрофлота тем временем вышли ещё две новые машины: АН-24 и ТУ-124.
15 сентября 1961 г. Указом Президиума ВС СССР за большие заслуги в подготовке специалистов и вклад в развитие науки А.А. Новиков был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Он проработал в Ленинграде больше десяти лет.
Главного маршала авиации А.А. Новикова не стало 3 декабря 1976 года. В Центральном музее ВС СССР в Зале Победы выставлены его награды :три ордена Ленина, две медали «Золотая Звезда», три ордена Красного Знамени, три ордена Суворова 1 степени, орден Кутузова 1 степени, ордена Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, а также иностранные награды.
В городе Костроме стоит бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза главного маршала авиации А.А. Новикова.
Шахурин о репрессиях[13]
Алексей Иванович Шахурин прожил немногим более 70 лет. Он скончался в 1975 году, однако в книге ничего не сказал о своей послевоенной судьбе. А она была драматичной. После его кончины рукопись передали в ИПЛ братья Алексея Ивановича – Пётр Иванович и Сергей Иванович Шахурины. Они активно участвовали в подготовке рукописи к изданию.
В марте 1946 года А.И. Шахурина неожиданно освободили от руководства Наркоматом авиапромышленности СССР и назначили заместителем Председателя Совета Министров РСФСР, а спустя примерно месяц арестовали без санкции прокурора. Вместе с Шахуриным в тюрьме оказались Главнокомандующий Военно-Воздушными силами А.А. Новиков, главный инженер ВВС А.К. Репин, член Военного совета ВВС Н.С. Шиманов, начальник Главного управления заказов ВВС Н.П. Селезнёв, заведующие авиационными отделами ЦК ВКП(б) А.В. Будников и Г.М. Григорьян.
Их всех, а наркома авиапромышленности и Главкома ВВС в первую очередь, обвиняли в «антигосударственной» практике, в «протаскивании» во время войны и в послевоенное время на вооружение самолётов и моторов с большим браком или серьёзными конструктивно-производственными недоделками, в «сокрытии» всего этого от правительства.
Эта нелепость была сочинена вопреки тому, что уже после окончания Великой Отечественной войны писала газета «Правда»: «Авиационная промышленность Советского Союза вышла из войны с подлинным триумфом», несмотря на то, что за свою работу перед войной и в ходе неё А.И. Шахурин был удостоен звания Героя Социалистического Труда, отмечен многими государственными наградами, последнюю из которых – орден Суворова 1 степени – ему вручили за полгода до ареста.
«Дело» А.И. Шахурина и тех, кто оказался вместе с ним в заключении, непосредственно сфабриковал начальник Главного управления контрразведки, а впоследствии министр государственной безопасности СССР Абакумов. Приговор Военной коллегии Верховного суда СССР, заседавшей в закрытом порядке, без участия защиты и без свидетелей, обжалованию не подлежал.
А.И. Шахурина приговорили к семи годам лишения свободы, А.А. Новикова – к пяти, остальных от шести до двух лет.
Почти весь срок заключения отбыл бывший нарком авиапромышленности в тюрьме, а не в исправительно-трудовом лагере, как это вытекало из приговора. Причём содержался не в обычной тюрьме, а в следственном изоляторе, где осуждённых вообще держать не имели права. Так бериевские и абакумовские палачи пытались сломить свою жертву, просто хотели убить его, создавая невыносимые условия. Алексею Ивановичу отказывали в прогулках, за время заключения ему ни разу не разрешили выйти на свежий воздух, зато продолжались допросы, которые должны были держать его в напряжении и страхе. Даже после того как у А.И. Шахурина случился инфаркт, условия его пребывания в тюрьме не изменились.
После смерти И.В. Сталина Алексея Ивановича Шахурина и осуждённых вместе с ним реабилитировали как жертв произвола и беззакония. Материалы архивного дела показывают, что все они в период следствия «подвергались физическому изнурению» и психологическому давлению, в протоколах допросов не указывались показания обвиняемых, которые давали объективное представление о «вине» арестованных.
«Я тогда ещё не видел, что это действует шайка врагов Советского государства, — свидетельствовал А.И. Шахурин после освобождения на суде, где на скамье подсудимых сидели Абакумов и его подручные.
— Только потом я понял, что случай со мной – это не ошибка, как я тогда считал, а заранее продуманная система опорочивания честных советских людей, их шельмования, «одевания» их посредством пыток в наряд врагов советского народа, выдумывание «заговоров» и опять-таки шельмование и расстрелы честных советских людей. Я могу сказать, что меня спасла вера в партию. Только вера в партию, чистота перед ней, только то, что я, подвергаясь пыткам и оскорблениям, ни один час из этих тяжёлых лет не чувствовал себя вне партии, спасло меня».
Мы не можем, например, сказать, почему Алексей Иванович Шахурин в одних случаях, когда дело касается известных ему и народу людей, говорит о том, что они были репрессированы, а в других нет.
В книге названо много людей, судьба которых впоследствии сложилась драматически или даже трагически. Среди них – генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ А.В. Косарев, безвинно расстрелянный в 1939 году, начальник Военно-Воздушной академии имени Н.Е. Жуковского. А.И. Тодоровский, осуждённый на длительный срок, хотя никаких преступлений не совершал, начальники Управления Военно-Воздушных Сил Я.И. Алкенис и Я.В. Смушкевич, начальник НИИ ВВС А.И. Филин, также незаконно арестованные и затем расстрелянные. Осуждены были в разное время Н.Н. Поликарпов, А.Н. Туполев, В.М. Мясищев, В.М. Петляков и многие другие ведущие авиационные конструкторы, которых тоже постигла суровая, но незаслуженная кара.
Избрание меня на руководящую партийную работу совпало с выходом в марте 1938 года постановления ЦК ВКП(б) «О рассмотрении парторганизациями апелляций исключённых из ВКП(б)». Это постановление было принято в соответствии с решением состоявшегося в январе Пленума ВКП(б), обсудившего вопрос «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключённых из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков».
Не секрет, что репрессии, прокатившиеся по стране в 1936 и 1937 годах, необоснованные аресты людей и исключение из партии товарищей, которых окружающие знали как честных и преданных работников, нанесли значительный вред нашему общему делу, вызвали растерянность не только у коммунистов, но и у беспартийных работников. Вопрос, «кому же теперь верить?»» был у многих если не на устах, то в мыслях.
Поэтому упомянутое постановление имело исключительное значение. В постановлении указывалось, что необходимо смелее и быстрее восстанавливать в партии необоснованно исключённых коммунистов, осудить допускавшееся ранее огульное исключение коммунистов из партии, привлекать к строжайшей партийной ответственности клеветников и карьеристов, порочащих честных коммунистов.
Не знаю, как в других местах, но у нас это сыграло большую роль в оздоровлении обстановки в партийных организациях, активизации их работы.
Восстановленные в партии коммунисты вновь вливались в партийные коллективы. Появилась уверенность в работе, поднялась ответственность за порученное дело. В этой обстановке как-то особняком выделялся начальник областного управления НКВД Ершов. Он работал тут уже несколько лет и активно влиял на решение многих проблем в области.
Когда он звонил мне и просил назначить время для доклада, я всегда приглашал в кабинет прокурора области. Почти на все предложения начальника управления НКВД у него, как правило, были возражения, причём, как я видел, вполне обоснованные. Высказывал он эти возражения твёрдо, без боязни, что немного облегчало решение тех или иных вопросов. Ершов не мог не видеть, на чьей я стороне.
Как-то мы готовились к городской партийной конференции. И вот появляется в моём кабинете Ершов без предварительного звонка и предлагает арестовать ряд работников горкома партии, начиная с заведующего организационным отделом. Оснований для этого я не видел. Все обвинения основывались на случаях или косвенных показаниях, прямых улик не было. Понял, что это желание Ершова продемонстрировать на конференции свою работу по «очищению» парторганизации от «врагов народа». Дело требовало самого принципиального решения.
Не дожидаясь поезда на Москву, сел в машину и поехал в ЦК. Секретарь ЦК ВКП(б) Г.М. Маленков, к которому я обратился, принял меня немедленно, хотя он был удивлён, что я приехал без предварительного звонка:
— Что случилось?
Объяснил, что готовим городскую партконференцию, хотим провести её под знаком подъёма работы парторганизации, доверия к руководителям, активу, а начальник УНКВД, являясь в области как бы вторым центром, прикрываясь тем, что он друг Берии, что они вместе работали в Закавказье, предлагает арестовать трёх работников горкома партии без достаточных оснований. Считаю такие действия противоречащими решениям январского Пленума ЦК.
Выслушав меня, секретарь ЦК партии попросил:
— Расскажите подробно, как вы думаете провести конференцию?
А перед расставанием заметил:
— Так и действуйте, а о начальнике УНКВД мы посоветуемся и решим.
Не заходя ни в один отдел ЦК, я вернулся в Ярославль. В тот же день Ершова вызвали в Москву и больше мы его не видели. Начальником управления НКВД к нам прислали замечательного партийного работника Губина, который всё делал в самом тесном контакте с обкомом партии. В управлении НКВД с помощью обкома навели порядок.
* * *
Хотел бы особо подчеркнуть роль Научно-испытательного института ВВС и его начальника бригадного инженера Александра Ивановича Филина. Впервые имя Филина получило известность в 1934 году, когда он совместно с М.М. Громовым и И.Т. Спириным установил на самолёте Ант-25 мировой рекорд дальности по Замкнутой кривой – самолёт пролетел более 12 тысяч километров. Филин был одним из первых в стране лётчиков-инженеров, что было чрезвычайно важно в ту пору, когда мы создавали новую технику. Филин, прежде чем ставить свою подпись под «Утверждаю» на акте испытаний, каждый самолёт облётывал сам.
Однажды Сталин после обсуждения с Филиным какого-то авиационного вопроса пригласил его обедать. За обедом Сталин расспрашивал Филина о лётной работе, самолётам. Интересовался здоровьем. У Филина был больной желудок. Угощал вином, распорядился отнести ему в машину фруктов и несколько бутылок вина. Смотрел на него приветливо и дружелюбно.
А через несколько недель стоило одному конструктору доложить:
«Товарищ Сталин, Филин тормозит испытание моего истребителя, предъявляет всякие претензии, — и в судьбе Филина произошёл крутой поворот. – Как так? – Спросил Сталин. – Да вот указывает на недоработки, а я утверждаю, что самолёт хороший.
Присутствующий Берия что-то пробормотал про себя. Можно было понять только одно слово: «Сволочь». А через несколько дней стало известно, что Филин арестован. Спустя некоторое время я попытался помочь Александру Ивановичу, но из этого ничего не вышло.
* * *
Сталин почти ежедневно занимался авиационными делами. Как Председатель Совнаркома он как-то созвал совещание наркомов и выступил с речью о стиле руководства. Говорил о том, что главное – тщательно разбираться в порученном деле, знать людей, учить их работать и учиться у них, не считать, что ты всё понимаешь и знаешь лучше других. Закончил своё выступление Сталин так:
— Вот я часто встречаюсь с молодым наркомом товарищем Шахуриным и вижу определённую пользу от этих встреч, да и ему, думаю, они не бесполезны.
Эти слова вызвали в зале гул одобрения. Когда мы уходили с заседания, нарком общего машиностроения П.И. Паршин заметил:
— Вот это здорово, я к своему шефу раз в три месяца не всегда попадаю, а ты почти каждый день бываешь у Сталина.
— Это так, — отозвался я, — но ты не думай Пётр Иванович, что это просто – бывать у Сталина. Когда едешь к нему, никогда не знаешь, по какому вопросу вызван и какой вопрос возникнет в ходе доклада или беседы, а ответить всегда нужно точно.
Сталин мог согласиться, что ответ ему будет дан завтра по вопросу, требующему подготовки: Совета с заводом, конструкторами. Но на вопросы, которыми непосредственно занимается руководитель, ответ должен быть незамедлителен. Частые общения со Сталиным многому учили меня, молодого наркома. Общение со Сталиным приучало к быстрой организации нового дела, а также к безусловному выполнению принятых решений.
Теперь может показаться странным, но мы не уходили из своих кабинетов до двух-трёх, а то и до четырёх-пяти часов утра. Так было заведено. Вероятно, можно было работать и по другому распорядку, но тот, кто был непосредственно связан со Сталиным, работал именно так, потому что так работал Сталин. Сталин приезжал в Кремль примерно в пять часов дня и находился там, включая обед до трёх-четырёх ночи. В это время обычно начинались вызовы к нему или звонки от него по тому или иному вопросу. Это не значит, что до пяти часов Сталин отдыхал. Где бы он ни был: в кабинете, на квартире в Кремле или на даче, материалы и донесения к нему поступали всё время. А в указанное время он приезжал с уже готовыми решениями: чем заниматься в этот вечер, кого вызвать.
Вспоминается такой случай. У Сталина обсуждались какие-то авиационные вопросы. Шёл двенадцатый час ночи. Понадобилась справка по гражданской авиации, начальником которой был в то время В.С. Молоков. Сталин вызвал Поскрёбышева и распорядился:
— Соедините меня с Молоковым!
Поскрёбышев ушёл и долго не являлся. Сталин вызвал его снова:
— В чём дело?
Тот ответил, что Молокова нет в управлении и нет дома, он наверное в дороге.
Прошло ещё какое-то время. Сталин опять вызвал Поскрёбышева и очень сердито ему напомнил:
— Вы что, заснули? Почему до сих пор не соединили меня с Молоковым?
— Товарищ Сталин, я выяснил. Молоков принимает ванну и поэтому не может подойти к телефону.
Это известие поразило всех присутствующих. Всего двенадцать часов ночи, а он уже принимает ванну. Никто не проронил ни слова – так все были удивлены.
* * *
Незадолго до начала войны узнаю: Ванников отстранён от должности. Это произошло, конечно, не без помощи Берии, который сумел внушить Сталину подозрение в «шпионской» деятельности наркома.
Высоко ценя Бориса Львовича как работника, Сталин поначалу решил не арестовывать его, а поручил Маленкову и Берии встретиться с ним и предложить рассказать обо всём чистосердечно. В этом случае он будет прощён и оставлен на своём посту.
Состоялись две такие встречи. И конечно, Ванников ничего не мог сказать о своих занятиях «шпионажем»: встречался с иностранными представителями, но по поручению правительства и в интересах страны.
Сталин не поверил. Вскоре после ареста Бориса Львовича, когда мы остались со Сталиным вдвоём, он, зная о наших близких отношениях с Ванниковым, сказал, что тот оказался шпионом. Я ничего не ответил. Тогда Сталин спросил: — Почему вы молчите?
— А что я могу сказать? Удивлён!
Когда началась война и люди, знающие оборонную промышленность, стали ещё больше нужны, Б.Л. Ванникова спустя примерно месяц прямо из тюрьмы привезли в кабинет Сталина. И Сталин сказал ему:
— Мы хотим назначить вас уполномоченным ГКО по организации оборонной промышленности на Урале. И добавил:
— Вы на нас не сердитесь, в своё время я тоже сидел в тюрьме. На что Борис Львович со свойственной ему находчивостью ответил: — Вы товарищ Сталин, сидели как народный герой, а я как «враг народа». Так Ванников вновь приступил к государственной деятельности. Когда в начале 1942 года выяснилась необходимость улучшения производства боеприпасов, Борис Львович был назначен народным комиссаром промышленности боеприпасов.
Об И.В. Сталине[14] в художественной и мемуарной литературе написано немало. Но интерес к его личности не ослабевает и это в общем-то естественно – ведь Сталин на протяжении длительного периода времени, включая неимоверно сложные и трудные годы войны, находился на посту Генерального секретаря ЦК партии, возглавлял Советское правительство, был Председателем Государственного Комитета Обороны.
Написано, повторяю, немало, порой с большей, порой с меньшей достоверностью. Следует сказать, что полная и объективная политическая оценка деятельности И.В. Сталина была в своё время дана ЦК КПСС в специальном постановлении.
Эта оценка, основанная на глубоком марксистско-ленинском анализе природы, сущности и последствия культа личности, известна, и, думается, здесь нет нужды повторять её.
После XVIII съезда партии (1939 г) мне довелось не раз видеть и слышать И.В. Сталина, а впоследствии и работать под его непосредственным руководством в течение десяти с лишним лет, в том числе всю Великую Отечественную войну.
Сталин пользовался большим авторитетом у советских людей. Они знали его как активного борца за победу социализма, доверяли ему. В предвоенные годы партии и народу не было известно о фактах грубого нарушения Сталиным социалистической законности. Существовало убеждение, что проводившиеся в то время репрессии применяются против действительных врагов народа, в интересах социализма.
Между словом и делом в деятельности Сталина появился разрыв. Некоторые ограничения демократии, неизбежные ввиду ожесточённой борьбы с классовым врагом и его агентурой, он возвёл в норму руководства партией и страной. Многие нарушения явились следствием негативных черт характера Сталина, на которые в своё время указывал В.И. Ленин.
Эти явления, конечно, наносили нашему общему делу серьёзный ущерб. Но они не изменили, да и не могли изменить природы социалистического общественного строя, политических и организационных основ партии, её генеральной линии.
Претворяя эту линию в жизнь, советские люди вдохновенно и самоотверженно трудились над укреплением экономического и оборонного могущества своей Родины.
Несколько забегая вперёд, скажу, что партией и народом в предвоенные годы была проведена поистине огромная созидательная работа, результаты которой собственно говоря, и составили материальную и духовную основу разгрома врага в Великой Отечественной войне.
Что касается И.В. Сталина, то должен сказать, что именно во время войны отрицательные черты его характера были ослаблены, а сильные стороны его личности проявились наиболее полно.
Рокоссовский[15]
В сентябре 1935 г, когда в Красной Армии были введены персональные воинские звания для командного состава, Рокоссовский получил звание комдива. В начале 1936 г. он получает назначение на должность командира 5-го кавалерийского корпуса (16,25 и 30-я Кавалерийские дивизии), дислоцировавшегося в старинном русском городе Псков. В новый 1937 год Рокоссовский вступал в приподнятом расположении духа. Дела в корпусе шли хорошо. Начальство ценило Константина Константиновича, подчинённые относились к нему с большим уважением. Командиры всех степеней изучали организацию и тактику действий армий Финляндии, Эстонии, Латвии, Германии, Польши и Швеции.
Однако Рокоссовского тревожили другие события, которые происходили в стране и армии. С 23 февраля по 5 марта 1937 г. в Москве состоялся пленум ЦК ВКП(б), на котором в числе других вопросов было рассмотрено положение в военном ведомстве. Нарком обороны К.Е. Ворошилов, выступая на пленуме заявил, что в армии и на флоте, в отличие от других ведомств, «вскрыто пока не так много врагов». К этому времени было арестовано несколько человек из числа высшего начсостава — заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа комкор В.М. Примаков;военный и военно-воздушный атташе в Великобритании комкор В.К. Путна; заместитель командующего войсками Харьковского военного округа комкор С.А. Туровский; командир 8-й механизированной бригады комдив Д.А. Шмидт; комендант Литечевского укрепрайона комдив Ю.В. Саблин; командир 25-й Чапаевской кавалерийской дивизии комбриг М.О. Зюк; начальник штаба 66-й стрелковой дивизии полковник И.Л. Карпель и начальник штаба 18-й авиабригады майор Б.И. Кузьмичёв. Для Рокоссовского арест «врагов народа» имел фатальное значение, так как Примаков был одним из его начальников, а Зюк служил в его подчинении.
23 марта 1937 года в газете «Правда» была опубликована статья «Хранить государственную и партийную тайну!» В статье отмечалось, что некоторые руководители и работники «не извлекли достаточных уроков из проверки и обмена партийных документов и прошедших процессов троцкистско-зиновьевских бандитов, этих изменников родины, шпионов и диверсантов».
Далее говорилось о том, что славные большевистские традиции настоятельно требуют от каждого коммуниста честно и строго хранить партийную и государственную тайну.
«Этого ни на минуту нельзя забыть, — подчёркивалось в газете. – Враги пытались и будут пытаться использовать малейшую щель в нашем аппарате, будут пускать в ход всё – двурушничество, лесть, подхалимство, спаивание, лишь бы втереться в доверие и выведать секреты нашей государственной мощи».
В мае неожиданно для всех был арестован первый заместитель наркома обороны Маршал Советского Союза М.Н. Тухачевский. Вскоре последовали новые аресты. Органы наркомата внутренних дел усиленно раскручивали дело «О контрреволюционном заговоре в РККА». 7 июня 1937 года Рокоссовский, как и другие командиры частей и соединений, получил приказ № 072 наркома обороны СССР Ворошилова «О раскрытой народным комиссариатом внутренних дел предательской, контрреволюционной военной фашистской организации, которая, будучи строго законспирированной, долгое время существовала и проводила подлую подрывную, вредительскую и шпионскую работу в Красной Армии».
В состав «военной фашистско-троцкистской банды», по данным Ворошилова, входили заместители наркома обороны Я.Б. Гамарник и М.Н. Тухачевский, командующие войсками военных округов И.Э. Якир и И.П. Уборевич, начальник Военной академии им. М.В. Фрунзе А.И. Корк, заместители командующих войсками военных округов В.М. Примаков и М.В. Сангурский, начальник управления по начальствующему составу Б.М. Фельдман, военный атташе в Англии В.К. Путна, председатель Центрального совета Осоавиахима Р.П. Эйдеман.
В приказе отмечалось, что «конечной целью этой шайки было – ликвидировать во что бы то ни стало и какими угодно средствами советский строй в нашей стране, уничтожить в ней Советскую власть, свергнуть рабоче-крестьянское правительство и восстановить в СССР ярмо помещиков и фабрикантов».
Ворошилов обвинил «фашистских заговорщиков» в подготовке убийства руководителей партии и правительства, во вредительстве в народном хозяйстве и в деле обороны страны, в подготовке поражения Красной Армии в случае войны, в продаже врагам Советского Союза военных тайн, в ведении подрывной работы в деле обороны страны.
Далее утверждалось, что «враги народа» пойманы с поличным и «целиком признались в своём предательстве, вредительстве и шпионаже».
В приказе подчёркивалось: «Мы очищаем свои ряды от фашистско-шпионской троцкистской гнили и впредь не допустим повторения этих позорных фактов. Очищая свою армию от гнилостной дряни, мы тем самым делаем её ещё более сильной и неуязвимой. Красная Армия обязана и будет иметь до конца честный, преданный делу рабочих и крестьян, делу своей Родины подлинно свой начальствующий состав. Удесятерим большевистскую бдительность, радикально улучшим нашу работу во всех областях, повысим самокритику и тем ускорим полную ликвидацию последствий работы врагов народа».
12 июня все указанные в приказе Ворошилова «враги народа» были расстреляны. 21 июня войска получили новый приказ № 082, подписанный наркомами обороны и внутренних дел «Об освобождении от ответственности военнослужащих, участников контрреволюционных и вредительских фашистских организаций, раскаявшихся в своих преступлениях, добровольно явившихся и без утайки рассказавших обо всём ими совершённом и о своих сообщниках».
Военным советам округов (армий, флотов) предписывалось представлять Наркому обороны свои соображения как о возможности «оставления раскаявшегося и прощённого преступника в рядах РККА, так и о дальнейшем его служебном использовании в армии».
Рокоссовский, читая эти статьи и приказы, ещё не знал, что он сам попал под подозрение. В то время командиры частей и соединений должны были принимать активное участие в партийной и общественной жизни, без чего была немыслима дальнейшая военная карьера. Не избежал этой участи и Константин Константинович. Однако он практически не выступал на заседаниях этих выборных органов, чем воспользовались его недруги и те, кто не хотел попасть в список «врагов народа».
Нередко командира корпуса критиковали и его подчинённые. Так, командир 25-й кавалерийской дивизии С.П. Зыбин, выступая на 2-й Псковской городской партконференции, состоявшейся в апреле –мае 1937 г, говорил: «Мы часто задерживаем разные тёмные элементы у нас в округе. Эти элементы бродят везде – и в городе, и вне города. Пробираются и к нам в городок».
Масла в огонь подлил и начальник окружного отдела НКВД С.Г. Южный: «У нас имеется Бутырская церковь, в которую ходят красноармейцы и по знакомству привозят дрова в церковь. Этот факт говорит о том, что политико-массовая работа поставлена в частях слабо».
Начальник милиции В.И. Шамшин считал, что командование военного городка не принимает мер к охране. На конференции говорилось о случаях хулиганства, пьянства, уголовных преступлениях, фактах венерических заболеваний среди военнослужащих, что, по мнению некоторых, могло в случае войны «вывести часть наших командиров в особенности из среднего начсостава из строя».
Некоторые выступавшие делали выводы об умышленном распространении «заразной проституции в приграничных гарнизонах шпионскими организациями и враждебными нам странами».
Все эти недостатки, естественно, можно было отнести и на счёт командира корпуса Рокоссовского, ответственного за состояние дел в подчинённых воинских частях. На этой же конференции со стороны ряда руководителей он удостоился персональной критики, касавшейся отношения к общественным обязанностям: частое отсутствие на пленумах горкома, несвоевременное получение депутатского мандата и т.д.
Поэтому Рокоссовский принимает решение не входить в состав горкома ВКП(б) нового состава, и когда его кандидатуру предлагают вновь, «делает себе самоотвод, — как гласит протокольная запись того заседания, — мотивируя частыми разъездами и отсутствием в городе Пскове». Дальше в документе сообщается, что с невключением фамилии Рокоссовского в списки для голосования согласились 360, возразили 16 человек.
Авторитет Рокоссовского был тем не менее довольно высоким, о чём говорят, например, результаты тайного голосования по выборам состава Псковского окружкома ВКП(б) на 2-й окружной партконференции (май-июнь 1937). После персонального обсуждения каждой кандидатуры за него было подано 344 голоса и только 7-против. Тогда же 342 голосами «за» (против – 6 голосов) он был избран делегатом с правом решающего голоса на Ленинградскую областную конференцию.
Гром грянул неожиданно. 5 июня на имя наркома обороны Ворошилова пришло письмо, зарегистрированное секретариатом под номером 19а. В нём говорилось, что Рокоссовского, командующего в Пскове 5-м кавалерийским корпусом, стоило бы проверить по линии НКВД, поскольку он «подозревается в связях с контрреволюционными элементами и его социальное прошлое требует серьёзного расследования». К тому же, напоминали, Рокоссовский – поляк. Письму дали ход.
Партийная организация управления штаба 5-го кавалерийского корпуса приняла решение об исключении Рокоссовского из членов ВКП(б), 27 июня партийная комиссия при политотделе 25-й кавалерийской дивизии принимает следующее постановление:
«Слушали: конфликтное дело.
Рокоссовский Константин Константинович, рождения 1896 года, член ВКП(б) с 1919 года, партбилет № 0456018, по соцположению рабочий, по национальности поляк, в РККА с 1918 года, партвзысканий не имеет, при разборе дела присутствует.
Постановили: решение парторганизации Управления штаба 5 К.К. утвердить. За потерю классовой бдительности Рокоссовского К.К. из рядов ВКП(б) исключить».
В распоряжении органов внутренних дел уже имелись факты об участии Рокоссовского в мифическом «забайкальском заговоре». Корпусной комиссар В.Н. Шестаков, бывший начальник политуправления и член Военного совета Забайкальского военного округа, арестованный 6 июля, на допросе 13 июля показал: «В кавалерии в троцкистскую организацию входили: 1. Рокоссовский Константин Константинович – бывший командир 15-й кав. дивизии, в данное время командир кав. корпуса в г. Пскове».
17 августа К.К. Рокоссовский был арестован и направлен во внутреннюю тюрьму Управления госбезопасности ГБ НКВД Ленинградской области.
Рокоссовского наряду с командующим войсками Белорусского округа командармом 1-го ранга И.П. Беловым, комкорами И.К. Грязновым и Н.В. Куйбышевым оговорил командарм 2-го ранга М.Д. Великанов. Последнего органы НКВД «разрабатывали» на предмет причастности к «военно-фашистскому заговору в РККА» не останавливаясь перед физическим воздействием на подследственного.
Аресту подверглись многие другие командиры, служившие с Рокоссовским. Вслед за этим бюро Псковского окружкома ВКП(б), посредством «опроса членов окружкома», приняло следующее постановление:
«В связи с фактами, разоблачающими Рокоссовского как участника контрреволюционной организации, исключить Рокоссовского Константина Константиновича из состава членов окружкома ВКП(б) и из членов ВКП(б). Внести настоящее постановление на утверждение пленума окружкома ВКП(б).»
На пленуме Псковского окружкома ВКП(б), состоявшемся 11-12 сентября, был рассмотрен вопрос «О состоянии окружного партийного руководства и ликвидации последствий вредительства в округе». Первым пунктом в повестке дня значилось: «Исключение из состава пленума окружкома ВКП(б) и из рядов ВКП(б) врагов народа Глушенкова, Ларионова, Гужкова, Усачёва, Рокоссовского, Камкина, Посунько, Беляева, Суровцева, Кудрявцева, Бернацкого». В постановлении пленума отмечалось: Утвердить решение бюро окружкома ВКП(б) об исключении Рокоссовского К.К. из состава пленума окружкома ВКП(б). и из рядов ВКП(б) как врага народа».
После ареста Рокоссовского его жена Юлия Петровна и дочь Ада были высланы из Дома специалистов и оказались в коммунальной квартире одного из домов. Затем, ввиду того, что семье «врага народа» вообще было предложено покинуть пограничный город Псков, она выехала к своим знакомым в Армавир. В своих мемуарах «Солдатский долг» Рокоссовский ничего не пишет о годах, проведённых под следствием. Он только подчёркивает:
«В конце тридцатых годов были допущены серьёзные промахи. Пострадали и наши военные кадры, что не могло не отразиться на организации и подготовке войск». В автобиографии, датированной 4 апреля 1940 г. Рокоссовский писал: «С августа 1937 по март 1940 гг. находился под следствием в органах НКВД. Освобождён в связи с прекращением дела».
От Рокоссовского настойчиво требовали подтверждения «подрывной деятельности» сослуживцев. Следователи выбили ему девять зубов, сломали три ребра, отбили молотком пальцы ног, дважды инсценировали расстрелы. На встрече со слушателями Военной академии им. М.В. Фрунзе в 1962 г. он рассказывал: «Били. Вдвоём, втроём, одному-то со мной не справиться! Держался, знал, что если подпишу – верная смерть».
По воспоминаниям генерала И.В, Балдынова, который находился в заключении вместе с Рокоссовским, Константин Константинович, возвращаясь в камеру после допросов, каждый раз упорно повторял: «Ни в коем случае не делать ложных признаний, не оговаривать ни себя, ни другого. Коль умереть придётся, так с чистой совестью».
В конечном итоге из обвинительного заключения следовало, что ещё в 1916 г. во время службы Рокоссовского в 5-м драгунском Каргопольском полку, его завербовал в шпионы близкий друг, такой же, как он, унтер-офицер, а по совместительству польский агент Адольф Юшкевич, бежавший позднее в Польшу. На судебном заседании Рокоссовский заявил, что в действительности «агент» Юшкевич, геройски сражаясь в рядах Красной Армии, погиб в 1920 г. на Перекопе. И сослался на «Красную Звезду», которая рассказывала о его подвиге. Заседание военной коллегии отложили, нужный номер газеты нашли.
Следователи, пытаясь найти компромат на Рокоссовского, обратились за помощью к его бывшим сослуживцам. Генерал-майор в отставке М.И. Сафонов, служивший в 15-й Кавалерийской дивизии вспоминал, что в сентябре 1937 г. в полк пришёл пакет из особого отдела Ленинградского военного округа. Адресован он был командиру полка, комиссару, уполномоченному НКВД и секретарю партбюро, от которых требовалось срочно собрать и выслать компрометирующий материал на Рокоссовского.
Оперуполномоченный пришёл в себя первым:
— Надо собирать, ничего не поделаешь.
— Что собирать, на кого? Днём с огнём не найдёшь то, чего быть не может! – не сдержался комиссар. Командир полка был того же мнения. На следующий день было созвано партийное собрание, в котором принимали участие не только коммунисты, но и комсомольцы, и беспартийные. Сафонов зачитал письмо из Ленинградского военного округа, сообщил, что партбюро не имеет компрометирующих фактов, касающихся Рокоссовского. Выступления были горячими. И во всех звучало одно. «Фабриковать компромат на Рокоссовского – значит заниматься клеветой. Не может быть у него связей ни с японской разведкой, ни с антипартийными группами».
Тексты выступлений коммунистов и резолюцию партсобрания отправили в ЛВО. Точно также поступили и коммунисты других полков дивизии. Однако уведомления о получении материалов из особого отдела округа не последовало. В 1954 году М.И. Сафонову довелось встретиться с К.К. Рокоссовским. Они вспоминали совместную службу, бои на КВЖД, товарищей-однополчан. Потом Константин Константинович сказал: «А ведь вы, братцы, спасли меня, можно сказать, тогда, в тридцать седьмом. Ваши заявления сыграли свою роль. Ведь в них были не просто решения партсобраний, а требование коммунистов освободить меня как подвергшегося клевете. Надо было иметь большую смелость тогда, что бы такое отправить в особый отдел округа».
Итак, каких-либо поводов для дальнейшего содержания Рокоссовского под стражей не было. Несмотря на это, его отправили в специальный лагерь – БАМЛАГ. Корреспондент журнала «Советский воин» капитан А. Островский в 1990 году посетил посёлок Свободный, где проживали охранники Бамлага. Он встретился с бывшим начальником фельдъегерской связи БАМЛАГА, потом краевого ОГПУ И.Ф. Драчёвым. Вот что поведал старый служака:
«- Здесь в Бамлаге Рокоссовский был на пересылке, в тюрьме. Я видел Рокоссовского в коридоре Хабаровского НКВД, где-то в 37-38 годах, точно не помню. Заглядывал много раз в глазок камеры, где он сидел. Видел, как Блюхер заходил в камеру Рокоссовского, и тот отдавал ему честь. Военных в то время много перебывало в камерах Хабаровского НКВД. Всех не упомнишь.
— Ходят слухи, будто Рокоссовский пытался бежать из лагеря? – спросил Островский.
— Не-е-ет, — ухмыльнувшись в бороду, протянул бывший старшина, — политические сознательные, они не бегали, как уголовщики. Они работали справно.
Вторые пути на Транссибе – их работа. Мост железнодорожный знаешь через Зею? И его рук дело. Здоровый был мужик, длинный. Молчун. Правда, как привезли, поначалу в гимнастёрке ходил, без знаков различия. А сукно-то выдаёт – генеральское. Потом гимнастёрку заменили на робу.
Правда, недолго он у нас пробыл, отправили дальше по этапу».
В середине июля 1939 г. К.К. Рокоссовский вместе с другими заключёнными прибыл в Сосногорск. Там он встретился с Поповым Иваном Викентьевичем, который был у Рокоссовского ординарцем, накормили местные жители всех заключённых. Вскоре партию заключённых направили в Княж – Погост, севернее Котласа. Рокоссовский работал там истопником в гражданской бане. Попов с передачей каждый месяц ходил к своему командиру.
После того как Константина Константиновича освободили, он не забыл своего ординарца. В конце апреля 1940 г. получили Поповы посылки из Москвы. В двух упаковках были брюки для Ивана Викентьевича, юбка для его жены, гостинцы детям.
22 марта 1940 г. К.К. Рокоссовского выпустили на свободу. На руки он получил следующий документ:
«Справка
Выдана гр-ну Рокоссовскому Константину Константиновичу, 1896 г.р., происходящему из гр-н б. Польши, г. Варшава, в том, что он с 17 августа 1937 г. по 22 марта 1940г. содержался во внутренней тюрьме УГБ НКВД ЛО и 22 марта 1940 г. из-под стражи освобождён в связи с прекращением его дела.
Следственное дело № 25358 1937 г».
Маршал Советского Союза С.М. Будённый рассказывал, что он был в числе тех, кто добивался освобождения Рокоссовского.
К.К. Рокоссовскому предоставили возможность отдохнуть вместе с семьёй в Сочи. По возвращении с курорта он был принят С.К. Тимошенко, который к тому времени стал народным комиссаром. «Семён Константинович предложил мне снова вступить в командование 5-м Кавалерийским корпусом (в этой должности я служил ещё в 1936-1937 годах), пишет Константин Константинович.
— Корпус переводился на Украину, был ещё в пути, и нарком пока направил меня в распоряжение командующего Киевским особым военным округом генерала армии Г.К. Жукова. Я должен был помочь в проверке войск, готовившихся к освободительному походу в Бессарабию. В моём присутствии нарком сообщил об этом по телефону командующему округом».
В акте о приёме Наркомата обороны Тимошенко от Ворошилова (после советско-финляндской войны Ворошилов был снят с занимаемой должности) указывалось, что отсутствует мобилизационный и оперативный планы, план подготовки и пополнения комсостава запаса для полного отмобилизования армии по военному времени, данные о состоянии прикрытия границ, запущен учёт личного состава и др.
Полностью была пересмотрена организационно-штатная структура всех родов войск.
С учётом опыта применения во французской кампании вермахтом крупных танковых и механизированных соединений в Советском Союзе с июня 1940 г. начинают формировать 9 механизированных корпусов, причём в каждом предполагалось иметь 1031 танк.
В июне 1940 г. К.К. Рокоссовский прибыл в штаб Киевского особого военного округа, которым командовал его бывший подчинённый и однокашник по Высшей Кавалерийской школе генерал армии Г.К. Жуков.
Рокоссовский в соответствии со своим положением входил в состав Высшего Военного Совета. В этом качестве он 1 июня 1946 г. принимал участие в заседании, на котором рассматривалось «дело» маршала Г.К. Жукова[16]. Вёл заседание И.В. Сталин. Участникам заседания было зачитано письмо бывшего командующего ВВС Красной Армии главного маршала авиации А.А. Новикова, направленное им 30 апреля на имя Сталина. Этому предшествовали следующие события.
В августе 1945 г. Василий Сталин отправил своему отцу письмо, в котором содержалась жалоба на то, что «ВВС принимают от промышленности самолёт ЯК-9 с дефектами, из-за которых бьётся много лётчиков». Тогда постановлением ГКО командующему ВВС Новикову был объявлен выговор, «за невнимательное отношение к поступающим из строевых частей ВВС сигналам о серьёзных дефектах самолёта ЯК-9 с мотором 107А и отсутствие настойчивости в требованиях об устранении этих дефектов».
А.А. Новиков считал, что поводом для этого послужил его отказ представить Василия Сталина к присвоению звания генерала. Несмотря на это, под нажимом самого Иосифа Виссарионовича в начале марта 1946 г. его сын всё-таки стал генералом, а строптивый Новиков был отстранён от занимаемой должности.
В середине марта для проверки ВВС создаётся государственная комиссия под председательством заместителя министра Вооружённых Сил Н.А. Булганина. Члены комиссии, в состав которой входили видные военные деятели, в том числе маршалы Жуков и Василевский нашли много недостатков в деятельности Новикова на посту командующего ВВС. Постановлением СНК СССР от 16 марта (1946 г.) он был снят с занимаемой должности, а в апреле несмотря на то, что Новиков являлся депутатом Верховного Совета СССР, его арестовали.
Новиков признал свою виновность «в ещё более важных преступлениях», суть которых составляют его связь с Жуковым и те «политически вредные» разговоры, которые велись с ним. Описание «пагубных» деяний маршала Жукова занимает несколько страниц.
После того как письмо Новикова было зачитано на заседании Высшего Военного Совета, началось его обсуждение. Маршал бронетанковых войск П.С. Рыбалко занял твёрдую позицию в защите Жукова, хотя у него имелись причины обижаться на Георгия Константиновича, от которого он выслушал незаслуженные упрёки в бытность командующего 3-й гвардейской танковой армией, во время штурма Берлина.
Маршал Советского Союза И.С. Конев, это подтверждается и другими свидетельствами, вспоминал, что много грязи на голову Жукова, включая всякого рода бытовые подробности, вылил начальник Главного управления кадров генерал Ф.И. Голиков.
Сам Конев на заседании отметил, что характер у Жукова неуживчивый, трудный, с ним работать очень трудно, не только находясь в его подчинении, но и будучи соседом по фронту. Однако Иван Степанович категорически отверг предъявленные Жукову обвинения в политической нечестности, в неуважении к ЦК ВКП(б).
Генерал армии В.Д. Соколовский, по свидетельству Конева «построил своё выступление в более обтекаемой форме, но принципиально подтвердил, что Жуков честный человек, честно выполнял приказы и показал его роль в защите Москвы.
Правда, и Соколовский заметил, что работать с Жуковым из-за неуживчивого характера действительно нелегко».
Отвергли большинство обвинений в адрес Жукова Маршал Советского Союза Рокоссовский, генерал армии А.В. Хрулёв.
Сталин, выслушав членов высшего Военного Совета, спросил:
— Что будем делать с Жуковым?
Несколько членов Высшего Военного Совета предложили снять Жукова с должности Главнокомандующего Сухопутными Войсками.
Итоги заседания Высшего Военного Совета были подведены в приказе Министра Вооружённых Сил И.В. Сталина № 009 от 9 июня 1946 г. В приказе говорилось:
«Совет Министров Союза ССР постановлением от 3 июня с.г. утвердил предложение Высшего Военного Совета от 1 июня об освобождении Маршала Советского Союза Жукова от должности Главнокомандующего Сухопутными Войсками и этим же постановлением освободил маршала Жукова от обязанности Заместителя Министра Вооружённых Сил».
В приказе отмечалось, что маршал Жуков, «утерял всякую скромность и будучи увлечён чувством личной амбиции, считал, что его заслуги недостаточно оценены, приписывая при этом себе в разговорах с подчинёнными разработку и проведение всех основных операций Великой Отечественной войны, включая те операции, к которым он не имел никакого отношения». В приказе приводились «факты присвоения» Жуковым себе планов ликвидации «сталинградской группы», «крымской группы», «корсунь-шевченковской группы» немецких войск и др.
Маршал Жуков был отправлен командовать войсками Одесского военного округа.
Его «дело» послужило уроком для других полководцев, если бы они осмелились противоречить официально установленным взглядам на ход и исход Великой отечественной войны.
28 октября 1957 года Рокоссовский принимал участие в работе Пленума ЦК КПСС с одним вопросом на повестке дня: «Об улучшении партийно-политической работы в Советской Армии и Флоте». В действительности на Пленуме острой критике подвергалась деятельность маршала Жукова на посту министра обороны ССР.
С основным докладом выступил секретарь ЦК КПСС М.И. Суслов. Он отметил грубое нарушение партийных ленинских принципов руководства Министерством обороны и Советской Армии со стороны товарища Жукова, огульное избиение командных и политических кадров, о потере Жуковым элементарного чувства скромности — распорядился поставить в Музей Советской Армии написанную художником картину, представляющую горящий Берлин и Бранденбургские ворота и на этом фоне вздыбленный конь топчет знамёна побеждённых государств, а на коне величественно восседает товарищ Жуков.
В докладе далее отмечалось, что Жуков игнорирует Центральный комитет, он без ведома ЦК принял решение организовать школу диверсантов в две тысячи слушателей. О её организации должны были знать только три человека: Жуков, генерал Штеменко и генерал Мамсуров, который был назначен начальником этой школы, который как коммунист счёл своим долгом информировать ЦК об этом незаконном действии министра.
Резкой критике подверглась деятельность Жукова на посту Министра обороны СССР со стороны начальника Генштаба, Маршала Советского Союза В.Д. Соколовского, начальника Главного Политического управления СА и ВМФ генерал-полковника А.С. Желтова.
Не нашлось слов в защиту Жукова у выступивших маршалов Конева, Ерёменко, Бирюзова, Тимошенко, Рокоссовского.
Подводил итоги Пленума Хрущёв, как всегда выступивший с пространной речью. Красной нитью через неё проходило стремление во что бы то ни стало обвинить Жукова в намерении захватить власть в стране.
3 ноября в «Правде» было опубликовано постановление Пленума ЦК КПСС «Об улучшении партийно-политической работы в Советской Армии и на Флоте». В нём отмечалось: «При личном участии т. Жукова Г.К. в Советской Армии стал насаждаться культ его личности. При содействии угодников и подхалимов его начали превозносить в лекциях и докладах, в статьях, кинофильмах, брошюрах, непомерно возвеличили его персону и его роль в Великой Отечественной войне. Тов. Жуков не оправдал оказанного ему партией доверия. Он оказался политически несостоятельным деятелем, склонным к авантюризму».
Этим постановлением Жукова вывели из состава Президиума и ЦК КПСС. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября его освободили от должности министра обороны, а постановлением Совета Министров СССР № 240 от 27 февраля 1958 г. уволили в отставку в возрасте 62года.
Вскоре за своё «мягкое выступление» понёс «наказание» и Рокоссовский. Он был освобождён от должности главного инспектора – заместителя министра обороны СССР и назначен командующим войсками Закавказского военного округа. Однако уже в январе 1958 г. Константина Константиновича восстановили в прежней должности.
К.К. Рокоссовский находился на посту главного инспектора немногим более четырёх лет. Весной 1962 г. ему позвонили из Центрального Комитета КПСС и предложили выступить в одной из газет со статьёй о Сталине:
— Вы же были оклеветаны и репрессированы! Кому, как не вам, рассказать о репрессиях военачальников, о крупных упущениях Сталина перед войной, о серьёзных провалах в годы войны, особенно в сорок первом и сорок втором годах. Есть о чём написать, Константин Константинович!
Телефонные звонки повторялись, пока Рокоссовского не пригласили в ЦК. К удивлению маршала он оказался в кабинете Хрущёва. Тот сразу, не расспросив о службе, принялся убеждать Рокоссовского написать статью против Сталина. Выдержав резкий и грубый натиск Хрущёва, маршал сказал:
— Для меня, Никита Сергеевич, Сталин велик и недосягаем. Он для меня исполин. У меня рука не поднимется, чтобы написать о Верховном Главнокомандующем что-то непотребное. Да, он ошибался, да, по его вине многие пострадали, ушли из жизни. Но под его руководством Советский Союз разгромил фашизм!
Хрущёв не стал больше слушать маршала, махнул рукой, давая понять что встреча окончена.
В ту ночь маршал не мог уснуть, предчувствуя надвигающуюся неприятность. Поднялся Рокоссовский рано, вызвал машину и поехал в министерство обороны. Поднялся в служебный кабинет, открыл дверь и увидел сидевшего за его столом маршала Советского Союза К.С. Москаленко, занимавшего до этого пост главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения.
Оказывается, ещё вчера, после встречи Хрущёва с маршалом Рокоссовским, президиум ЦК принял ещё одно необоснованное и несправедливое решение.
В апреле 1962 г. Рокоссовский назначается Генеральным инспектором Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Эта группа, получившая в народе название «Райская группа», выполняла задания министра обороны и Генштаба по отдельным вопросам оперативной и боевой подготовки, развития и строительства Вооружённых Сил. Она была учреждена Постановлением Совета Министров СССР от 30 января 1958 г. в целях использования в интересах обороны страны накопленных знаний и опыта лиц высшего руководящего состава.
На должности генеральных инспекторов назначались Маршалы Советского Союза, Адмиралы флота Советского Союза, Главные маршалы видов Вооружённых Сил и родов войск; на должности военных инспекторов — советников – генералы армии, маршалы видов Вооружённых Сил и адмиралы флота.
После того, как Рокоссовского перевели в группу генеральных инспекторов, он взялся за написание мемуаров. Как и другие полководцы, Константин Константинович столкнулся с политической конъюнктурой. Об этом он с горечью говорил главному маршалу авиации А.Е. Голованову:
«Мы своё дело сделали, и сейчас мы не только не нужны, но даже мешаем тем, кому хочется по-своему изобразить войну».
Но ему не суждено было увидеть свой труд – «Солдатский долг». 3 августа 1968 года, в 54-годовщину службы в армии его не стало.
Он прошёл путь от младшего унтер-офицера царской армии до Маршала Советского Союза. Он выжил в аду Гулага. Он участвовал в четырёх войнах – Первой мировой, Гражданской, на КВЖД, в Великой Отечественной. Он командовал Парадом Победы.
Ошибка Главкома ВМС и ГМШ
Кузнецов не скрыл от союзников – секрет немецких торпед с акустическими приборами самонаведения, используя информацию своих моряков Черчилль обратился к Сталину, Сталин спросил мнение Кузнецова Н.Г. и разрешил показать англичанам немецкую лодку со всей начинкой.
В 1946 году по указанию И.В. Сталина комиссия под председательством маршала Л. Говорова проверила деятельность Главкома ВМС Кузнецова Н.Г. и ГМШ. Кузнецов был освобождён от занимаемой должности.
3 февраля 1948 года был оглашён приговор:
В.А. Алафузов и Г.А. Степанов приговорены к 10 годам лишения свободы, Л.А. Галлер – к четырём. Кроме того они лишены всех воинских званий и государственных наград; Н.Г. Кузнецов признан виновным, однако учитывая большие заслуги Кузнецова Н.Г. перед Союзом ССР в деле организации Военно-Морского Флота как в данный период, так и особенно в период Великой Отечественной войны, Военная Коллегия Верховного суда, руководствуясь ст. 8 УК РСФСР, постановила не применять к Кузнецову Н.Г. уголовного наказания, постановила ходатайствовать перед СМ СССР о снижении Кузнецова Н.Г. в воинском звании до контр-адмирала.
Бывшему руководству Наркомата ВМФ предъявлены обвинения в незаконной передаче союзникам во время войны секретной документации на парашютную торпеду: основанием явилось письмо офицера минно-торпедного управления ВМФ капитана 1 ранга В. Алфёрова.
Далее карьера Кузнецова Н.Г. Выглядела так:
27.01.1951 г. – получил воинское звание «вице-адмирал».
20.07.1951 г. – назначен Военно-Морским Министром СССР и работал в этой должности по
16.03.1953 г.
Май 1953 г. – восстановлен в звании Адмирала флота СССР.
17.02.1956 г. – снижен в звании до вице-адмирала и уволен в отставку. Причина – взрыв на лин-
коре «Новороссийск» (при руководстве страной Хрущёвым Н.С.)
с 5.01.1956 г. – Главкомом ВМФ СССР по рекомендации Кузнецова Н.Г. назначен вице-адмирал
С.Г. Горшков.
26.07.1988 г. – посмертно восстановлен в звании Адмирал флота Советского Союза, которое он
получил ещё во время ВОВ в мае 1944 г.
Кузнецов Н.Г. О репрессиях[17]
В начале апреля 1936 года стало известно, что на Тихий океан выезжает Нарком ВМФ П.А. Смирнов.
В первые месяцы работы вновь организованного Наркомата ВМФ возникло много проблем. Мы думали, что нарком поможет нам разрешить все эти вопросы. Но приезд Смирнова разочаровал всех: Он считал своей главной задачей «очистить флот от врагов народа». В результате мы потеряли немало ценных работников. О беззакониях, порождённых культом личности, уже много написано. Слишком просто и легко объяснить всё лишь культом личности Сталина. Многие из нас повинны, хотя бы в том, что молчали там, где положение требовало высказать своё мнение. За такую пассивность многие, многие расплачивались сами, когда доходила до них очередь.
В ноябре 1937 года командующий Тихоокеанским флотом Г.К. Киреев был вызван в Москву. Давая мне указания, он был несколько рассеян и взволнован. Не с таким настроением обычно выезжали в Москву. Но до Киреева так же уехали М.В. Викторов и Г.С. Окунев и не вернулись. Вскоре до меня дошли слухи, что он арестован. В конце декабря 1937 года получил телеграмму, в которой сообщалось о моём назначении командующим с присвоением очередного звания.
Трудности, связанные с быстрым ростом морских сил, с необходимостью надёжно укрепить рубежи страны, осложнялись и усугублялись ударами, которые мы получали, казалось бы, с совсем неожиданной стороны – арестами командных кадров. Я впервые столкнулся с репрессиями против подчинённых мне людей.
В памяти вставали события минувшего года, которым я сразу не придал должного значения. Моя работа в Испании была, очевидно, тому причиной.
Вспомнилось, как главный военный советник Г.М. Штерн вызвал меня из Картахены в Валенсию. Григорий Михайлович молча протянул мне телеграмму из Москвы.
В ней сообщалось об аресте М.Н. Тухачевского, И.П. Уборевича, И.Э. Якира и других крупных военачальников. Штерн рассказывал о Тухачевском и Якире, которых знал особенно хорошо.
Не могли мы себе представить тогда, что никакого преступления не было, что арестованные военачальники – жертвы страшного произвола.
Вернувшись в Москву из Испании, я узнал о новых арестах. В первый день, ещё по дороге в наркомат, я встретился на Гоголевском бульваре с К.А. Мерецковым. Мы познакомились с ним ещё в Испании.
— Куда спешишь? – остановил он меня.
— Да вот, надо доложиться своему начальству.
— Если Орлову, то можешь не торопиться, он вчера арестован.
Я вспомнил беседы с Владимиром Митрофановичем Орловым, всё, что знал о нём. Были у него свои слабости, недостатки, но чтобы такой человек изменил Родине?!
А товарищи рассказывали всё о новых арестах. На Чёрном море были арестованы Н. Моралёв, А. Зельтин, А. Рублёвский.
— Если ошибка – разберутся, — успокоил меня товарищ, с которым я осторожно поделился своим недоумением.
Но теперь, во Владивостоке, когда арестовывали людей, моих подчинённых, за которых я отвечал, успокаивать себя тем, что где-то разберутся, я уже не смог.
Было непонятно и другое – как арестовывают людей, даже не поставив в известность командующего? Некоторое время я ещё терпел. Но в феврале 1938 года прокатилась новая волна арестов. Опять я узнавал о них уже задним числом.
Тогда я отправил телеграмму в Центральный Комитет партии. Я писал, что считаю неправильной практику местных органов, которые арестовывают командиров без ведома командующего, даже не поставив его в известность о происшедшем. Ответа я не получил. Прошло несколько дней, и ко мне приехал начальник краевого НКВД Диментман.
— Имейте в виду, — сказал он в тоне сердитого внушения, — не всегда надо кого-то извещать, если арестовывают врага народа.
Я ответил, что обращался не к нему, а в Центральный Комитет партии, а это не только моё право, но и обязанность. Диментман ушёл весьма раздражённый, но аресты с этого дня прекратились. Несколько недель всё было тихо.
В начале апреля 1938 года мне сообщили, что на Тихий океан выезжает нарком ВМФ П.А. Смирнов. Я уже довольно давно ждал встречи с ним. Надо было доложить о нуждах флота, получить указания по работе в новых условиях.
Одновременно с созданием наркомата был создан Главный Военный Совет ВМФ. В его состав входили А.А. Жданов, П.А. Смирнов, несколько командующих флотами, в том числе и я. Но пока на заседании Совета меня не вызывали.
— Я приехал навести у вас порядок и почистить флот от врагов народа, — объявил Смирнов, едва увидев меня на вокзале.
Остановился нарком на квартире члена Военного Совета Волкова, с которым он были старинными приятелями. Первый день его пребывания во Владивостоке был занят беседами с начальником НКВД. Я ждал наркома в штабе. Он приехал лишь около полуночи. Не теряя времени, я стал докладывать о положении на флоте. Я видел, что нарисованная мной картина произвела на Народного комиссара большое впечатление. Но когда я стал говорить о нуждах флота, П.А. Смирнов прервал меня:
— Это обсудим позднее.
— Завтра буду заниматься с Диментманом, — сказал Смирнов в конце разговора и пригласил меня присутствовать.
В назначенный час у меня в кабинете собрались П.А. Смирнов, член Военного Совета Я.В. Волков, начальник краевого НКВД Диментман и его заместитель по флоту Иванов.
Я впервые увидел, как решались тогда судьбы людей, Диментман доставал из папки лист бумаги, прочитывал фамилию, имя и отчество командира, называл его должность. Затем сообщалось, сколько имеется показаний на этого человека. Никто не задавал никаких вопросов. Ни деловой характеристикой, ни мнением командующего о названном человеке не интересовались. Если Диментман говорил, что есть четыре показания, Смирнов, долго не раздумывая, писал на листе: «Санкционирую». Это означало: человека можно арестовать. Я в то время ещё не имел оснований сомневаться в том, что материалы НКВД достаточно серьёзны. Удивляла, беспокоила только лёгкость, с которой давалась санкция.
Вдруг услышал: «Кузнецов Константин Матвеевич». Это был мой однофамилец и старый знакомый по Чёрному морю. И тут я впервые подумал об ошибке. Когда Смирнов взял перо, чтобы наложить роковую визу, я обратился к нему:
— Разрешите доложить, товарищ народный комиссар! — Я знаю капитана первого ранга Кузнецова много лет и не могу себе представить, чтобы он оказался врагом народа.
Я хотел рассказать об этом человеке, о его службе подробнее, но Смирнов прервал меня:
— Раз командующий сомневается, проверьте ещё раз, — сказал он, возвращая лист Диментману. В следующий вечер, когда процедура получения санкций на аресты продолжалась, Смирнов и Диментман разговаривали подчёркнуто лишь друг с другом и всё решали сами.
Прошёл ещё день. Смирнов посещал корабли во Владивостоке, а вечером опять собрались в моём кабинете.
— На Кузнецова есть ещё два показания, — объявил Диментман, едва переступив порог и подал Смирнову бумажки. Тот сразу же наложил резолюцию, наставительно заметив:
— Враг хитро маскируется. Распознать его нелегко. А мы не имеем права ротозейничать.
Это звучало как выговор. Скажу честно, он меня смутил. Я подумал, что был не прав. Ведь вина Кузнецова доказана авторитетными органами.
К.М. Кузнецова арестовали, всех остальных тоже. Что органы государственной безопасности могут действовать неправильно – в голову всё ещё не приходило. Тем более я не допускал мысли о каких-то необычных путях добывания показаний.
Пребывание Смирнова подходило к концу. К сожалению решить вопросы, которые мы ставили перед ним, он на месте не захотел, приказал подготовить ему материалы в Москву. Я заготовил проекты решений. Смирнов взял их, но ни одна наша просьба так и не была рассмотрена до самого его смещения.
Во Владивостоке Смирнов сказал мне, что командование Особой Краснознамённой Дальневосточной армии (ОДКА) просит передать ему крупное соединение тяжёлой авиации. Я решительно возражал, доказывал, что бомбардировщики хорошо отработали взаимодействие с кораблями, а если их отдадут, мы много потеряем в боевой силе.
— Я сослался на испанский опыт, показывавший, как важно, чтобы самолёты и корабли были под единым командованием. Всё это не приняли в расчёт. Приказ был отдан, нам оставалось его выполнить. Потом Смирнов признался мне, что принял решение потому, что его уговорил маршал Блюхер. Наши «уговоры» на наркома действовали меньше.
В день отъезда П.А. Смирнова мы собрались, чтобы выслушать его замечания. Только уселись за стол, опять доложили, что прибыл Диментман.
— Вот показания Кузнецова, — объявил он, обращаясь к Смирнову. Там была всего одна фраза, написанная рукой моего однофамильца: «Не считаю нужным сопротивляться, признаюсь, что я являюсь врагом народа».
Признание Кузнецова совсем выбило у меня почву из-под ног. Теперь я уже не сомневался в его виновности. В дальнейшем, выступая по долгу службы, я придерживался официальной версии, говорил об арестованных, как было принято тогда говорить, как о врагах народа.
Но внутри что-то грызло меня.
Через несколько месяцев в Москве был арестован П.А. Смирнов. Вместо него наркомом ВМФ назначили М.П. Фриновского. Никакого отношения к флоту он в прошлом не имел, зато был заместителем Ежова.
Вскоре после того в Владивосток прилетел известный лётчик В.К. Коккинаки. Он был моим гостем. Тогда во Владивостоке Владимир Константинович со свойственной ему неугомонной пытливостью интересовался действиями кораблей, был со мной на учениях флота. Когда он собирался домой, мы устроили прощальный ужин. Во Владивосток приехали Г.М. Штерн и П.В. Рычагов. Мы ждали ещё члена Военного Совета Волкова, а он всё не шёл.
Ужин был уже в разгаре, когда пришёл секретарь Волкова.
— Волкова арестовали, — тихо сообщил он.
Такая судьба постигла людей, ещё совсем недавно с удивительной лёгкостью дававших санкции на арест многих командиров.
Уже работая в Москве, я пробовал узнать, что произошло со Смирновым. Мне дали прочитать лишь короткие выдержки из его показаний. Смирнов признавался в том, что якобы умышленно избивал флотские кадры. Что тут было правдой – сказать не могу. Больше я о нём ничего не слышал.
Умышленно или неумышленно – Смирнов действительно уничтожал кадры флотов.–А.М).
Весной 1939 года я приехал во Владивосток из Москвы вместе с А.А. Ждановым. Мы сидели в бывшем моём кабинете. Его хозяином стал уже И.С. Юмашев, принявший командование Тихоокеанским флотом после моего назначения в Наркомат.
Адъютант доложил:
— К вам просится на приём капитан первого ранга Кузнецов.
— Какой Кузнецов? Подводник? – с изумлением спросил я.
— Он самый… даже не спросив разрешения А.А. Жданова, я сказал:
— Немедленно пустите!
Константин Матвеевич тут же вошёл в кабинет. За год он сильно изменился.
— Разрешите доложить, освобождённый и реабилитированный капитан первого ранга Кузнецов явился, — отрапортовал он.
— Вы подписывали показание, что являетесь врагом народа? – спросил я Кузнецова.
— Да там подпишешь. – Кузнецов показал свой рот, в котором почти не осталось зубов.
— Вот что творится, — обратился я к Жданову. В моей памяти разом ожило всё, связанное с этим делом.
— Да, действительно обнаружилось много безобразий, — сухо отозвался Жданов и не стал продолжать этот разговор.
Прошли годы. Теперь после XX и XXII съездов партии, всё стало на свои места. Решительно вскрыты преступления времён культа личности Сталина, но мы не можем о них забыть.
Вера в непогрешимость органов, которым Сталин так доверял, да и вера в непогрешимость самого Сталина постепенно пропадала. Удары обрушивались на всё более близких мне людей, на тех, кого я очень хорошо знал, в ком был уверен.
Г.М. Штерн, Я.В. Смушкевич, П.В. Рычагов, И.И. Проскуров. Разве я мог допустить, что и они враги народа? Помню, я был в кабинете Сталина, когда он вдруг сказал:
— Штерн оказался подлецом.
Все конечно сразу поняли, что это значит: арестован.
Там были люди, которые Штерна отлично знали, дружили с ним. Трудно допустить, что они поверили в его виновность. Но никто не хотел показать и тени сомнения. Такова уже была тогда обстановка.
Помню, как вслух, громко, сидевший рядом со мной Н.А. Вознесенский (зам. председателя Совнаркома СССР- председатель Госплана СССР. – А.М) произнёс по адресу Штерна лишь одно слово: «Сволочь!»
Не раз я вспоминал этот эпизод, когда Николая Алексеевича Вознесенского постигла та же участь, что и Г.М. Штерна (правда, после войны. – А.М).
* * *
После войны я сам оказался на скамье подсудимых. Мне тоже пришлось испытать произвол времён культа личности, когда «суд молчал». Произошло это после надуманного и глупого дела Клюева и Роскина, обвинённых в том, что они якобы передали за границу секрет лечения рака.
Рассказывали, что Сталин в связи с этим сказал:
— Надо посмотреть по другим наркоматам.
И началась кампания поисков «космополитов». Уцепились и за письмо Сталину офицера- изобретателя Алфёрова. Он сообщал, что руководители прежнего Наркомата Военно-Морского флота (к тому времени объединённого с Наркоматом обороны) передали англичанам «секрет» изобретённой им парашютной торпеды и секретные карты подходов к нашим портам. И пошла писать губерния!
Почтенные люди, носившие высокие воинские звания, вовсю старались «найти виновных» — так велел Сталин.
Под колёса этой машины я попал с тремя заслуженными адмиралами, честно и безупречно прошедшими через войну. Это были В.А. Алафузов, Л.М. Галлер и Г.А. Степанов. Сперва нас судили «судом чести». Там мы документально доказали, что парашютная торпеда, переданная англичанам в порядке обмена, была уже рассекречена, а карты представляли собой перепечатку переведённых на русский язык старых английских карт[18]. Следовательно, ни о каком преступлении не могло быть и речи. Я лично докладывал об этом И.С. Юмашеву – тогдашнему главнокомандующему Военно-Морским флотом и Н.А. Булганину – первому заместителю Сталина по Наркомату Вооружённых Сил. Оба только пожимали плечами. Вмешаться они не захотели, хотя и могли. Вопреки явным фактам политработник Н.М. Кулаков[19] произнёс на «Суде чести» грозную обвинительную речь, доказывая, что нет кары, которой мы бы не заслужили.
Четыре советских адмирала оказались на скамье подсудимых в здании на Никольской улице.
Председатель Военной Коллегии Ульрих знал, чего требуют от него, и не особенно заботился хоть как-то обосновать приговор.
Но ему было важно судить. За короткой судебной процедурой последовал долгий мучительный перерыв. Около трёх часов ночи объявили приговор: В.А. Алафузов и Г.А. Степанов были осуждены на десять лет каждый, Л.М. Галлер – на четыре года, я был снижен в звании «на три сверху» — как говорили моряки, то есть до контр-адмирала. Мне на суде была как будто предложена лазейка.
— Вы не давали письменного разрешения на передачу торпеды? – задали мне вопрос.
— Если разрешение дал начальник штаба, значит, имелось моё согласие. Таков был порядок в наркомате, — заявил я.
Впоследствии все, привлекавшиеся к суду по этому делу, были полностью реабилитированы. А.А. Чепцов (генерал-лейтенант юстиции), стряпавший в своё время обвинительный материал для Военной коллегии, в 1953 году обратился ко мне за советом, как лучше обосновать нашу невиновность. Я ему ответил:
— Как закрутили, так и раскручивайте. Реабилитация была полная, но не все осуждённые на том процессе дождались её. Лев Михайлович Галлер один из организаторов нашего Военно-Морского флота, отдавший ему всю свою жизнь, так и умер в тюрьме в 1950 году.[20]
Константин Симонов[21]
В феврале-апреле 1979 года продиктовал рукопись, составившую первую часть книги. В подзаголовке её стоит «Размышления о И.В. Сталине». Однако книга не только о Сталине, но и о себе.
«Хочется надеяться, что в дальнейшем время позволит нам оценить фигуру Сталина более точно, поставив все точки над «I». И сказав всё до конца и о его великих заслугах, и о его страшных преступлениях. И о том, и о другом. Ибо человек он был великий и страшный. Так считал и считаю».
Сталин – личность такого масштаба, от которой просто-напросто невозможно избавиться никакими фигурами умолчания. Ни в истории нашего общества, ни в воспоминаниях о собственной своей жизни, которая пусть бесконечно малая, но всё-таки частица жизни этого общества.
Я буду писать о Сталине как человек своего поколения. Поколения людей, которым к тому времени, когда Сталин на XVI съезде партии ясно и непоколебимо определился для любого из нас как первое лицо в стране, в партии и в мировом коммунистическом движении, было пятнадцать лет; когда Сталин умер, нам было тридцать восемь. В этом году (1979), когда ему было бы сто, нам станет шестьдесят четыре.
* * *
Впечатление от смерти Ленина в семье было очень сильное, глубокое и горестное. Ощущения того, что на смену Ленину пришёл Сталин не было. Троцкого не любили, о борьбе с его сторонниками-троцкистами слышали и знали, тем более что борьба эта происходила и в армии, отзвуки её наиболее непосредственно доходили до отчима. К троцкистам относились отрицательно, а к борьбе с ними как к чему-то само собой разумеющемуся. Но представления о Сталине как о главном борце с троцкизмом, сколько помню, тогда не возникало. Где-то до двадцать восьмого, даже до двадцать девятого года имена Рыкова, Сталина, Бухарина, Калинина, Чичерина, Луначарского существовали как-то в одном ряду. В предыдущие годы также примерно звучали имена Зиновьева, Каменева, позже они исчезли из обихода.
Понимание того, что Сталин во главе всего, что происходит, сложилось где-то между началом коллективизации, первой пятилетки и XVI съездом партии, который застал меня в седьмом классе школы.
Месяц или полтора я провёл в больнице в Москве, в больнице превращённой в изолятор для больных брюшняком.
Брюшняк этот – так запомнилось мне с тех времён – был занесён в Москву как одно из последствий голода 33-го года на Украине. В Москву тянулись спасавшиеся от голода люди, приезжали, скапливались на вокзалах – это было одной из причин брюшняка, – так я об этом слышал тогда в палате.
Я лежал в палате для тяжёлых, пятеро из нас умерли, трое выжили. Но с прямым рассказом о том, что такое голод, с прямым видением его последствий я столкнулся лишь тогда, в 33-м году, в больнице. В тридцатом, тридцать первом году в воздухе витало разное. Запомнилась какая-то частушка того года: «Ой калина-калина, шесть условий Сталина, остальные Рыкова и Петра Великого».
Помню другое: на листке было нарисовано что-то вроде речки с высокими берегами. На одном стоят Троцкий, Зиновьев и Каменев. На другом – Сталин, Енукидзе и не то Микоян, не то Орджоникидзе – в общем кто-то из кавказцев. Под этим текст: «И заспорили славяне, кому править на Руси».
Правота Сталина, который стоял за быструю индустриализацию страны и добивался её, во имя этого спорил с другими и доказывал их неправоту, — его правота была для меня вне сомнений и в четырнадцать, и в пятнадцать, и в шестнадцать лет.
Не знаю, как для других моих сверстников, для меня 1934 год почти до самого его конца остался в памяти как год самых светлых надежд моей юности.
Чувствовалось, что страна перешагнула через какие-то трудности, при всей напряжённости продолжавшейся работы стало легче жить – и духовно и материально. То, что происходило на XVII съезде партии (1934.-А.М).
К одним людям – таким, как Зиновьев, – у меня, например, было чувство какой-то давней неприязни, потому что в Ленинграде он оставил о себе особенно плохую память.
К Бухарину, в какой-то мере к Рыкову было наоборот, какое-то застарелое чувство приязни. Бухарин был редактором «Известий» в бытность мою в Литинституте. Два раза печатал и мои стихи.
Сейчас мы, вспоминая то время, говорим о массовых незаконных репрессиях, когда чем дальше, тем больше всё происходило не в судах, а просто решалось где-то, в каких-то тройках, о которых кто-то и откуда-то слышал, и люди исчезали. Ощущение массовости происходящего возникало, возникало чувство, что всё это быть не может правильным, происходят какие-то ошибки.
Об этом иногда говорили между собой. Потом, когда Ежов стал из наркомвнудела наркомом водного транспорта, а затем и вовсе исчез, справедливость этих сомнений подтвердилась как-то в общегосударственном масштабе.
Народные словечки «ежовщина», «ежовы рукавицы» возникли не после XX съезда, как кажется иногда, наверное, людям других, куда более молодых поколений, они возникли где-то между исчезновением Ежова и началом войны, возникли, когда часть исчезнувших стала возвращаться, возникли словно сами собой, как из земли, и их не особенно боялись произносить вслух, насколько мне помнится.
Я думаю сейчас, что Сталин при той информации, которой он располагал, знал распространённость и обиходность этих слов, и за употребление их не было приказано взыскивать. Очевидно, так. Очевидно, Сталина с какого-то момента устраивало, что всё происшедшее в предыдущие годы связывалось поначалу с Ягодой, а потом главным образом с его преемником Ежовым. Его устраивало, что всё это прикреплялось к слову «ежовщина».
Кстати говоря, вспоминая то время, нельзя обойти наших тогдашних представлений – издали, конечно, понаслышке – о Берии. Назначение Берии выглядело так, как будто Сталин призвал к исполнению суровых, связанных с такой должностью обязанностей человека из Грузии, которого он знал, которому он, очевидно, доверял и который должен был там, где не поздно, поправить сделанное Ежовым.
Надо ведь помнить, что те, кто был выпущен между концом тридцать восьмого года и началом войны, были выпущены при Берии. Таких людей было много, я не знаю, каково процентное отношение в других сферах, но в «Истории Великой Отечественной войны» записано, что именно в эти годы, то есть при Берии, было выпущено более четверти военных, арестованных при Ежове.
Итак, в нашем сознании Сталин исправлял ошибки, совершённые до этого Ежовым и другими, всеми теми, кто наломал дров. Для исправления этих ошибок назначен был Берия. Когда уже при нём, при Берии в тридцать девятом году были арестованы и исчезли Мейерхольд и Бабель, то скажу честно, несмотря на масштаб этих имён в литературе и в театре и на то потрясение, которое произвели эти внезапные аресты – было острое недоумение: может быть, в самом деле вот эти люди, посаженные уже в тридцать девятом году, в чём-то виноваты?
В конце лета тридцать восьмого года я стал членом Союза писателей. В этом году вышли сразу две, если не три, мои первые книжки, и вообще я почувствовал себя профессиональным литератором.
Михаил Кольцов был арестован в самом конце тридцать восьмого года, когда арестов в писательском кругу уже не происходило, арестован после выступления в большой писательской аудитории, где его восторженно встречали. Прямо оттуда, как я уже потом узнал, он уехал в «Правду», членом редколлегии которой он был, и там его арестовали – чуть ли не в кабинете Мехлиса.
Мы все читали «Испанский дневник» Кольцова. Об «Испанском дневнике» написали Фадеев и Алексей Толстой. Кольцов был для нас в какой-то мере символом всего того, что советские люди делали в Испании.
О том, что очень многие из наших военных, бывших в Испании, оказались потом арестованными – некоторые вышли на волю, а некоторые погибли, — я узнал значительно позже, а о Кольцове мы узнали тогда сразу же.
В сорок девятом году, когда мы ездили с первой делегацией советской культуры в Китай, Фадеев был руководителем делегации, а я его заместителем, как-то поздним вечером в Пекине в гостинице Фадеев в минуту откровенности рассказал, что тогда же, через неделю или две после ареста Кольцова, написал короткую записку Сталину о том, что многие писатели, коммунисты и беспартийные, не могут поверить в виновность Кольцова. Сам он, Фадеев, тоже не может в это поверить, считает нужным сообщить об этом Сталину и просит принять его.
Через некоторое время Сталин принял Фадеева.
— Значит, вы не верите в то, что Кольцов виноват? – спросил его Сталин.
Фадеев сказал, что ему не верится в это, не хочется в это верить.
— А я, думаете, верил, мне, думаете, хотелось верить? Не хотелось, но пришлось поверить.
После этих слов Сталин вызвал Поскрёбышева и приказал дать Фадееву почитать то, что для него отложено.
— Подите, почитайте, потом зайдите ко мне. Скажете о своём впечатлении, — так сказал ему Сталин, так это у меня осталось в памяти из разговора с Фадеевым.
Показания, по словам Фадеева, были ужасные, с признаниями в связи с троцкистами, с поумовцами.
— И вообще чего там только не было написано, — горько махнул рукой Фадеев. – Читал и не верил своим глазам. Когда посмотрел всё это, меня ещё раз вызвали к Сталину, и он спросил меня:
— Ну как, теперь приходится верить?
— Приходится, — сказал Фадеев.
— Если будут спрашивать люди, которым нужно дать ответ, можете сказать им о том, что вы знаете сами, — заключил Сталин и с этим отпустил Фадеева.
Этот мой разговор с Фадеевым происходил в сорок девятом году, за три с лишним года до смерти Сталина. Разговор свой со Сталиным Фадеев не комментировал, но рассказывал об этом с горечью, которую как хочешь, так и понимай.
Что же хорошее было связано для нас, для меня в частности с именем Сталина в те годы? А очень многое, почти всё, хотя бы потому, что к тому времени уже почти всё в нашем представлении шло от него и покрывалось его именем. Проводимой им неуклонно генеральной линией на индустриализацию страны объяснялось всё, что происходило в этой сфере. А происходило, конечно, много удивительных вещей. Страна менялась на глазах. Когда что-то не выходило – значит, этому кто-то мешал. Сначала мешали вредители, промпартия, потом, как выяснилось на процессах, мешали левые и правые оппозиционеры. Но, сметая всё с пути индустриализации, Сталин проводил её железной рукой. Он мало говорил, много делал, много встречался по делам с людьми, редко давал интервью, редко выступал и достиг того, что каждое его слово взвешивалось и ценилось не только у нас, но и во всём мире. Говорил он ясно, просто, последовательно: мысли, которые хотел вдолбить в головы, вдалбливал прочно, и, в нашем представлении, никогда не обещал того, что не делал впоследствии.
На КВЖД твёрдой рукой был дан отпор китайским милитаристам. Мы этому сочувствовали ещё мальчишками. На Хасане произошло столкновение с японцами, в котором мы не отступили. Тогда ходили слухи, что там поначалу всё было не так хорошо, как об этом писали, но тем не менее мы там не отступили.
Потом был Халхин-Гол, где уже мне довелось быть самому и многое видеть своими глазами. Наша пехота воевала там не лучше японской, в общем, в масштабах всего халхин-гольского конфликта японцы были разбиты наголову. Это было неопровержимым фактом, а за этим стояло многое из того, что делал Сталин для армии. То, что он занимался армией, вооружением её, снабжением, отдавал ей много времени и сил, придавал ей должное значение, готовил страну к борьбе, вооружённой борьбе в трудных условиях, было для нас несомненно. Поэтому в итоге, несмотря на некоторые неприятные для нашего сознания неожиданности, мы высоко ценили его деятельность в этом направлении.
Вдобавок мы в Монголии выполнили свой интернациональный долг: договор, подписанный нами с монголами был выполнен, мы обещали им помочь и помогли полною мерою. Сталин как руководитель нашей страны, её вождь сделал всё что мог, всё, что было практически возможно. Мы были убеждены, что если бы не комитет по невмешательству, если бы не блокада Испании, потворство вмешательству в её дела немецких и итальянских военных контингентов, широкий ввоз из Германии и Италии артиллерии, танков, авиации, республика справилась бы с фашизмом.
Мы, со своей стороны, были людьми с чистой совестью, мы сделали всё, что могли. А персонифицируя всё это, мы жили с ощущением, что Сталин сделал всё, что мог, для спасения Испанской республики, для эвакуации испанских детей и сирот, — в общем, с его именем было связано представление о неукоснительном исполнении нашего интернационального долга.
К этому кругу «хорошего», связанного в нашей жизни с тогдашними представлениями о Сталине, относилась ещё и Арктика – спасение экипажа «Челюскина», высадка на Северном полюсе Папанина с товарищами, перелёты Чкалова и Громова. За организацией всего этого, за всеми этими смелыми предприятиями в нашем ощущении стоял Сталин, к нему приезжали, ему докладывали об этом.
А связанные с этим торжества приобретали характер всенародный, и это сближало всех нас, за редким исключением, с в общем-то далёкой, отъединённой фигурой Сталина. Мы не представляли себе возможности, самой возможности обвинений, выдвинутых впоследствии против Сталина в связи со смертью Кирова. Но как Сталин шёл за гробом Кирова – знали. Мы не знали того, что в действительности произошло в семье Сталина, не знали трагического поворота отношений его с женой, до нас не доходили слухи о нём как о виновнике её смерти, но мы знали, что он шёл за её гробом, и сочувствовали его потере.
В своих выступлениях Сталин был безапелляционен, но прост. С людьми – это мы иногда видели в кинохронике – держался просто. Одевался просто, никаких внешних претензий на величие или избранность. И это соответствовало нашим представлениям о том, каким должен быть человек, стоящий во главе партии.
В итоге Сталин был всё это вкупе: все эти ощущения, все эти реальные и дорисованные нами положительные черты руководителя партии и государства.
Очень было трудно при этом удержаться от соблазна перевалить на кого-то другого ответственность за плохое. В этом смысле Сталин был особенно последователен. Перегибы с массовой коллективизацией повлекли за собой статью «Головокружение от успехов», а «Головокружение от успехов» не только расширяло число виноватых, не только переводило всё случившееся на совершенно иной уровень причинности, чем это можно было себе представить по масштабам случившегося, но и подталкивало людей вроде меня, далёких от понимания всех происходивших в деревне процессов, при всей их сложности, к однозначному и полезному для авторитета Сталина решению: именно на том уровне, о котором он писал, и происходили эти ошибки.
Он выступал для нас в роли спасителя от ошибок, так же, как впоследствии он выступал в этой же роли, когда Ежова сменил Берия. Ежов исчез, а Сталин, как об этом доходили слухи до таких людей, как я, слухи отдалённые, неясные, где-то, кажется на пленуме ЦК, очень жёстко критиковал людей, которые были виноваты в перегибах, для обозначения которых так кстати появилось это слово «ежовщина».
Пакт с немцами, приезд Риббентропа в Москву и всё с этим связанное, поначалу не внесли сколько-нибудь заметной трещины в моё представление о Сталине, хотя само это событие психологически, особенно после всего, что произошло в Испании, после открытой схватки с фашизмом, которая была там, тряхануло меня так же, как и моих сверстников, — многих, наверное, довольно сильно.
Вместе с этим пактом там, где-то далеко, отодвинулась опасность удара в спину. Обычное ощущение при жизни в Москве в эти годы, когда всё нарастало ощущение предстоящей войны с фашистской Германией – мы как бы находились лицом к ней, она была перед нами, а Япония, маньчжурская граница, на которой беспрерывно происходили конфликты, Монголия, в которую японцы вторглись, вторглись в тридцать девятом вовсе не в первый раз – до этого было несколько предыдущих проб, — всё это там, за спиной. Нож в спину был там, угроза такого же удара исходила от японцев.
Когда мы были там, на Халхин-Голе, когда там шла война, эта возможность удара в спину связывалась с Германией, этот удар ожидался с Запада. Уже это было у нас за спиной.
И вот вдруг наступила странная, неожиданная, оглушающая своею новизной эра предстоящего относительного спокойствия:
Был заключён пакт о ненападении – с кем? – с фашистской Германией.
Быстрота, с которой немцы ворвались и шли по Польше, огорошила и тревожила.
Семнадцатого сентября тридцать девятого года заявление о вступлении наших войск в Западную Украину и Белоруссию в связи с развалом Польши как государства застало меня также ещё на Халхин-Голе. За сутки до этого было, по-моему, самое крупное сражение над монгольской степью, в воздухе был несколько сотен самолётов. Впоследствии, в пятидесятом году, при встречах с Георгием Константиновичем Жуковым я, сам немножко стесняясь тогда то, что сейчас скажу, всё-таки сказал ему правду, что после этих воздушных боёв над Халхин-Голом я ни разу не видел в годы Великой Отечественной войны, столько самолётов. А он усмехнулся и неожиданно для меня ответил: «А ты думаешь, я видел? И я не видел».
А то, что там, в Европе, наши войска вступают в Западную Украину и Белоруссию, мною, например, было встречено с чувством безоговорочной радости. Надо представит себе атмосферу всех предыдущих лет, советско-польскую войну 1920 года, последующие десятилетия напряжённых отношений с Польшей, осадничество, переселение польского кулачества в так называемые восточные коресы, попытки колонизации украинского и в особенности белорусского населения, белогвардейские банды, действовавшие на территории Польши в двадцатые годы, изучение польского языка среди военных как языка одного из наиболее возможных противников, процессы белорусских коммунистов.
В общем, если вспомнить всю эту атмосферу, то почему же мне было тогда не радоваться тому, что мы идём освобождать Западную Украину и Западную Белоруссию? Идём к этой линии национального размежевания, которую когда-то, в двадцатом году, считал справедливой, с точки зрения этнической, даже такой недруг нашей страны, как лорд Керзон, и о которой вспоминали как о линии Керзона, но от которой нам пришлось отступить тогда и пойти на мир, отдававший Польше в руки Западную Украину и Белоруссию, из-за военных поражений, за которыми стояли безграничное истощение сил в годы мировой и гражданской войны, разруха, неприконченный Врангель, предстоящие Кронштадт и антоновщина, — в общем, двадцатый год.
То, что происходило, казалось мне справедливым, и я этому сочувствовал. Сочувствовал, находясь ещё на Халхин-Голе и попав неделей позже, обмундированный по-прежнему в военную форму с Халхин-Гола в уже освобождённую Западную Белоруссию. Я ездил по ней накануне выборов в народное собрание, видел своим глазами народ, действительно освобождённый от ненавистного ему владычества, слышал разговоры, присутствовал в первый день на заседании народного собрания. Для меня не было вопроса: в Западной Белоруссии, где я оказался, белорусское население–а его огромное большинство – было радо нашему приходу, хотело его.
И, разумеется, из головы не выходила ещё и мысль, не чуждая тогда многим: ну а если бы мы не сделали своего заявления, не договорились о демаркационной линии с немцами, не дошли бы до неё, если бы не было всего этого, очевидно, связанного так или иначе – о чём приходилось догадываться – с разговором о ненападении, то кто бы вступал в эти города и сёла, кто бы занял всю эту Западную Белоруссию, кто бы подошёл на шестьдесят километров к Минску, почти к самому Минску? Немцы. Нет, тогда никаких вопросов такого свойства для меня не было, в моих глазах Сталин был прав, что сделал это. А то, что практически ни Англия, ни Франция, объявив войну немцам, так и не пришли полякам на помощь, подтверждало для меня то, что писалось о бесплодности и неискренности с их стороны тех военных переговоров о договоре, который мог бы удержать Германию от войны.
Вдобавок было на очень свежей памяти все давнее: и Мюнхен, и наша готовность вместе с Францией, если она тоже это сделает, оказать помощь Чехословакии, и оккупация немцами Чехословакии, — всё это было на памяти и всё это подтверждало, что Сталин прав.
В январе сорокового года были созданы двухмесячные курсы при академии Фрунзе по подготовке военных корреспондентов, я был ещё не совсем здоров, но на курсы эти пошёл. Если бы мир с Финляндией не был бы подписан как раз в день окончания нами курсов, конечно, я оказался бы и на этой войне. Но она кончилась, кончилась в итоге удовлетворением тех государственных требований, которые были предъявлены Финляндии с самого начала, в этом смысле могла, казалось бы, считаться успешной, но внутренне все мы пребывали всё-таки в состоянии пережитого страной позора.
Оказалось, что мы на многое не способны, многого не умеем, многое делаем очень и очень плохо. А потом подтверждением этого стало снятие с поста наркома Ворошилова, назначение Тимошенко и очень быстро дошедшие слухи о крутом повороте в обучении армии, в характере её подготовки к войне.
За этим последовало лето сорокового года, захват немцами Норвегии, Дании, Бельгии, Голландии, Дюнкерк, разгром и капитуляция Франции – все эти события просто не умещались сразу в сознании.
Хотя французы и англичане не помогли Польше, хотя война в Европе была названа «странной», но того финала этой «странной» войны, который произошёл, я думаю, у нас не ожидали равно в такой же степени, — а кто знает, может быть даже и в большей, — чем там, на Западе, где всё это случилось.
То, что мы когда-нибудь будем воевать с фашистской Германией, для меня не составляло ни малейших сомнений. То, что впереди война – рано или поздно, — мы знали и раньше. Теперь после Франции почувствовали, что она будет не рано или поздно, а вот-вот.
На курсы военных корреспондентов при Военно-политической академии, занятия на которых началось осенью сорокового года, а закончились в середине июня сорок первого года, когда нам, вернувшимся из лагерей, присвоили военные звания, я пошёл с твёрдой уверенностью, что впереди у нас очень близкая война. Сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года, которое, как потом много об этом говорили, кого-то демобилизовало, а чью-то бдительность усыпило, на меня, наоборот, произвело странное, тревожное впечатление – акции, имеющей сразу несколько смыслов, в том числе и весьма грозный смысл для нас. А после вторжения немцев в Югославию у меня было ощущение войны, надвигающейся совершенно вплотную.
После победы над Германией состоялось решение Политбюро послать группу советских писателей в составе Агапова, Горбатова, Кудреватых и меня в Японию, чтобы мы, прикомандировавшись там к штабу Макартура[22], познакомились с обстановкой, а впоследствии освещали имевший состояться в Японии процесс над японскими военными преступниками.
В конце концов в ноябре месяце мы дооткладывали поездку до того, что это дошло до Сталина. Он был на юге в отпуску, за него оставался Молотов и во время одного из его докладов по телефону Сталину тот вдруг спросил: «А как там писатели, уехали в Японию?» Молотов сообщил, что нет, писатели пока ещё не уехали в Японию. «А почему не уехали? – спросил Сталин. – Ведь решение Политбюро, если я не ошибаюсь, состоялось? Может быть, они не согласны с ним и собираются аппелировать к съезду партии?»
Так я впервые в своей личной судьбе столкнулся с той манерой шутить, которая была свойственна Сталину.
Ровно через неделю мы сидели в прицепленном к поезду, служебном вагоне и ехали во Владивосток.
Возвращались домой мы тоже поездом, шедшим из Владивостока, через четыре месяца, в апреле сорок шестого года.
Мои записи по Японии, большую половину которых составляли записи бесед составили тысячу двести страниц на машинке.
Один раз, весной пятьдесят третьего года, в связи с предстоявшей поездкой в Стокгольм, возникла такая мотивировка, чтобы не посылать меня, как чрезмерное преклонение перед Сталиным, проявившееся в написанной наполовину мною передовой «Литературной газеты».
К Молотову я относился с уважением, цельной личностью он мне кажется по сей день, при всём резком политическом неприятии многих его позиций. Уважение это было связано больше всего с тем, что Молотов на нашей взрослой памяти, примерно с тридцатого года, был человеком, наиболее близко стоявшим к Сталину, наиболее очевидно и весомо в наших глазах разделявшим со Сталиным его государственные обязанности.
Молотов, с которым я впервые подробно разговаривал в сорок шестом году, в пятьдесят третьем, когда умер Сталин, был, по-моему глубокому убеждению, единственным из членов тогдашнего Политбюро, глубоко и искренне переживший смерть Сталина. Этот твердокаменный человек был единственным, у кого слышались в голосе слёзы, когда он говорил речь над гробом Сталина, хотя, казалось бы, именно у него было больше причин, чем у всех остальных, испытывать после ухода из жизни Сталина чувство облегчения, освобождения и возможности установления справедливости по отношению к нему самому, к Молотову.
Постараюсь, как в других таких случаях, и в связи с поездкой в Соединённые Штаты, в Канаду, а затем во Францию – всё это слилось в одну поездку – коснуться только тех моментов, которые в моём сознании так или иначе связаны с главной темой этой рукописи, посвящённой месту и роли Сталина в нашей жизни, и прежде всего в жизни моего поколения – и при его жизни и после его смерти.
Сталин был для американцев фигурой достаточно далёкой, достаточно загадочной, во многих отношениях неприемлемой. – Сталин был человеком, в двадцатые годы пославшем в нокаут такого куда более известного в те времена в Америке, чем он, политического лидера, как Троцкий, а в недавние годы и нокаутировавшим и Гитлера.
Разумеется, с помощью их, американцев, их ленд-лиза, их поставок оружия, их бомбардировок Германии, их вторжения в Европу, но тем не менее в нокаут Гитлера отправил всё-таки Сталин, окончательно и бесповоротно загнав его в Берлин, в бункер имперской канцелярии, где Гитлер кончил самоубийством.
Вообще к Сталину относились очень серьёзно. С долей благодарности за недавнее военное прошлое и с долей опаски за будущее, кто знает, что он может захотеть и на что может пойти в будущем. Какую-то роль во всём этом, наверное, играло и то, что из засевшей в мозгах не только американцев «большой тройки» Рузвельт умер, Черчилль оказался не у власти, и только один Сталин был на своём посту.
Думаю, что тогда, к лету сорок шестого года, несмотря на фултонскую речь Черчилля, несмотря на начавшуюся с этой речи холодную войну, популярность Сталина была максимальной – не только у нас, но и во всём мире, по сравнению с любым другим моментом истории, через десятилетия которой проходило его имя. Сорок четвёртый, сорок пятый, сорок шестой год, — можно даже, пожалуй, считать с сорок третьего, с пленения Паулюса и Сталинградской катастрофы немецкой армии,–это был пик популярности Сталина, носившей, разумеется, разные характеры, разные оттенки, но являвшейся политической и общественной реальностью, с которой нигде и никто не мог не считаться.
В начале ноября сорок первого года на Рыбачьем полуострове я, ещё не зная о предстоящем параде на Красной Площади, написал стихи «Суровая годовщина», начинавшиеся словами: «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас? Ты должен слышать нас, мы это знаем». То значение, которое имел для нас Сталин в тот момент, когда писались эти стихи, мне не кажется преувеличенным в них, оно исторически видно. Но я уже не могу читать эти стихи с тем чувством, с которым я их писал, потому что я давно по-другому отношусь к Сталину.
Вижу и великое, и страшное, что было в нём, понимаю на свой лад меру содеянного им – и необходимого, и ужасного, но ничего похожего на чувство любви к нему у меня не сохранилось. А ведь такого рода порыва были у меня, так же как у других людей, и они были настолько искренними, что можно их осуждать, но не пристало в них каяться.
Но одно стихотворение, где есть имя Сталина, я печатал и продолжаю печатать точно в том виде, в каком оно было написано. Я говорю о стихотворении «Митинг в Канаде», открывавшем в сорок восьмом году мою книгу «Друзья и враги». Напомню, что речь идёт о зале, в первых рядах которого сидят люди, пришедшие, чтобы сорвать митинг:
«Почувствовав почти ожог,
Шагнув, я начинаю речь.
Её начало как прыжок
В атаку, чтоб уже не лечь:
«Россия, Сталин, Сталинград!»
Три первые ряды молчат.
Но где-то сзади лёгкий шум,
И, прежде чем пришло на ум,
Через молчавшие ряды
Вдруг, как обвал, как вал воды,
Как сдвинувшаяся гора,
Навстречу рушится «Ура!»
В сорок втором году мне была присуждена Сталинская премия за пьесу «Парень из нашего города», в сорок третьем – за пьесу «Русские люди». В сорок четвёртом году нескольких писателей-фронтовиков: Твардовского, Кожевникова, Горбатова, меня, кажется, ещё кого-то — ввели, вернее, кооптировали, в состав Президиума Союза писателей.
В конце августа или в сентябре сорок шестого года, нас всех членов Президиума Союза писателей, собрали у Жданова для обсуждения вопроса о том, как дальше работать Союзу, также решался вопрос, кто будет руководить работою Союза.
А через два или три дня нас собрали там же, у Жданова, и Жданов сказал, что о предыдущем обсуждении дел Союза писателей, которое происходило здесь, было рассказано товарищу Сталину, что состоялось решение поручить партийной группе правления Союза писателей рекомендовать организацию Секретариата Союза писателей в следующем составе: генеральный секретарь правления Союза писателей Фадеев, заместители генерального секретаря Симонов, Вишняков, Тихонов, секретари Леонов и Горбатов, причём Горбатов утверждается секретарём партгруппы правления.
Сама формулировка «Генеральный секретарь», несомненно, не могла прийти в голову никому, кроме Сталина.
Через неделю или полторы после того, как я вместе с другими приступил к работе в Союзе, меня назначили редактором «Нового мира».
* * *
Фадеев, подготовив вместе с нами, другими секретарями, соответствующие материалы, послал письмо Сталину с просьбой принять руководителей Союза писателей по тем двум вопросам, которые ставились в письме.
Тринадцатого мая 1947 года Фадеев, Горбатов и я были вызваны к шести часам вечера в Кремль к Сталину.
Во главе стола, на дальнем конце его, сидел Сталин, рядом с ним Молотов, рядом с Молотовым Жданов. Они поднялись нам навстречу. Лицо у Сталина было серьёзное, без улыбки.
Он деловито протянул каждому из нас руку и пошёл обратно к столу.
После этого мы все трое – Фадеев, Горбатов и я сели рядом по одну сторону стола, Молотов и Жданов сели напротив нас.
Перед Ждановым лежала докладная красная папка, а перед Сталиным – тонкая папка, которую он сразу открыл.
— Вот вы ставите вопрос о пересмотре гонораров, — сказал Сталин. – Его уже рассматривали.
— Да, но решили неправильно, — сказал Фадеев и стал объяснять, что в сложившихся при нынешней системе гонораров условиях писатели за свои хорошие книги, которые переиздаются и переиздаются, вскоре перестают что-либо получать. С этого Фадеев перешёл к вопросу о несоответствии в оплате малых и массовых тиражей, за которые тоже платят совершенно недостаточно. В заключении Фадеев ещё раз повторил, что вопрос о гонорарах был решён неверно.
Выслушав его, Сталин сказал:
— Мы положительно смотрим на пересмотр этого вопроса. Когда мы устанавливали эти гонорары, мы хотели избежать такого явления, при котором писатель напишет одно хорошее произведение, а потом живёт на него и ничего не делает. А то написали по хорошему произведению, настроили себе дач и перестали работать. Нам денег не жалко, — добавил он, улыбнувшись, — но надо, чтобы этого не было. В литературе установить четыре категории оценок, разряды. Первая категория – за отличное произведение, вторая — за хорошее и третья и четвёртая категории, – установить шкалу, как вы думаете?
Мы ответили, что это будет правильно.
— Ну что же, — сказал Сталин, — я думаю, что этот вопрос нельзя решать письмом или решением, а надо сначала поработать над ним, надо комиссию создать.
— Товарищ Жданов, — повернулся он к Жданову, — какое у вас предложение по составу комиссии?
— Я бы вошёл в комиссию, – сказал Жданов
Сталин засмеялся, сказал:
— Очень скромное с вашей стороны предложение. Все расхохотались.
После этого Сталин сказал, что следовало бы включить в комиссию присутствующих здесь писателей.
— Зверева, как министра финансов, — сказал Фадеев.
— Ну что же, — сказал Сталин, — он человек опытный. Если вы хотите, – Сталин подчеркнул слово «вы», — можно включить Зверева. И вот ещё кого, — добавил он, — Мехлиса, — добавил и испытующе посмотрел на нас. – Только он всех вас там сразу же разгонит, а?
— Он все же как-никак старый литератор, — сказал Жданов.
Когда впоследствии дважды или трижды собиралась комиссия, созданная в тот день, то Мехлис обманул действительно существовавшие у нас на его счёт опасения, связанные с хорошо известной нам жестокостью его характера. По всем гонорарным вопросам он поддержал предложение писателей, а когда финансисты выдвинули проект – начиная с такого-то уровня годового заработка, выше него – взимать с писателей пятьдесят один процент подоходного налога, – Мехлис буквально вскипел:
— Надо всё-таки думать, прежде чем предлагать такие вещи. Вы что, хотите обложить литературу как частную торговлю? Или собираетесь рассматривать отдельно взятого писателя как кустаря без мотора?
Этой желчной тирадой он сразу обрушил всю ту налоговую надстройку, которую предлагалось возвести над литературой.
— Итак, кого же в комиссию? – спросил Сталин. Жданов перечислил всех, кого намеревалось включить в комиссию.
— Хорошо,- сказал Сталин. – Теперь второй вопрос: вы просите штат увеличить. Надо будет увеличить им штат.
Жданов возразил, что предлагаемые Союзом писателей штаты всё-таки раздуты. Сто двадцать два человека вместо семидесяти.
— У них новый объём работы, — сказал Сталин, — надо увеличить штаты.
Жданов повторил, что проектируемые Союзом штаты нужно всё-таки срезать.
— Нужно всё-таки увеличить, — сказал Сталин.
— Есть отрасли новые, где не только увеличивать приходится, но создавать штаты. А есть отрасли, где штаты разбухли, их нужно срезать. Надо увеличить им штаты.
На этом вопрос о штатах закончился.
Следующий вопрос касался писательских жилищных дел. Фадеев стал объяснять, как плохо складывается жилищное положение у писателей и как они нуждаются в этом смысле в помощи, тем более что жильё писателя это, в сущности, его рабочее место.
Сталин внимательно выслушал все объяснения Фадеева и сказал, чтобы в комиссию включили председателя Моссовета и разобрались с этим вопросом. Потом, помолчав, спросил:
— Ну, у вас, кажется, всё?
До этого момента наша встреча со Сталиным длилась так недолго, что мне вдруг стало страшно жаль: вот сейчас всё это оборвётся, кончится, да, собственно говоря, уже и кончилась.
— Если у вас всё, тогда у меня есть к вам вопрос. Какие темы сейчас разрабатывают писатели?
Фадеев ответил, что для писателей по-прежнему центральной темой остаётся война, а современная жизнь, в том числе производство, промышленность, пока находят ещё куда меньше отражения в литературе, причём, когда находит, то чаще всего у писателей-середнячков.
— Правда, — сказал Фадеев, — мы посылали некоторых писателей в творческие командировки, послали около ста человек, но по большей части это тоже писатели-середнячки.
— А почему не едут крупные писатели? – спросил Сталин.– Не хотят?
— Трудно их раскачать, — сказал Фадеев.
— Не хотят ехать, – сказал Сталин. –А как вы считаете, есть смысл в таких командировках?
Мы ответили, что смысл в командировках есть. Доказывая это, Фадеев сослался на первые пятилетки, на «Гидроцентраль» Шагинян, на «Время вперёд!» Катаева и на несколько других книг.
— А вот Толстой не ездил в командировки, — сказал Сталин.
Фадеев возразил, что Толстой писал как раз о той среде, в которой он жил, будучи в Ясной Поляне.
— А вот есть такая тема, которая очень важна, — сказал Сталин, –которой нужно, чтобы заинтересовались писатели. Это тема нашего советского патриотизма. Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, врачей, — сказал Сталин, строя фразы с той особенной, присущей ему интонацией, которую я так отчётливо запомнил, что, по-моему, мог бы буквально её воспроизвести, — у них недостаточно воспитано чувство советского патриотизма.
У них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Всё чувствуют себя ещё несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли считать себя на положении вечных учеников.
Эта традиция отсталая, она идёт от Петра. У Петра были хорошие мысли, но вскоре налезло слишком много немцев, это был период преклонения перед немцами. Посмотрите, как было трудно дышать, как было трудно работать Ломоносову, например. Сначала немцы, потом французы, было преклонение перед иностранцами, — сказал Сталин и вдруг, лукаво прищурясь, чуть слышно скороговоркой прорифмовал: — засранцами, — усмехнулся и снова стал серьёзным.
— Почему мы хуже? В чём дело? В эту точку надо долбить много лет, лет десять эту тему надо вдалбливать. Бывает так: человек делает великое дело и сам этого не понимает, — и он снова заговорил о профессоре, о котором уже упоминал. – Вот взять такого человека, не последний человек, – ещё раз подчёркнуто повторил Сталин, — а перед каким-то подлецом — иностранцем, перед учёным, который на три головы ниже его, преклоняется, теряет своё достоинство, так мне кажется. Надо бороться с духом самоуничижения у многих наших интеллигентов. Сталин повернулся к Жданову.
— Дайте документ.
Жданов вынул из папки несколько скрепленных между собой листков с печатным текстом. Сталин перелистал их, в документе было четыре или пять страниц. Перелистав его, Сталин поднялся из-за стола и, передав документ Фадееву, сказал:
— Вот, возьмите и прочитайте сейчас вслух. Фадеев прочитал вслух. Это был документ, связанный как раз со всем тем, о чём только что говорил Сталин.
Появление этого письма в печати было началом той борьбы с самоуничижением, самоощущением нестопроцентности, с неоправданным преклонением перед заграничной культурой, о которой Сталин сказал, что в эту точку надо долбить много лет.
Когда Фадеев дочитал письмо до конца, Сталин, убедившись в том, что прочитанное произвело на нас впечатление, повторил то, с чего начал:
— Надо уничтожить дух самоуничижения, — и добавил: — Надо на эту тему написать произведение, роман.
Я сказал, что это скорее тема для пьесы.
— Мы здесь думаем, — продолжал Сталин, — что Союз писателей мог бы начать выпускать совсем другую «Литературную газету», чем он сейчас выпускает, такую «Литературную газету», которая одновременно была бы не только литературной, и политической, большой, массовой газетой. Союз писателей мог бы выпускать такую газету, которая остро, более остро, чем другие газеты, ставила бы вопросы международной жизни, а если понадобится, то и внутренней жизни. Все наши газеты – так или иначе официальные газеты, а «Литературная газета» — газета Союза писателей, она может ставить вопросы неофициально, в том числе и такие, которые мы не можем или не хотим поставить официально. «Литературная газета» как неофициальная газета может быть в некоторых вопросах острее, левее нас, может расходиться в остроте постановки вопроса с официально выраженной точкой зрения. Вполне возможно, что мы иногда будем критиковать за это «Литературную газету», но она не должна бояться этого, она, несмотря на критику, должна делать своё дело.
Я очень хорошо помню, как Сталин ухмыльнулся при этих словах.
— Вы должны понять, что мы не всегда можем официально высказаться о том, о чём нам хотелось бы сказать, такие случаи бывают в политике, и «Литературная газета» должна нам помогать в этих случаях.
И вообще, не должна слишком бояться, слишком оглядываться, не должна консультировать свои статьи по международным вопросам с Министерством иностранных дел, Министерство иностранных дел не должно читать эти статьи. Министерство иностранных дел занимается своими делами, «Литературная газета» — своими делами. Сколько у вас сейчас выпускают экземпляров газеты?
Фадеев ответил, что тираж газеты что-то около пятидесяти тысяч.
— Надо сделать его в десять раз больше, сколько вы раз в месяц выпускаете газету?
— Четыре раза, раз в неделю, — ответил Фадеев.
— Надо будет новую «Литературную газету» выпускать два раза в неделю, чтобы её читали не раз, а два раза в неделю, и в десять раз больше людей. Как ваше мнение, сможете вы Союз писателей выпускать такую газету?
Мы ответили, что, наверное, сможем.
— А когда можете начать это делать?
Я ответил, что выпуск такой, совершенно нового типа газеты потребует, наверное, нескольких месяцев подготовки, и её очевидно, можно будет начать выпускать где-то с первого сентября, с начала осени.
— Правильно, — сказал Сталин, — подготовка, конечно, нужна. Слишком торопиться не надо. А то, что вам будет надо для того, чтобы выпустить такую газету, вы должны попросить, а мы должны помочь. И мы ещё подумаем, когда вы начнёте выпускать газету и справитесь с этим, может быть мы предложим вам создать при «Литературной газете» своё собственное неофициальное телеграфное агентство для получения и распространения неофициальной информации.
Так–не по идее Союза писателей, как это чаще всего принято считать, а по идее Сталина – через несколько месяцев начала выходить совсем другая, чем раньше «Литературная газета», правда, без своего неофициального телеграфного агентства. АПН было создано через много лет после этого и уже после смерти Сталина.
После этого Фадеев заговорил об одном писателе, который находится в особенно тяжёлом материальном положении.
— Надо ему помочь, — сказал Сталин и повторил: — Надо ему помочь. Дать денег. Только вы его возьмите и напечатайте, и заплатите. Зачем подачки давать? Напечатайте – и заплатите.
Жданов сказал, что он получил недавно от этого писателя производственное письмо. Сталин усмехнулся: — Не верьте производственным письмам, товарищ Жданов.
Все засмеялись.
После того как Сталин отнёсся положительно ко всем нашим предложениям, я вдруг решился на то, на что не решался до этого, хотя и держал в памяти, и сказал про Зощенко – про его «Партизанские рассказы», основанные на записях рассказов самих партизан, — что я отобрал часть этих рассказов, хотел бы напечатать их в «Новом море» и прошу на это разрешения.
— А вы читали эти рассказы Зощенко? – повернулся Сталин к Жданову.
— Нет, – сказал Жданов, – не читал.
— А вы читали? – повернулся Сталин ко мне.
— Я читал, — сказал я и объяснил, что всего рассказов у Зощенко около двадцати, но я отобрал из них только десять, которые считаю лучшими.
— Значит, вы как редактор считаете, что это хорошие рассказы? Что их можно печатать?
— Я ответил, что да.
— Ну раз вы как редактор считаете, что их надо печатать, печатайте. А мы, когда напечатаете, почитаем. Думаю сейчас спустя много лет, что в последней фразе Сталина был какой-то оттенок присущего ему полускрытого, небезопасного для собеседника юмора. Но, конечно, поручиться за это не могу.
— Какое ваше мнение о Ванде Василевской как о писателе? – спросил Сталин в конце разговора. – В ваших внутриписательских кругах? Как они относятся к её последнему роману?
— Неважно, — ответил Фадеев.
— Почему? – спросил Сталин.
— Считают, что он неважно написан.
— А как вообще вы расцениваете в своих кругах её как писателя?
— Как среднего писателя, – сказал Фадеев.
— Как среднего писателя? – переспросил Сталин.
— Да, как среднего писателя, — повторил Фадеев.
Сталин посмотрел на него, помолчал, и мне показалось, что это оценка как-то его огорчила. Но внешне он ничем это не выразил и ничего не возразил. Спросил нас, есть ли у нас ещё какие-нибудь вопросы. Мы ответили, что нет.
— Ну, тогда всё.
* * *
Через несколько дней после нашей встречи со Сталиным мне позвонил помощник Жданова Кузнецов и сказал, что я могу заехать к нему и познакомиться с теми материалами, которые мне могут пригодиться для работы.
Это были материалы, связанные всё с тем же так называемым делом Клюева и Роскина. Материалов было не очень много, я прочёл их все за тридцать или сорок минут, пока сидел в кабинете Кузнецова, и, поблагодарив, вернул ему их. Кажется Кузнецов был чуть-чуть удивлён, как я быстро это прочёл, и, когда я поднялся, спросил меня:
— Значит, могу я сказать Андрею Александровичу, что вы познакомились с материалами?
Я ответил утвердительно. Сталину мой «Дым отечеству» очень не понравился.
Через некоторое время после выхода статьи в газете «Культура и жизнь» о моём любимом «Дыме отечества» с заголовком «Вопреки правде жизни», не обещавшем ничего хорошего, и после беседы со Ждановым меня пригласил к себе его помощник Кузнецов и спросил меня, как у меня обстоят дела с той пьесой, с материалами для которой он меня ознакомил весной после нашей встречи с товарищем Сталиным. Только тут, сидя у Кузнецова, я понял, что от меня вовсе не ждали этой повести, а ждали той пьесы, написание которой числилось как бы за мною с того самого дня, когда мы были у Сталина.
Я сказал Кузнецову, что пьесу я писать буду, что сажусь за неё в ближайшие дни и что помощь мне нужна, нужен серьёзный консультант, крупный учёный, который мог бы ввести меня в курс некоторых микробиологических проблем, с которыми связано будет действие пьесы.
Короче говоря, на следующий день я был у министра здравоохранения Ефима Ивановича Смирнова, ещё, через два дня встретился с академиком Здродовским, который и стал моим консультантом при работе над пьесою «Чужая тень».
Выяснив для себя эту чисто теоретическую сторону дела, я спустя ещё несколько дней поехал в Саратов, в микробиологический институт, уже давно занимавшийся работой над созданием и совершенствованием вакцин против туляремии и чумы.
Написав эту пьесу весной сорок восьмого года, я сделал то, что не делал никогда ни до, ни после этого. Не отдавая её ни в печать, ни в театры, послал экземпляр пьесы Жданову и написал короткую записку помощнику Сталина Поскрёбышеву, что я закончил пьесу, о возможности написания которой шла речь в мае прошлого года во время встречи писателей с товарищем Сталина, и экземпляр её направил Жданову.
— Пьеса была послана Жданову не то в апреле, не то в мае сорок восьмого года. Месяцев восемь о ней не было ни слуху, ни духу. Жданов заболел, потом умер.
В один из январских дней сорок девятого года позвонил Поскрёбышев и передал, чтоб я сейчас же позвонил Сталину. Я поздоровался и сказал, что звонит Симонов. «Я прочёл вашу пьесу «Чужая тень». По моему мнению пьеса хорошая, но есть один вопрос, который освещён неправильно и который надо решить и исправить».
Сталин в начале разговора довольно раздражённо добавил:
— Только вчера получил и прочёл, полгода не сообщали, что она там у них лежит, и вообще.
По всем вопросам литературы, даже самым незначительным, Сталин проявлял совершенно потрясающую меня осведомлённость.
Особенно это проявлялось при обсуждении произведений в Комитете по Сталинским премиям.
Сталин имел обыкновение – брать с собой на заседание небольшую пачку книг и журналов. А были там вышедшие книгами и напечатанные в журналах литературные произведения, не входившие ни в какие списки представленных на премии Комитетом.
Всё, что во время заседания попадало в поле общего внимания, в том числе всё, по поводу чего были расхождения в Союзе писателей, в Комитете, в комиссии ЦК – давать, не давать премию, перенести с первой степени на вторую или наоборот – всё, что в какой-то мере было спорно и вызывало разногласие, он читал.
Когда ему приходила в голову мысль премировать ещё что-то сверх представленного, в таких случаях он не очень считался со статусом премий, мог выдвинуть книгу, вышедшую два года назад, даже напечатанную четыре года назад.
Список премий по поэзии открывался книгой Николая Семёновича Тихонова «Югославская тетрадь», книгой, в которой было много хороших стихов. Обсуждение велось так, как будто никто этой книги не выдвигал.
Сталин, обращаясь к сидевшим за столом членам Политбюро сказал:
— Я думаю, нам всё-таки следует объяснить товарищам, почему мы сняли с обсуждения вопрос о книге товарища Тихонова «Югославская тетрадь». Я думаю им надо это знать, и у них, и у товарища Тихонова не должно быть недоумений.
— Дело в том, — сказал Сталин, — товарищ Тихонов тут ни при чём, у нас нет претензий к нему за его стихи, но мы не можем дать ему за них премию, потому что в последнее время Тито плохо себя ведёт. Я бы сказал, враждебно себя ведёт, — заключил Сталин и снова подошёл к столу. – Товарища Тихонова мы не обидим и не забудем, мы дадим ему премию в следующем году за его новое произведение. Ну а почему мы не смогли сделать это сейчас, надо ему разъяснить, чтоб у него не возникло недоумения.
Мне много раз доводилось читать и слышать о том, как Сталин бывал жесток, груб с людьми, в том числе с теми военными людьми, с которыми он повседневно работал и на которых опирался в годы войны. Так вот, такого Сталина я на этих заседаниях Политбюро ни разу не видел. С нами он ни разу не был груб, раз в год, кладя руку на пульс интеллигенции в нашем лице, он считал нужным создавать у нас последовательно именно такое представление о себе, какое он хотел создать. В этом представлении о нём грубости не было места.
Говоря о Сталине как о политике, стоит подумать о его в высшей степени утилитарном подходе к истории.
Если начать с истории, то для меня несомненно, что замечания Сталина, Жданова, Кирова к конспектам учебников новой истории СССР, появившиеся в январе тридцать шестого года, отнюдь не были свидетельством вдруг возникшей у Сталина симпатии к царям и иным государственным деятелям царской России.
Потребовалось подчеркнуть силу и значение национального чувства в истории и тем самым в современности, в этом и был корень вопроса.
Сила национально-исторических традиций, в особенности военных, была подчёркнута в интересах современной задачи. Задача эта, главная в то время, требовала мобилизовать всё, в том числе и традиционные, национальные, патриотические чувства, для борьбы с германским нацизмом, его претензиями на восточное пространство и с его теориями о расовой неполноценности славянства.
Если говорить о литературе, то Сталин за те годы, когда существовали Сталинские премии, делавшие более очевидными его оценки, поддержал или сам выдвинул на премии целый ряд произведений исторических. А если говорить о кино, то даже составил программу – о каких исторических событиях и о каких исторических личностях следует сделать фильмы.
И всякий раз – и за произведениями, получившими премии, и за идеями о создании произведений о чём-то или о ком-то, произведений, которые впоследствии были обречены, как правило, на премию, стояли сугубо современные политические задачи.
В своё время Сталин сначала поддержал «Чапаева», а вслед за тем выдвинул идею фильма о Щорсе. И Чапаев, и Щорс были подлинными героями гражданской войны, но при этом с точки зрения общих масштабов были, конечно фигурами второго плана. И поддержка Сталиным фильма «Чапаев», и его идея фильма о Щорсе пришлись на ту пору, когда фигуры первого плана, занимавшие высокие посты в современной армии, такие, как Егоров, как Тухачевский или Уборевич, бывшие командующие Юго-Западным, Западным, Дальневосточным фронтами, были предназначены к исчезновению из истории гражданской войны, — не просто к исчезновению из жизни, а к исчезновению из истории.
Троцкий был прямым политическим врагом, и не о нём, и его сторонниках в данном случае речь, но, разумеется, не случайно, что по идее Сталина делался фильм о Щорсе, а не о таких, как и Щорс, уже ушедших в небытие, но куда более крупных, притом политически никак не запятнанных фигурах, как, скажем Фрунзе или Гусев.
После великого «Чапаева» братья Васильевы делают очень хорошую картину «Волочаевские дни», закрепляющую всю ту же концепцию, при которой из поля зрения исчезают фигуры людей, руководивших борьбой на Дальнем Востоке, Уборевича и Постышева.
В первом списке Сталинских премий, опубликованном уже в войну, в самый разгар её, в сорок втором году, фигурировали рядом два исторических романа: «Чингиз-хан» Яна и «Дмитрий Донской» Бородина. Роман «Чингиз-хан» предупреждал о том, что происходит с народами, не сумевшими сопротивляться нашествию, покорёнными победителем. Роман «Дмитрий Донской» рассказывал о начале конца татарского ига, о том, как можно побеждать тех, кто считал себя до этого непобеждёнными. Эти романы были для Сталина современными, потому что история в них и предупреждала о том, что горе побеждённым, и учила побеждать, да притом вдобавок на материале одного из самых всенародно известных событий русской истории. Эти исторические романы, вышедшие перед войной, были премированы сразу же в сорок втором.
Но в сороковом или в сорок первом году вышел ещё один исторический роман, который по его выходе был читан Сталиным, но премирован через несколько лет, в 1946 году.
Это очень интересный факт подтверждает утилитарность Сталинского взгляда на исторические произведения. Я говорю о романе Степанова «Порт-Артур», который был премирован не раньше, не позже, а в 1946 году, после того как Япония была разбита, поставленная Сталиным задача — рассчитаться за 1905 год и, в частности, вернуть себе Порт-Артур – была выполнена.
В сорок втором или в сорок третьем году Сталин мог вполне сказать об этой нравившейся ему книге: нужна ли она сейчас. Нужно ли было, особенно до начала сорок третьего года, до капитуляции Паулюса в Сталинграде, напоминание о падении Порт-Артура.
А в сорок шестом Сталин счёл, что эта книга нужна как нечто крайне современное, напоминавшее о том, как царь, царская Россия потеряли сорок лет назад то, что Сталин и возглавляемая им страна вернули себе сейчас: напоминавшее о том, что и тогда были офицеры и солдаты, воевавшие столь же мужественно, как советские офицеры и солдаты в эту войну. Но находившиеся под другим командованием, под другим руководством, неспособным добиться победы.
Думаю, что премия Костылеву за роман об Иване IV, присуждённая в первые послевоенные годы, тоже была связана с мыслью о современном звучании этого романа, о перекличке времён.
Иван IVвчерне завершил двухвековое объединение Руси вокруг Москвы. Видимо, у Сталина именно в те годы могло быть схожее представление о собственной роли в истории России.
— И на западе, и на востоке было возвращено всё ранее отнятое, и всё ранее отданное, и вдобавок была решена и задача целых столетий о соединении Восточной и Западной Украины, включая даже Буковину и Закарпатье.
Фигура Ивана Грозного была важна для Сталина как отражение личной для него темы – борьбы с внутренними противниками, с боярским своеволием, борьбы, соединённой со стремлением к централизации власти.
Здесь был элемент исторического самооправдания, вернее, не столько самооправдания, сколько самоутверждения, утверждением своего права и исторической необходимости для себя сделать то же, что в своё время сделал Грозный.
Надо сказать, что если в оценке событий войны в речи Сталина перед участниками Парада Победы прозвучала нота самокритичного отношения к событиям первого периода войны, то по отношению к тридцать седьмому — тридцать восьмому году самооборонительной позиции, как я понимаю, он никогда не занимал.
В наибольшей степени Сталин был склонен программировать именно кино. И как вид искусства, более государственный, чем другие, то есть требовавшие с самого начала работы государственного разрешения на неё и государственных затрат, и потому ещё, что он в своих представлениях об искусстве относился к режиссёрам не как к самостоятельным художникам, а как к толкователям, осуществителям написанного.
«У Жукова есть недостатки, некоторые его свойства не любили на фронте, но надо сказать, что он воевал лучше Конева и не хуже Рокоссовского». Сталин – 1950 год.
Мы, когда мы были в опозиции, выступали против беспартийности. А придя к власти, мы уже отвечали за всё общество, за блок коммунистов и беспартийных – этого нельзя забывать. Надо понимать две разных позиции: когда мы были в оппозиции и когда находимся у власти. Вот тут этот был – как его? – Авербах, да. Сначала он был необходим, а потом стал проклятием литературы»
В середине марта 1952 года, когда последний раз присуждались Сталинские премии, я на этом заседании присутствовал. Заседание это отличалось от всех предыдущих тем, что Сталин не стал сам вести его, а с самого начала передал председательство Маленкову.
Сталин действительно любил литературу, считал её самым важным среди других искусств, самым решающим и в конечном итоге определяющим всё или почти всё остальное. Он любил читать и любил говорить о прочитанном с полным знанием предмета. Он помнил книги в подробностях. Где-то у него было – для меня это несомненно- некая собственная художественная жилка, может быть, шедшая от юношеского занятия поэзией, от пристрастия к ней, хотя в общем-то он рассматривал присуждение премий как политик, как дело прежде всего политическое. В то же время некоторые из этих книг он любил как читатель, а другие нет. Вкус его отнюдь не был безошибочен. Но у него был свой вкус.
Мы не знали тогда о Берии того, что узнали потом, но то, что он человек достаточно страшный, некоторое представление уже имели и, как говорится, носили это представление при себе.
Способность в некоторых обстоятельствах быть большим, а может быть, даже великим актёром была присуща Сталину и составляла неотъемлемую часть его политического дарования.
* * *
Раздражённая тирада Сталина против двойных фамилий писателей: «Зачем это подчёркивать? Зачем это делать? Зачем насаждать антисемитизм? Кому это надо?» На меня лично произвела сильное впечатление. По разным поводам я сталкивался в разговорах с людьми разных поколений, с мнением, что Сталин не любит или, во всяком случае недолюбливает евреев; сталкивался и с попытками объяснить это многими причинами, начиная с его отношения к Бунду и кончая приведением списка его основных политических противников, с которыми он в разное время покончил разными способами, списка, во главе которого стояли Троцкий, Зиновьев, Каменев и многие другие сторонники Троцкого и левые оппозиционеры. Это звучало, с одной стороны, вроде бы убедительно, а с другой – нет, потому что во главе правой оппозиции, с которой Сталин также беспощадно расправился, были как на подбор люди с русскими фамилиями и с русским происхождением.
С третьей же стороны, Каганович в нашем представлении большой период времени числился ближайшим соратником Сталина и чуть ли не так и назывался, до самого конца оставался членом Политбюро: Мехлис был долгие годы помощником Сталин, в годы войны, несмотря на Керченский провал, за который можно было не сносить головы, оставался членом Военного совета разных фронтов, а потом стал снова министром государственного контроля.
Правда, что-то смешалось и начинало происходить в последние годы, после войны.
Внезапная гибель Михоэлса, которая сразу же тогда вызвала чувство недоверия к её официальной версии; исчезновение московского еврейского театра; послевоенные аресты среди писавших на еврейском языке писателей; появление вслед за псевдонимами скобок, в которых сообщались фамилии; подбор людей, попавших в статью «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», по тому же признаку; различного рода попущения действующим в этом направлении доброхотам, иногда делавшим или пытавшимся делать на антисемитизме собственную карьеру – всё это однако, не складывалось в нечто планомерное и идущее от Сталина.
В этих послевоенных катаклизмах, кроме нагло проявлявшегося антисемитизма, появился и скрытый, но упорный ответный еврейский национализм, который иногда в некоторых разговорах квалифицировался как своего рода национализм в области подбора кадров.
Не до конца уверен в том, как именно умер Сталин. Действительно ли его хватил удар в том одиночестве, на которое он себя обрёк, и лишь через несколько часов обнаружили его лежащим на полу без сознания? Или его конец своими руками ускорил Берия.
Последнее полугодие своей жизни, в частности в связи с так называемым Мингрельским делом, Сталин заметно отодвинул Берию от себя, хотя и сделал это, видимо, непоследовательно, не до конца, может быть, преувеличивая в тот момент свои возможности, часть которых была уже блокирована Берией. В этой ситуации Берия, конечно, был заинтересован в скорейшем конце Сталина.
Второе основание для таких размышлений связано с тем, что на протяжении ряда лет всё-таки именно Берия больше, чем кто-либо другой, способен был проникнуть к Сталину не только по его воле, но и, очевидно, помимо её.
Третье основание. Всё то, что мы узнали о Берии, выяснившаяся в июне пятьдесят третьего года его попытка захватить власть в свои руки, подсказывают и такую возможность, что первым шагом к этому могло быть и устранение Сталина – или прямое устранение, или под видом прихода ему на помощь.
А тогда, в марте пятьдесят третьего года, как свидетельствуют мои записи, всё это ещё не приходило мне в голову.
«Последний день заседания XIX съезда партии. После нескольких дней отсутствия Сталин в этот, последний день, с самого начала заседания сидит в президиуме. Ворошилов выдерживает небольшую паузу и говорит: Приветствия делегаций коммунистических братских партий закончены». И уже без паузы объявляет: «Слово предоставляется товарищу Сталину»
Зал поднимается и рукоплещет. Сталин встаёт из-за стола президиума, обходит этот стол и бодрой, чуть-чуть переваливающейся походкой не сходит, а почти сбегает к кафедре, кладёт перед собой листки, которые, как мне кажется, он держал в руке, когда шёл к трибуне, и начинает говорить — спокойно и неторопливо.
Так же спокойно и неторопливо он переживает аплодисменты, которыми зал встречает каждый абзац его речи. В самом конце своей речи Сталин впервые чуть-чуть повышает голос, говоря:«Да здравствуют наши братские партии! Пусть живут и здравствуют руководители братских партий! Да здравствует мир между народами! После этого он делает долгую паузу и произносит последнюю фразу: «Долой поджигателей войны».
После этого мне довелось видеть Сталина ещё два раза: На обеде, который давал Центральный Комитет членам иностранных делегаций коммунистических братских партий и на последнем пленуме Центрального Комитета, в работе которого принимал участие Сталин.
На XIX съезде партии я был в числе гостей с билетом на все заседания. За исключением, разумеется, того закрытого, на котором избирался новый состав ЦК. Вечером этого дня мне позвонил домой писатель Бабаевский и абсолютно неожиданно для меня поздравил меня с тем, что я выбран кандидатом в члены ЦК. Одновременно со мной, тоже впервые в своей жизни, были выбраны в ревизионную комиссию ЦК Твардовский – в то время редактор «Нового мира» и Сурков – в то время редактор «Огонька».
На обеде, который давал ЦК в честь делегаций коммунистических партий, я оказался сидящим рядом с Георгием Константиновичем Жуковым, выбранным так же, как и я, в кандидаты в члены ЦК. Ту уж не приходилось сомневаться, что это произошло по инициативе Сталина – никаких иных причин в то время быть не могло.
Пленум ЦК – первый, на котором я присутствовал в своей жизни и единственный, на котором я видел Сталина, — состоялся днём позже, шестнадцатого октября.
Один из членов ЦК, выступая на пленуме, стоя на трибуне, сказал в заключение своей речи, что он преданный ученик товарища Сталина. Сталин, очень внимательно слушавший эту речь, сидя сзади ораторов в президиуме, коротко подал реплику: «Мы все ученики Ленина».
Весь пленум продолжался, как мне показалось, два или два с небольшим часа, из которых примерно полтора часа заняла речь Сталина, а остальное время речи Молотова и Микояна и завершившие пленум выборы исполнительных органов ЦК.
Сколько помнится, пока говорил Сталин, пленум вёл Маленков, остальное время сам Сталин.
Почти сразу же после начала Маленков предоставил слово Сталину. Говорил он от начала и до конца всё время сурово, без юмора, никаких листков или бумажек перед ним на кафедре не лежало, и во время своей речи он внимательно, цепко и как-то тяжело вглядывался в зал, так, словно пытался проникнуть в то, что думают эти люди, сидящие перед ним и сзади.
И тон его речи и то, как он говорил, вцепившись глазами в зал, — всё это привело всех сидевших к какому-то оцепенению, частицу этого оцепенения я испытал на себе. Главное в его речи сводилось к тому, что он стар, приближается время, когда другим придётся делать то, что он делал, что обстановка в мире сложная и борьба с капиталистическим лагерем предстоит тяжёлая, и что самое опасное в этой борьбе дрогнуть, испугаться, отступить, капитулировать. Это и было самым главным, что он хотел не просто сказать, а внедрить в присутствующих, что, в свою очередь, было связано с темой собственной старости и возможного ухода из жизни.
Говорилось всё это жёстко, а местами почти свирепо.
Именно в связи с опасностью уступок, испуга, капитуляции Сталин и апеллировал к Ленину. Но о себе он не говорил, вместо себя говорил о Ленине, о его бесстрашии перед лицом любых обстоятельств.
Главной особенностью речи Сталина было то, что он не счёл нужным говорить вообще о мужестве или страхе, решимости и капитулянтстве. Всё, что он говорил об этом, он привязал конкретно к двум членам Политбюро, сидевшим здесь же, в этом зале за его спиной, в двух метрах от него, к людям, о которых я, например, меньше всего ожидал услышать то, что говорил о них Сталин.
Сначала со всем этим синодиком обвинений и подозрений, обвинений в нестойкости, в нетвёрдости, подозрений в трусости, капитулянтстве он обрушился на Молотова. Из речи Сталина следовало, что человеком, наиболее подозреваемым им в способности к капитулянтству, человеком самым опасным был для него в этот вечер, на этом пленуме Молотов, не кто-нибудь другой, а Молотов.
Молотов обвинялся во всех тех грехах, которые не должны иметь место в партии, если время возьмёт своё и во главе партии перестанет стоять Сталин.
При всём гневе Сталина, иногда отдававшем даже невоздержанностью, в том, что он говорил, была свойственная ему железная конструкция. Такая же конструкция была и у следующей части его речи, посвящённой Микояну, более короткой, но по каким-то своим оттенкам, пожалуй, ещё более злой и неуважительной.
В зале стояла страшная тишина. Четырёх членов Политбюро, сидевших сзади Сталина за трибуной, с которой он говорил, я видел: у них всех были окаменевшие, напряжённые, неподвижные лица. Они не знали, так же, как и мы, где и когда, и на чём остановится Сталин, не шагнёт ли он после Молотова, Микояна ещё на кого-то.
Лица Молотова и Микояна были белыми и мёртвыми. Такими же белыми и мёртвыми эти лица остались тогда, когда Сталин кончил, вернулся, сел за стол, а они – сначала Молотов, потом Микоян спустились один за другим на трибуну, где только что стоял Сталин и там – Молотов дольше, Микоян короче – пытались объяснить Сталину свои действия и поступки, оправдаться, сказать ему, что это не так, что они никогда не были ни трусами, ни капитулянтами и не убоятся новых столкновений с лагерем капитализма и не капитулируют перед ним.
То, что Сталин явно хотел скомпрометировать их обоих, принизить, лишить ореола одних из первых после него самого исторических фигур, было несомненным.
Почему-то он не желал, чтобы Молотов после него, случись что-то с ним, остался первой фигурой в государстве и в партии. И речь его окончательно исключала такую возможность.
Сталин, стоя на трибуне и глядя в зал, заговорил о своей старости и о том, что он не в состоянии исполнять все те обязанности, которые ему поручены. Он может продолжать нести свои обязанности Председателя Совета Министров, может исполнять свои обязанности, ведя, как и прежде, заседания Политбюро, но он больше не в состоянии в качестве Генерального секретаря вести ещё и заседания Секретариата ЦК. Поэтому от этой последней своей должности он просит его освободить, уважить его просьбу.
На лице Маленкова я увидел ужасное выражение – не то чтоб испуга, нет, не испуга – а выражение, которое может быть у человека, яснее всех других осознавшего ту смертельную опасность, которая нависла у всех над головами и которую ещё не осознали другие: нельзя соглашаться на эту просьбу товарища Сталина, нельзя соглашаться, чтобы он сложил с себя вот это одно, последнее из трёх своих полномочий, нельзя. Лицо Маленкова, его жесты, его выразительно воздетые руки были прямой мольбой ко всем присутствующим немедленно и решительно отказать Сталину в его просьбе. И тогда, заглушая раздавшиеся уже и из-за спины Сталина слова: «Нет, просим остаться!», или что-то в этом духе, зал загудел словами: «Нет! Нельзя! Просим остаться! Просим взять свою просьбу обратно!»
Маленков понял сразу, что Сталин вовсе не собирается отказываться от поста Генерального секретаря, что это проба, прощупывание отношения пленума к поставленному им вопросу – как, готовы они, сидящие сзади него в президиуме и сидящие впереди него в зале, отпустить его, Сталина, с поста Генерального секретаря, потому что он стар, устал и не может нести ещё эту третью свою обязанность. Маленков в случае другого решения вопроса был естественной кандидатурой на третий пост товарища Сталина, который тот якобы хотел оставить из-за старости и усталости. И почувствуй Сталин, что там сзади, за его спиной или впереди, перед его глазами, есть сторонники того, чтобы удовлетворить его просьбу, думаю, первый, кто ответил бы за это головой, был бы Маленков; во что бы это обошлось вообще, трудно себе представить.
Состав Президиума, который был выбран вместо Политбюро, для многих явился неожиданностью, для меня, конечно, тоже. То, что в этом Президиуме будет двадцать пять человек и, таким образом, прежнее Политбюро составит даже меньше половины Президиума, было неожиданностью.
Теперь в Президиуме из прежних членов Политбюро отсутствовал Андреев, а Косыгин оказался кандидатом в члены Президиума. Секретариат ЦК тоже был составлен небывало широкий: из десяти человек.
Главное же удивление моё было связано с тем, что несмотря на яростную по отношению к Молотову и Микояну речь Сталина, они оба оказались в составе Президиума, — у меня это вызвало вздох облегчения. Но вслед за этим произошло то, что впоследствии не стало известным сколько-нибудь широко: Сталин, хотя этого не было в новом Уставе партии, предложил выделить из состава Президиума Бюро Президиума, то есть, в сущности, Политбюро под другим наименованием. И вот в это Бюро из числа старых членов Политбюро, вошедших в новый состав Президиума, не вошли ни Молотов, ни Микоян.
Пришедшие в редакцию «Литературной газеты» «тассовки» о создании Бюро Президиума не сообщили. Так это и осталось неизвестным, а в день смерти Сталина, когда мы явились на пленум ЦК, на котором сформировались за полтора-два часа до смерти Сталина новые органы власти, за столом президиума сидело Бюро, выбранное при Сталине, плюс Молотов и Микоян и минус сам Сталин. Таким образом, это его решение, очевидно, самоличное, принятое на том пленуме, впоследствии как бы просто игнорировалось.
Четыре с половиной месяца, прошедшие между последним пленумом ЦК с участие Сталина и его смертью, были месяцами тяжёлыми и странными.
Тринадцатого января (1953г- А.М) в газетах было напечатано сообщение ТАСС о врачах-убийцах, сообщение ужасное, напоминавшее худшие времена тридцать седьмого — тридцать восьмого годов, и такого же рода обвинения Плетнёва и других в убийстве или в содействии убийству Орджоникидзе, Горького и Куйбышева.
Теперь в роли жертв были Жданов и Щербаков, врачи-убийцы оказывались агентами всё того «Джойнта», у всех у них были еврейские фамилии, правда, к ним потом присоединили несколько врачей с русскими фамилиями. Когда неделю спустя появилось сообщение о награждении орденом Ленина врача Лидии Тимашук, которой правительство выражало благодарность за помощь в разоблачении врачей-убийц, вся эта история выглядела ещё страшней, ещё подозрительней. Накатывалась волна антисемитизма, во многих случаях не чуждая прямому сведению всякого рода личных счётов – недавних и давних.
* * *
«Четвёртого числа вечером (4 марта 1953 г. – А.М) я пришёл в Кремль, в комнату, где помещался секретариат Сталина. Другие люди, вызванные туда, так же, как и я, по одному короткому делу, молча приходили, молча раздевались, молча пятнадцать-двадцать минут занимались тем делом, по которому были вызваны, и так же молча, не обменявшись ни одним словом уходили».
В Кремль, в секретариат Сталина в тот вечер, на протяжении нескольких часов, вызывались находившиеся в Москве, а может быть, и уже вызванные в Москву члены и кандидаты ЦК для того, чтобы познакомиться с бюллетенями о состоянии здоровья Сталина.
Возвращаюсь к тексту записи от шестнадцатого марта пятьдесят третьего года: «Сейчас в этой комнате было абсолютное молчание, хотя в ней находилось много людей. За этим молчанием стояло чувство, что вот где-то здесь, через несколько комнат, ещё коридор, ещё комната и где-то в какой-то комнате у себя на квартире лежит умирающий Сталин».
Сейчас уже давно общеизвестно, что Сталин умер не у себя в квартире, в Кремле, как это было сказано в правительственном сообщении, а за городом, на своей так называемой ближней даче.
Снова возвращаюсь к записи пятьдесят третьего года: «Пятое марта вечер. В Свердловском зале должно начаться совместное заседание ЦК, Совета Министров и Верховного Совета, о котором было потом сообщено в газетах и по радио. Я пришёл задолго до назначенного времени, минут за сорок, но в зале собралось уже больше половины участников, а спустя десять минут пришли все. До самого начала в зале стояла такая тишина, что не пробыв сорок минут сам в этой тишине, я бы никогда не поверил, что могут так молчать триста тесно сидящих рядом друг с другом людей. Никогда по гроб жизни не забуду этого молчания».
А теперь несколько слов в дополнение к записанному тогда.
Первое впечатление: из задних дверей Свердловского зала вошли и сели за стол президиума не двадцать пять человек, выбранных в Президиум при Сталине, а только те, кто вошёл при Сталине в Бюро Президиума, — Молотов, Берия, Каганович, Булганин, Хрущёв, Ворошилов, Сабуров, Первухин. Кроме них, Молотов и Микоян, которых Сталин в это Бюро не включил. Таким образом, воля Сталина, с одной стороны, с самого начала была как бы соблюдена тем, что за столом президиума сидели Сабуров и Первухин, — с другой стороны, отвергнута, потому что за столом президиума девятым и десятым сидели Молотов и Микоян, при жизни Сталина, не включённые им в состав Бюро Президиума.
Вступительную речь, если мне не изменяет память, сказал Маленков. Она сводилась к тому, что товарищ Сталин продолжает бороться со смертью, но состояние его настолько тяжёлое, что даже если он возобладает над смертью, то не сможет работать очень длительное время. А на такое время невозможно оставлять страну без полноправного руководства.
Поэтому необходимо теперь же, не откладывая, сформировать правительство и произвести все необходимые назначения, связанные с этим. После этого Маленков предоставил слово Берии. Берия, спустившись к трибуне, коротко предложил назначить Председателем Совета Министров Маленкова. Когда это предложение было проголосовано, он пошёл обратно – стал подниматься к столу президиума, а Маленков стал спускаться к кафедре. Спустившись к кафедре, Маленков стал вносить те предложения, которые на следующий день все прочли в газетах и услышали, кажется, ещё раньше, по радио – уже после сообщения о смерти Сталина. Среди четырёх первых заместителей Председателя Совета Министров Маленков назвал первым Берию и уж после него Молотова, Булганина и Кагановича.
В сущности, появилась тенденция сосредоточить власть в руках Президиума Совета Министров, в который вошло пять, то есть половина, членов Президиума ЦК. В Секретариате ЦК с указанием на то, что он должен сосредоточиться на этой работе, остался только один член президиума ЦК — Хрущёв. Ещё один член Президиума ЦК – Ворошилов – стал Председателем Президиума Верховного Совета, а трое других членов Президиума ЦК – Микоян, Сабуров и Первухин – стали министрами, но не входящими в Президиум Совета Министров.
Наверное, за таким распределением сил стояла мысль об изменении соотношения меры власти ЦК и Совета Министров. Возможно, эта инициатива исходила от Берии, во всяком случае, и впоследствии он активно действовал именно в этом направлении, стремясь и в республиках ставить главных, первых лиц на посты Председателей Советов Министров, а на посты секретарей ЦК – лиц второстепенных.
* * *
После окончания, сговорившись с Шепиловым, редактировавшим тогда «Правду», мы, писатели, — твёрдо помню, что это были Фадеев, Корнейчук и я – не помню точно, были ли вместе с нами Сурков и Твардовский, — поехали в редакцию «Правды».
Минут через двадцать мы были в «Правде» и сидели в кабинете у Шепилова. Говорили о том, что надо подумать над тем, чтобы известные писатели выступили с рядом статей в «Правде». Но для того чтобы писать, нужна какая-то определённость. Определённости не было, потому что Сталин был ещё жив или считалось, что он ещё жив. Минут через сорок Шепилову позвонили по верхушке и сказали, что «товарищ Сталин умер».
Потом, спустя годы, разные писатели разное и по-разному писали о Сталине. Тогда же говорили, в общем, близко друг к другу – Тихонов, Сурков, Эренбург. Похоже, очень похоже написали мы тогда стихи о Сталине. Ольга Берггольц, сидевшая в тридцать седьмом, Твардовский – сын раскулаченного, Симонов – дворянский отпрыск и старый сельский коммунист Михаил Исаковский.
А теперь вернусь к своим записям пятьдесят третьего года, вернее, к той последней записи, где идёт речь о Колонном зале и похоронах Сталина: «Хотя мне сообщили по телефону, что надо прийти в Колонный зал около трёх часов дня, я с большим трудом добрался туда только около пяти. Подойти к Колонному залу пешком было уже почти невозможно».
Добавляю к тогдашней записи, что жил в ту пору на Углу Пушкинской площади, но пройти вниз ни по улице Горького, ни по Дмитровке, ни по Петровке так и не удалось. На Трубной площади мы столкнулись в толпе с тогдашним министром лесной промышленности Орловым. Дальше пошли вместе вниз по Неглинной и, несмотря на наши цековские удостоверения, едва продрались через ту молчаливую сумятицу, которая царила на улицах Москвы: пролезали под грузовиками, перегораживавшими Неглинную, потом перелезали через грузовики, оказывались так стиснутыми со всех сторон, что не могли вынуть из карманов документы, подавались с толпой людей то вперёд, то назад и выбрались из давки и толкучки только под самый конец где-то у задов Малого театра.
Возвращаясь к записи:
«В комнате позади президиума люди накалывали на рукав повязки. Одни уходили в почётный караул, другие возвращались из него. Так прошло, наверное, около часа. Наконец, очередь дошла и до нас. Мы стали справа у изголовья. Я повернул голову и, только уже стоя там, я увидел лицо лежавшего в гробу Сталина. Лицо его было очень спокойное, нисколько не похудевшее и не изменившееся. Волосы спокойно лежали, откинутые назад, и уходили в подушку. Болезнь ничего не переменила в его лице, оно очень спокойное, совсем не стариковское, ещё молодое. Руки спокойно лежали поверх серого френча.
* * *
Я ещё несколько раз за этот день стоял в почётном карауле и, наверное, часа два провёл у двери, в которую входили люди. Не знаю, как это записать, чтобы быть совершенно точным,- не все плакали, не все вздрагивали, но все выражали свои чувства в эту секунду как-то заметно, как-то очевидно. А в то же время я испытывал какой-то внутренний тон душевного потрясения каждой пары проходивших мимо меня людей в ту секунду, когда они видели Сталина в гробу.
Девятого марта, в день похорон, мы пришли в Колонный зал в девять часов. Сначала стояли в почётном карауле, потом прошли в зал. Сменялись последние почётные караулы – то играла музыка, то пел женский хор. Когда я стоял один из последних караулов, вдруг по помосту, на котором стоял гроб, на две-три ступеньки вверх поднялась дочь Сталина Светлана и долго смотрела на отца, на его лицо. Повернулась, отошла и снова села в кресло, стоявшее справа от головы Сталина. Из задней двери вышли руководители партии и правительства и подошли к гробу. В эту же минуту маршалы начали брать подушки с орденами и медалями Сталина. Первую подушку взял Будённый. Гроб накрыли крышкой с полукруглым стеклянным или плексигласовым фонарём над лицом Сталина, подняли и понесли.
Процессия двигалась медленно, мы шли в последних рядах её, позади нас, ещё через один или два ряда шли дипломаты.
Впереди у лафета были видны покачивавшиеся на головах лошадей султаны и четыре тонких солдатских штыка по четырём сторонам гроба. Напротив гостиницы «Москва», когда мы шли мимо неё, стало видно, как, поднимаясь в гору Красной площади, уже движется впереди процессия с венками.
Траурный митинг начался, когда гроб поставили около Мавзолея. Когда митинг кончился и гроб внесли на руках в Мавзолей, все по очереди стали спускаться туда.
Ещё стоя в Колонном зале, я несколько раз думал, почему именно так положены руки Сталина, и вдруг, когда вошли в Мавзолей, понял, что руки у него положены точно также, как поверх френча были положены руки у Ленина.
Сначала внутри Мавзолея, поднимаясь по его ступенькам, мы проходили рядом с саркофагом, в котором лежал Ленин, а потом, повернувшись, проходили рядом с гробом Сталина, поставленным на чёрный узкий мраморный камень, рядом с саркофагом Ленина, и, проходя тут, впервые совсем уже близко, меньше, чем на расстоянии вытянутой руки, я ещё раз увидел лицо Сталина. Оно было до такой степени живое, если это можно сказать о мёртвом лице, что с какой-то особенной страшной силой потрясения, именно в эту секунду я подумал, что он умер. А потом пошли ступеньки лестницы, всё это осталось позади, и мы вышли из Мавзолея».
На этом кончается сделанная шестнадцатого марта пятьдесят третьего года запись о Сталине, его смерти и похоронах.
Я много раз до этого бывал в Мавзолее и привык к этому давнему восковому, десятилетиями отделённому от нас лицу Ленина. А лицо Сталина здесь, рядом, было не только непривычным, но и до ужаса живым, именно от контраста с давно ушедшим куда-то в века лицом Ленина. В том саркофаге лежал как бы образ Ленина, а здесь – закрытый стеклянною крышкой живой человек, живой и грозный, потому что последнее ощущение, испытанное мною тогда, на пленуме, где он выступал, было именно ощущение грозности, опасности происходящего.
На траурном митинге выступали три разных человека. Всех троих я слушал с одинаковым вниманием. Первым был Маленков, вторым Берия, третьим- Молотов. Различие в тексте речей мне и тогда не бросалось в глаза, да и сейчас, когда я перечёл их в старой газете, они не слишком отличаются друг от друга, разве только тем, что в речи Молотова, в первом её абзаце, о Сталине сказано несколько более человечно, чуть-чуть менее казённо, чем в других речах.
Однако та разница, которую сейчас по тексту этих речей не уловишь, но которая была тогда для меня совершенно очевидна, состояла в том, что Маленков, а, вслед за ним Берия произносили над гробом Сталина чисто политические речи, которые было необходимо произнести по данному поводу. Но в том, как произносились эти речи, как они говорили, отсутствовал даже намёк на собственное отношение этих людей к мёртвому, отсутствовала хотя бы тень личной скорби, сожаления или волнения, или чувства утраты, — в этом смысле обе речи были абсолютно одинаково холодными.
Речь Молотова мало разнилась по тексту от других, но её говорил человек, прощавшийся с другим человеком, которого он, несмотря ни на что, любил, и эта любовь вместе с горечью потери прорывалась даже каким-то содроганием в голосе этого твердокаменнейшого человека.
Мне думается, что среди людей, долгие годы работавших вместе со Сталиным, под его руководством – понятие «единомышленник» в наибольшей степени может быть отнесено к Молотову. Листая сейчас номера мартовских, апрельских газет пятьдесят третьего года, сверяя всё это с личными своими воспоминаниями, я не мог не обратить внимание на календарную последовательность некоторых газетных сообщений того времени и на некоторые снимки, тогда не обратившие на себя внимания, а сейчас бросающиеся в глаза.
«Правда» за десятое марта пятьдесят третьего года. Первая полоса её. Трибуна Мавзолея, под обрезом которой впервые не одно, а два слова:
«Ленин. Сталин». Уже в мраморе, одно под другим. У микрофона Маленков в ушанке, а справа от него между Хрущёвым в папахе пирожком и Чжоу Эньлаем в мохнатой китайской меховой шапке Берия, грузно распирающий широкими плечами стоящих с ним рядом, в пальто, закутанный в какой-то шарф, закрывающий подбородок, в шляпе надвинутой по самое пенсне, шляпа широкополая, вид мрачно-целеустремлённый, непохож ни на кого другого из стоящих на Мавзолее. Больше всего похож на главаря какой-нибудь тайной мафии из не существовавших тогда, появившихся намного позже кинокартин. Как показало дальнейшее, он надеялся прийти к власти самым кратчайшим путём.
Эти надежды были связаны и с его долголетним особым положением при жизни Сталина, и с заранее приготовленными им для этого, лично преданными ему кадрами людей, от него зависящих, так или иначе всецело находившихся в его руках, и с его собственной натурой решительного и дерзкого авантюриста, сумевшего на какое-то время повернуть в свою пользу возникшую ситуацию коллективного руководства.
Пользуясь тем, что делавший всего несколько месяцев назад на XIX съезде партии отчётный доклад от имени ЦК Маленков теперь, когда Сталин умирал или уже умер, мог рассматриваться как преемник Сталина на первом посту в стране, Берия ухватывается за Маленкова, очевидно, вместе с ним набрасывает первоначальный проект будущих перемен и на пленуме публично выдвигает его на пост Председателя Совета Министров.
* * *
Была и другая альтернатива: среди старших членов Политбюро был Молотов, за спиной у которого стояло десять лет работы в качестве Председателя Совета Министров и который в случае разделения постов, если бы Маленков пошёл в ЦК на – названный так или по-иному – пост Генерального секретаря, заместив на этом посту Сталина, Молотов мог бы заместить Сталина на посту Председателя Совета Министров. Молотов был популярен, в широких массах. Такое назначение, очевидно, встретило бы положительное отношение. Но Берии помог сам Сталин, в последнем выступлении по каким-то своим причинам –может быть, и не совсем по своим, а по ставшим его чужим инсинуациям, — обрушившийся на Молотова с такой силой, что назначение Молотова на один их двух постов, занимавшихся Сталиным, людьми, слышавшими выступление Сталина, было бы воспринято как нечто прямо противоположное его воле. Почему же Берия был заинтересован, чтобы Маленков стал наследником Сталина именно на посту Председателя Совета Министров, а пост Сталина в секретариате ЦК занял бы человек, с точки зрения Берии, второстепенного масштаба – Хрущёв, в личности и характере которого Берия так и не разобрался до самого для своего падения? Идея Берии сводилась к тому, чтобы главную роль в руководстве страны играл Председатель Совета Министров и его заместители, они же почти целиком составляли и предложенный в том проекте им и Маленковым состав Президиума. Таким образом в руках членов Президиума, составлявших одновременно руководство Совета Министров, сосредоточивалась вся власть в стране.
В случае отсутствия или болезни Маленкова предполагалось, что исполнять его обязанности будет первый из названных его заместителей – Берия.
Какое-то время перед смертью Сталина Берия не находился на посту министра государственной безопасности, хотя и продолжал практически в той или иной мере курировать министерства государственной безопасности и внутренних дел. Последние месяцы на пост министра государственной безопасности был назначен Сталиным старый партийный работник Игнатьев.
В принятом на совместном заседании решении укрупнялся целый ряд министерств, одни сливались с другими, в том числе ликвидировалось и сливалось с Министерством внутренних дел Министерство государственной безопасности, и Берия как первый из первых заместителей Маленкова, одновременно становился главой этого нового Министерства внутренних дел, вобравшего в себя и Министерство государственной безопасности. А Игнатьев стал секретарём ЦК, как мы потом увидим ненадолго.
Итак, Берия создал заранее позицию, наиболее удобную для захвата власти и последующих действий, масштабы и характер которых, учитывая личность Берии, очевидно, носили бы достаточно мрачный и глобальный характер.
Берия старается добиться перенесения центра тяжести власти и на местах, в республиках, из ЦК в Советы Министров и в нескольких случаях, в частности в Баку, добивается этого.
В качестве министра внутренних дел, он выдвигает идею амнистии.
В своё время, в конце тридцать восьмого года, Сталин назначал его вместо Ежова, и начало деятельности Берии в Москве было связано с многочисленными реабилитациями, прекращением дел и возвращением из лагерей и тюрем десятков, если не сотен тысяч людей, именно такую роль определил ему тогда Сталин, и он её по всем правилам игры сыграл в предвоенное время. Он надеялся, что ему министру внутренних дел, его усилиям будет приписан указ Президиума Верховного Совета об амнистии, по которому освобождались из заключения осуждённые на срок до пяти лет включительно, но и прекращались те дела, которые рассматривались и по которым была предусмотрена мера наказания не свыше пяти лет; также освобождалась осуждённые за хозяйственные, должностные и за ряд категорий воинских преступлений.
Это мероприятие, само по себе гуманное, проводилось необыкновенно поспешно, возникает впечатление, что впоследствии, при определённых обстоятельствах и при определённой пропагандистской работе в этом направлении, часть освобождённых или ненаказанных могли образовать питательную среду для поддержки его, Берии.
Через шесть дней после этого указа, четвёртого апреля, в газетах появляется сообщение Министерства внутренних дел, возглавляемого Берией, о том, что МВД СССР провело тщательную проверку по делу так называемых «врачей-убийц»: «В результате проверки установлено, что привлечённые к этому делу врачи – дальше идёт длинный список — были арестованы бывшим Министерством государственной безопасности СССР неправильно, без каких-либо законных оснований. Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками следственной части бывшего Министерства государственной безопасности путём применения недопустимых и строжайше запрещённых советскими законами приёмов следствия».
Ещё через два дня в передовой «Правды» разъясняется, что произошло прежде всего потому, что бывший министр государственной безопасности С.Д. Игнатьев проявил политическую слепоту и ротозейство и оказался на поводу у преступных авантюристов. В тот же день опубликовано сообщение, что Игнатьев освобождён от обязанностей секретаря ЦК.
Так вся эта серия мероприятий проходит через газеты, лишь потом обнаруживая внутренний смысл как подготовительные шаги по дороге к захвату власти, которые поспешно, один за другим, делал Берия.
Один из этих шагов в газеты не попал, но я принадлежу к числу людей, знающих о нём. Вскоре после сообщения о фальсификации дела врачей членов и кандидатов в члены ЦК знакомили в Кремле, в двух или трёх отведённых для этого комнатах, с документами, свидетельствующими о непосредственном участии Сталина во всей истории с «врачами-убийцами», с показаниями арестованного начальника следственной части бывшего Министерства государственной безопасности Рюмина о его разговорах со Сталиным, о требованиях Сталина ужесточить допросы – и так далее, и тому подобное. Были там показания и других лиц, всякий раз связанные непосредственно с ролью Сталина в этом деле. Были записи разговоров со Сталиным на эту же тему. Не убеждён, но, кажется, первоначально записанных на аппаратуру, а потом уже перенесённых на бумагу.
Я в три или четыре приёма читал эти бумаги на протяжении недели примерно. Потом чтение было прекращено, разом оборвано. Идея предоставить членам и кандидатам ЦК эти документы для прочтения принадлежала, несомненно Берии, именно он располагал этими документами, и впоследствии выяснилось, что так всё и было. Выставляя документы на обозрение, Берия как бы утверждал, что он и далёк, и категорически против всего этого, что он не собирается покрывать грехов Сталина, наоборот, хочет представить его в истинном свете.
Записи были похожи на правду и свидетельствовали о болезненно психическом состоянии Сталина, о его подозрительности и жестокости, граничащих с психозом.
Когда вернулись Корнейчук и Фадеев из командировок и я им рассказал об этих документах, у них глаза полезли на лоб, но прочесть их сами они уже не могли. Цель Берии была достаточно подлой, и она вскоре стала совершенно ясна мне, документы эти, пусть и специфически подобранные, не являлись фальшивыми. Поэтому к тому нравственному удару, который я пережил во время речи Хрущёва на XX съезде (в 1956 г. – А.М.), я был, наверное, больше готов, чем многие другие.
Через четыре месяца после смерти Сталина, в одиннадцатом часу вечера третьего июля пятьдесят третьего года, мне позвонил в редакцию «Литературной газеты» бывший ответственный секретарь, а потом редактор «Красной Звезды» Василий Петрович Московский, работавший тогда, в 1953 году, заместителем начальника управления агитации и пропаганды ЦК, и приказал остановить печатание газеты. Через каких-нибудь пятнадцать минут Московский уже вошёл ко мне в кабинет и попросил сделать так, чтобы, пока он у меня будет, никто не заходил.
— Слушай меня внимательно,- сказал Московский и перешёл на официальный тон. – Мне поручено ЦК сообщить тебе как редактору «Литературной газеты» для твоего личного, только личного сведения, что товарищ Берия сегодня выведен из состава Президиума ЦК, выведен из состава ЦК, исключён из партии, освобождён от должности заместителя Председателя Совета Министров и министра внутренних дел и за свою преступную деятельность арестован.
— Всё, что случилось, узнаешь завтра в десять часов утра на пленуме ЦК, а пока с учётом того, что я тебе сообщил, лично перечитай все полосы, чтобы там ничего не было о Берии.
Я стоял ещё два часа за своей конторкой, перечитывая все четыре полосы, но ничего о Берии не обнаружилось, и я к середине ночи подписал все полосы.
У разных людей всё-таки проявилась тревога, связанная с тем положением, которое после смерти Сталина занял Берия. Были среди разнообразно выраженных тревог этих и такие оттенки: а не попробует ли Берия занять по наследству место Сталина в полном смысле этого слова?
Что до меня, то, проводя между сорок восьмым и пятьдесят третьим годами все свои так называемые творческие двух — трёх месячные отпуска за работой сначала в Сухуми, а потом под Сухуми, в посёлке Гульрипши и познакомившись там и со многими абхазцами, и со многими грузинами, я знал о деятельности Берии в бытность его на Кавказе, о том, каким влиянием он располагал там, на Кавказе, прежде всего в Грузии, и после того, как уехал в Москву, — знал обо всём этом намного больше других, не живших там людей.
То тут, то там приходилось сталкиваться с воспоминаниями об исчезнувших семьях, о людях, погибших, выбитых из жизни в Грузии, среди партийных работников и среди интеллигенции – это было до того, как Берию перевели в Москву на роль человека, исправляющего ошибки Ежова.
Я постепенно составил себе довольно полное представление о том, что, прежде чем облагательствовать оставшихся в живых и выпускать их после Ежова из лагерей и тюрем, Берия выкосил Грузию почище, чем Ежов Россию.
С этим уроженцем мингрельского села Мерхеули, расположенного всего в десятке километров от посёлка Гульрипши, где я жил, было связано столько слухов, намёков в разговорах, что ощущение, что он человек не только страшный в прошлом, но и опасный в будущем, сложилось у меня довольно стойкое.
А утром я пошёл на пленум ЦК, который продолжался, по-моему, пять или шесть дней и на котором о Берии было сказано всё, что только можно было сказать о нём, по возможности при этом выгораживая Сталина, далеко не всегда убеждённо и далеко не всегда удачно.
О том, как поймали Берию буквально накануне подготовленного им захвата власти, на пленуме рассказал Хрущёв. Из его рассказа самым естественным образом следовало, что именно он, Хрущёв, сыграл главную роль в поимке и обезоруживании этого крупного зверя. Для меня было совершенно очевидным, когда я слушал его, что Хрущёв был инициатором этой поимки с поличным, потому что он оказался проницательнее, талантливей, энергичней и решительней, чем все остальные. А с другой стороны, этому способствовало то, что Берия недооценил Хрущёва, его качеств, его глубокой природной, чисто мужицкой, цепкой хитрости, его здравого смысла, да и силы его характера, и, наоборот, счёл его тем круглорожим сиволапым дурачком, которого ему, Берии, мастеру интриги, проще простого удастся обвести вокруг пальца. Хрущёв в своей речи не без торжества говорил о том, за какого дурачка считал его Берия.
Кроме речи Хрущёва наиболее сильное впечатление на меня на этом пленуме произвели особенно умные, жёсткие, последовательные и аргументированные речи Завенягина и Косыгина.
Написав всё это, хочу попробовать разобраться в своём отношении к Сталину в период между его смертью и XX съездом, в эти три года.
Своего отношения к Сталину в те три года я не могу точно сформулировать: оно было очень неустойчивым. Меня метало между разными чувствами и разными точками зрения по разным поводам. Первым главным чувством было то, что мы лишились великого человека. Только потом возникло чувство, что лучше бы лишиться его пораньше, тогда, может быть, не было бы многих страшных вещей, связанных с последними годами его жизни. Но что было, то было, в истории нет вариантов. Первое чувство грандиозности потери меня не покидало долго, в первые месяцы оно было особенно сильным.
Кстати, перечитывая сейчас газеты того времени, я увидел то, что давно забылось: именно Никита Сергеевич Хрущёв по иронии судьбы был председателем комиссии по похоронам Иосифа Виссарионовича Сталина, открывал и закрывал траурный митинг на Красной площади.
Я не был заядлым сталинистом ни в пятьдесят третьем, ни в пятьдесят четвёртом году, ни при жизни Сталина. Но в пятьдесят четвёртом, после смерти Сталина, у меня в кабинете дома появилось понравившаяся мне фотография Сталина, снятая со скульптуры Вучетича на Волго-Донском канале, — сильное и умное лицо старого тигра. При жизни Сталина никогда его портретов у меня не висело и не стояло, а здесь взял и повесил.
Приходить же к критическому отношению к деятельности Сталина я стал тогда, когда решился писать роман о войне и начинать его первыми днями войны. Первую часть романа «Живые и мёртвые», которая потом не вошла в него по чисто конструктивным и художественным причинам, я писал в конце декабря пятьдесят пятого года, весь январь и начало февраля пятьдесят шестого года.
Это было до XX съезда, накануне его, ещё не было ни речи Хрущёва, ни всего что за ней последовало и в жизни, и в наших душах. Эту часть своего романа я в пятьдесят седьмом году напечатал как две отдельных повести –«Пантелеев» и «Левашов». В них уже было то, что мне не пришлось после XX съезда ни менять, ни переписывать. Они были сразу именно так и написаны. Мои воспоминания о том времени, мои дневники, на которые я прежде всего опирался, были неизбежно связаны с внутренней переоценкой очень многих вещей, касавшихся Сталина: готовности к войне, роли арестов тридцать седьмого — тридцать восьмого годов в наших поражениях, ещё многого и многого другого. Дневники писались во время войны. Роман отделяло от них тринадцать или четырнадцать лет. Влезая в роман, я всё больше и больше переоценивал для себя Сталина, его роль, всё то, что шло от него.
Сталин и война
Уроки истории и долг писателя
Заметки литератора
В преддверии двадцатилетия Победы хочется высказать некоторые, связанные с историей Великой Отечественной войны мысли, родившиеся у меня, как у писателя, ряд лет работающего над этой темой.
Сейчас трудно себе представить, что в 1955 году, через 10 лет после окончания войны, у нас по существу ещё не было мемуарной литературы о Великой Отечественной войне. И в этом не приходится винить её участников, ибо только XX съезд партии создал благоприятные условия для создания этой литературы.
Люди, прошедшие войну, часто вспоминают тост, который произнёс Сталин в мае 1945 года «За здоровье русского народа»:
«У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах. Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошёл на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошёл на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии». Сталин, сам, как высший судия, оценив этот этап истории, в том числе и свои отношения с русским народом так, как он их понимал, он как бы ставил точку на самой возможности существования каких бы то ни было критических оценок в будущем. Слова этого тоста как будто призывали людей говорить о прошлом суровую правду, а на деле за этими словами стояло твёрдое намерение раз и навсегда подвести черту под прошлым. Не допуская его дальнейшего анализа.
Когда мы говорим о просчётах Гитлера и германского генерального штаба, следует помнить, что один из их главных просчётов был просчёт в оценке кадров. В 1937-1938 годах эти кадры действительно понесли страшный урон. Но Гитлер и германский генштаб считали этот урон невосполнимым, а нашу армию в условиях большой войны небоеспособной.
Нам неизвестно и останется неизвестным, как воевали бы в 1941 году Блюхер или Белов, Дыбенко или Федько. Об этом можно говорить только предположительно. Но зато нам твёрдо известно другое: не будь 1937 года, не было бы и лета 1941 года, и в этом корень вопроса. Не будь 1937 года, мы к лету 1941 года были бы несомненно сильнее во всех отношениях, в том числе и в чисто военном, и прежде всего потому, что в рядах командного состава нашей армии пошли бы на бой с фашизмом тысячи и тысячи преданных коммунизму и опытных в военном деле людей, которых изъял из армии 1937 год.
Несколько слов о непосредственно предвоенной атмосфере. Сложность и противоречивость тогдашней обстановки у нас порой всё ещё примитивируется и выглядит примерно так: после событий 1937-1938 годов и финской войны, открывшей глаза на наши слабости, армия стала перестраиваться; для её успешной перестройки была создана нормальная атмосфера. Всё уже шло к лучшему, и если бы вдобавок Сталин поверил Рихарду Зорге, принял необходимые меры, всё было бы в порядке.
Казалось бы, на первый взгляд всё правильно. Каждый, кто в то время имел отношение к армии, хорошо помнит, с какой энергией после финской войны новое руководство Наркота обороны стремилось навести порядок в армии и прежде всего перестроить её боевую подготовку.
Иногда изображают дело так, словно осенью 1938 года, осудив так называемые «перегибы» и наказав за них Ежова, Сталин поставил крест на прошлом; людей уже больше не объявляли врагами народа, а лишь освобождали и возвращали на прежние посты, в том числе и военные. С одной стороны, это верно. В армию вернулась часть командиров, арестованных в 1937-1938 годах, и некоторые из них в войну командовали дивизиями, армиями и даже фронтами.
Но с другой стороны, и в 1940 и в 1941 году всё ещё продолжались пароксизмы подозрений и обвинений. Незадолго до войны, когда было опубликовано памятное сообщение ТАСС о его полуупрёком — полуугрозой в адрес тех, кто поддаётся слухам о якобы враждебных намерениях Германии, были арестованы и погибли командующий ВС Красной Армии Рычагов, главный инспектор ВВС Смушкевич и командующий противовоздушной обороной страны Штерн.
Для полноты картины надо добавить, что к началу войны оказались арестованными ещё и бывший начальник Генерального штаба и нарком вооружения, впоследствии, к счастью, освобождённые.
Сталин несёт ответственность не просто за тот факт что он с непостижимым упорством не желал считаться с важнейшими донесениями разведчиков. Главная его вина перед страной в том, что он создал гибельную атмосферу, когда десятки вполне компетентных людей, располагавших неопровержимыми документальными данными, не располагали возможностью доказать главе государства масштаб опасности и не располагали правами для того, чтобы принять достаточные меры к её предотвращению.
[1] Карпов В.В. Генералиссимус. Москва, «Вече», 2010, с. 128-140
[2] Симонов К. Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Сталине М., Издательство «Правда», 1990 с. 303-331
[3] Симонов К. Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Сталине Москва, издательство «Правда» 1990, с. 332-352.
[4] Симонов К. Глазами человека моего поколения М., «Правда», 1990 с. 353-388.
[5] А.М. Василевский Полководец Жуков (Из книги А.М. Василевского «Дело всей жизни»)
[6] Из книги И.С. Конева «Записки командующего фронтом»
[7] Жуков Г.К. Воспоминания и размышления Москва «Олма-Пресс» 2002. 13-е издание исправленное и дополненное по рукописи автора
[8] Хоробрых А.М. Главный маршал авиации А.А. Новиков Москва, Военное издательство, 1989.
[9] Из неопубликованных воспоминаний А.А. Новикова.
[10] 50 лет Вооружённых Сил СССР М., 1968, с. 483
[11]Шавров В.Б. История конструкций самолётов в СССР 1938-1950 гг М. 1978 с. 350
[12] Из неопубликованных воспоминаний А.А. Новикова
[13] Шахурин А.И. Крылья победы. Воспоминания Издательство политической литературы 1990
[14] Устинов Д.Ф. Во имя победы Москва, Военное издательство, 1988
[15] Владимир Дайнес «Рокоссовский Гений манёвра» Москва, «Яуза» «Эксмо», 2008
[16] Дайнес В. «Рокоссовский Гений манёвра» М., «Яуза» «Эксмо», 2008
[17] Кузнецов Н.Г. Накануне, М., АСТ 2003.
[18] Адмирал Ю.А. Пантелеев, проводивший по указанию свыше вместе с начальником гидрографии ВМФ Я.Я. Лапушкиным экспертизу, отмечал, что ими был составлен акт по результатам экспертизы, в котором доказывалось, что торпеды и карты были несекретные. Этот акт был передан начальнику Главного морского штаба для доклада Сталину. Однако к делу его не приобщили.
[19] (из энциклопедии ВОВ 1941-1945 стр.389) Кулаков Николай Михайлович (1908-76), вице-адмирал (1945), Герой Советского Союза (1965). Чл. КПСС с 1927. В ВМФ с 1928. Окончил Военно-политич. акад. (1936). В ходе войны чл. Воен. совета Черноморского флота (1940-43). Один из руководителей обороны Севастополя 1941-42. С 1944 нач. Высш. воен-полит. курсов ВМФ, в 1946-49 чл. Воен. совета и зам. главноком. ВМФ.по политич. части (именно в это время был суд над 4 адмиралами. – А.М), в 1950-53 чл. Воен совета ЧФ, затем до 1971 на политич. работе в ВМФ.
[20]стр. 200 Галлер Лев Михайлович (1883-1950), адмирал (1940). Чл. КПСС с 1932. В Сов. ВМФ с 1918. В Гражд. войну на Балт. флоте ком.крейсера, линкора, нач. штаба отряда кораблей, нач. минной дивизии. Окончил курсы высшего начсостава при Воен.-мор. акад. (1926). В 1932 -36 команд. Балт. флотом, затем нач. мор.сил НКО СССР, нач. Гл. мор.штаба. С 1940 зам. наркома ВМФ по кораблестроению и вооружению. В ходе войны участвовал в разработке и реализации планов строительства и вооружения. ВМФ. В 1947-48 нач. Воен-мор. академии кораблестроения и вооружения им. А.Н. Крылова. Награждён 3 орд. Ленина, 4 орд. Крас. Знамени, 2 орд. Ушакова 1-й степ. , орд. Кр. Звезды.
[21] Симонов К. Глазами человека моего поколения. М., «Правда», 1990.
[22] Макартур — главнокомандующий вооруженными силами США на Дальнем Востоке.