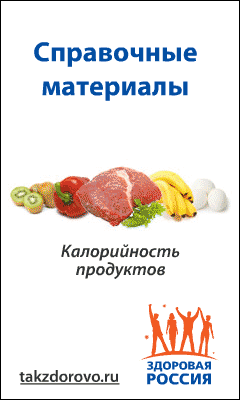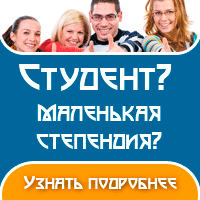Россия из века в век Глава 4
Глава четвертая Война
Начало войны[1]
В ночь на 22 июня 1941 года всем работникам Генштаба и Наркомата обороны было приказано оставаться на своих местах.
В это время у меня и наркома обороны шли непрерывные переговоры с командующими округами и начальниками штабов, которые докладывали нам об усиливавшемся шуме по ту сторону границы. Эти сведения они получали от пограничников и передовых частей прикрытия. Примерно в 24 часа 21 июня командующий КОВО Кирпонос, находившийся на своём КП в Тернополе, доложил по ВЧ, что кроме перебежчика, о котором сообщил генерал Пуркаев, в наших частях появился ещё один немецкий солдат – 222-го пехотного полка 74-й пехотной дивизии. Он переплыл речку, явился к пограничникам и сообщил, что в 4 часа немецкие войска перейдут в наступление.
Всё говорило о том, что немецкие войска выдвигаются ближе к границе. Об этом мы доложили в 00.30 минут ночи Сталину. Он спросил, передана ли директива в округа. Я ответил утвердительно.
После смерти Сталина появились версии о том, что некоторые командующие и их штабы в ночь на 22 июня, ничего не подозревая, мирно спали или беззаботно веселились. Это не соответствует действительности. Последняя мирная ночь была совершенно иной.
Все командующие округов, кроме Д.Г. Павлова командующего войсками ЗапОВО, находились на своих местах.
В 3 часа 07 минут мне позвонил по ВЧ командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский и сообщил: «Система ВНОС флота докладывает о подходе со стороны моря большого количества неизвестных самолётов: флот находится в полной боевой готовности. Прошу указаний»
Я спросил адмирала. – Ваше решение?
— Решение одно: встретить самолёты огнём ПВО флота.
Переговорив с Тимошенко, я ответил адмиралу Ф.С. Октябрьскому:
— Действуйте и доложите своему наркому.
В течение 30 минут начальник штаба Западного округа генерал В.Е. Климовскихй доложил о налёте немецкой авиации на города Белоруссии. Минуты через три начальник штаба КОВО генерал Пуркаев доложил о налёте авиации на города Украины.
В 3 часа 40 минут позвонил командующий ПрибОВО генерал Ф.И. Кузнецов о налёте вражеской авиации на Каунас и другие города.
Нарком приказал мне звонить Сталину. Звоню непрерывно, к телефону никто не подходит. Наконец слышу сонный голос генерала Власика (начальника управления охраны).
— Кто говорит?
— Начальник Генштаба Жуков. Прошу срочно соединить меня с товарищем Сталиным.
— Что? Сейчас? – изумился Власик. – Товарищ Сталин спит.
— Будите немедля: немцы бомбят наши города, началась война.
Несколько мгновений длится молчание. Наконец в трубке глухо ответили: — Подождите.
Минуты через три к аппарату подошёл Сталин. Я доложил обстановку и просил разрешения начать ответные боевые действия.
Сталин молчит. Слышу лишь его тяжёлое дыхание. Наконец, как бы очнувшись, Сталин спросил: — Где нарком?
— Говорит по ВЧ с Киевским округом.
— Приезжайте с Тимошенко в Кремль. Скажите Поскрёбышеву, чтобы он вызвал всех членов Политбюро.
В 4 часа я вновь разговаривал с Октябрьским. Он спокойным тоном доложил: — Вражеский налёт отбит. Попытка удара по нашим кораблям сорвана. Но в городе есть разрушения.
Я хотел бы отметить, что ЧФ во главе с адмиралом Октябрьским был одним из первых наших объединений, организованно встречавших вражеское нападение.
В 4 часа 10 минут Западный и Прибалтийский особые округа доложили о начале боевых действий немецких войск на сухопутных участках округов.
В 4 часа 30 минут мы с Тимошенко приехали в Кремль. Все вызванные члены Политбюро были уже в сборе. Меня и наркома пригласили в кабинет. Сталин был бледен и сидел за столом, держа в руках не набитую табаком трубку. Мы доложили обстановку. Сталин недоумевающе сказал:
— Не провокация ли это немецких генералов?
— Немцы бомбят наши города на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Какая же это провокация… — ответил Тимошенко.
— Если нужно организовать провокацию, — сказал Сталин, — то немецкие генералы бомбят и свои города.
И подумав немного, продолжал: — Гитлер наверняка не знает об этом.
— Надо срочно позвонить в германское посольство, — обратился он к Молотову. В посольстве ответили, что посол граф фон Шуленбург просит принять его для срочного сообщения.
Тем временем первый заместитель начальника генштаба Ватутин передал, что сухопутные войска немцев после сильного артиллерийского огня на ряде участков северо-западного и западного направлений перешли в наступление. Мы тут же просили Сталина дать войскам приказ немедленно организовать ответные действия и нанести контрудары по противнику.
— Подождём возвращения Молотова, — ответил он. Через некоторое время в кабинет быстро вошёл Молотов: — Германское правительство объявило нам войну. Сталин молча опустился на стул и глубоко задумался. Наступила длительная пауза. Я рискнул нарушить затянувшееся молчание и предложил немедленно обрушиться всеми имеющимися в приграничных округах силами на прорвавшиеся части противника и задержать их дальнейшее продвижение.
— Не задержать, а уничтожить, — уточнил Тимошенко.
— Давайте директиву, — сказал Сталин, — но чтобы наши войска за исключением авиации, нигде пока не нарушали немецкую границу.
Трудно было понять Сталина. Видимо, он всё ещё надеялся как-то избежать войны. Но она уже стала фактом.
Вторжение развивалось на всех стратегических направлениях.
Говорят, что в первую неделю войны Сталин якобы так растерялся, что не мог выступить по радио с речью и поручил своё выступление Молотову. Это суждение не соответствует действительности.Конечно, в первые часы Сталин был растерян. Но вскоре он вошёл в норму и работал с большой энергией, проявляя излишнюю нервозность, нередко выводившую нас из рабочего состояния.
В 7 часов 15 минут 22 июня директива № 2 наркома обороны была передана в округа. Но по соотношению сил и сложившейся обстановке она оказалась нереальной, а потому не была проведена в жизнь. Заброшенные ранее немцами на нашу территорию диверсионные группы в ряде мест разрушили проволочную связь. Они убивали делегатов связи, нападали на командиров. Генштаб, в свою очередь, не мог добиться от штабов округов и войск точных сведений, и, естественно, это не могло не поставить на какой-то момент Главное Командование и Генштаб в затруднительное положение.
Тимошенко позвонил Сталину и просил разрешение приехать в Кремль, чтобы доложить проект Указа Президиума Верховного Совета (ВС) СССР о проведении мобилизации и образовании Ставки Главного Командования, а также ряд других вопросов. Сталин ответил, что он занят на заседании Политбюро и может принять его только в 9 часов.
Короткий путь от Наркомата до Кремля автомашины наркома и моя покрыли на предельно большой скорости. Со мной был Ватутин, у которого находилась карта с обстановкой стратегического фронта.
Нас встретил Поскрёбышев и сразу проводил в кабинет Сталина. Члены Политбюро уже находились там. Обстановка была напряжённой. Все молчали.
Сталин молча ходил по кабинету с нераскуренной трубкой, зажатой в руке.
— Ну давайте, что там у вас? – сказал он.
Тимошенко доложил о проекте создания Ставки Главного Командования (СГК). Сталин посмотрел проект, но решения не принял и, положив бумагу на стол, коротко бросил:
— Обсудим на Политбюро.
Осведомившись об обстановке, Сталин сказал:
— В 12 часов по радио будет выступать Молотов.
Прочитав проект Указа о проведении мобилизации, и частично сократив её размеры, намеченные Генштабом, Сталин передал Указ Поскрёбышеву для утверждения в Президиуме ВС. Этим Указом с 23 июня объявлялась мобилизация военнообязанных 1905-1918 годов рождения на территории 14-ти, то есть почти всех ВО, за исключением Среднеазиатского, Забайкальского и Дальневосточного, а также вводилось военное положение в европейской части страны.
Здесь все функции органов государственной власти в отношении обороны, сохранения общественного порядка и обеспечения государственной безопасности приходили к военным властям. Им предоставлялось право привлекать население и все средства транспорта для оборонных работ и охраны важнейших военных и народнохозяйственных объектов.
В тот же день Прибалтийский, Западный и Киевский особые военные округа были преобразованы соответственно в Северо-Западный, Западный и Юго-Западный фронты.
Примерно в 13 часов мне позвонил Сталин и сказал:
— Наши командующие фронтами не имеют достаточного опыта в руководстве боевыми действиями войск и, видимо, несколько растерялись. Политбюро решило послать вас на Юго-Западный фронт в качестве представителя Ставки ГК. На Западный фронт пошлём Шапошникова и Кулика. Я их вызывал к себе и дал соответствующие указания. Вам надо вылететь немедленно в Киев и оттуда вместе с Хрущёвым выехать в штаб фронта в Тернополь.
Я спросил:
— А кто будет осуществлять руководство Генштабом в такой сложной обстановке?
Сталин ответил:
— Оставьте за себя Ватутина.
Потом несколько раздражённо добавил:
— Не теряйте времени, мы тут как-нибудь обойдёмся.
… На командный пункт (КП) Юго-Западного фронта в Тернополе прибыли поздно вечером 22 июня, и я тут же переговорил по ВЧ с Ватутиным. Николай Фёдорович сообщил, что авиация Западного фронта понесла очень большие потери. Генштаб и Нарком не могут связаться с командующими фронтами Кузнецовым и Павловым, которые, не доложив наркому, уехали куда-то в войска.
Затем генерал Ватутин сказал, что Сталин одобрил проект директивы № 3 наркома и приказал поставить мою подпись.
— Что это за директива? – спросил я.
— Директива предусматривает переход наших войск к контрнаступательным действиям с задачей разгрома противника на главнейших направлениях, притом с выходом на территорию противника.
— Но мы ещё точно не знаем, где и какими силами противник наносит свои удары, — возразил я. – Не лучше ли до утра разобраться в том, что происходит на фронте, и уж тогда принять нужное решение.
— Я разделяю вашу точку зрения, но это дело решённое.
— Хорошо, — сказал я, — ставьте мою подпись.
24 июня в наступление перешёл 8-й механизированный корпус Д.И. Рябышева в направлении на Берестечко, ….15-й механизированный корпус под командованием генерала И.И. Карпезо наступал восточнее Радехова.
Вот что записал в тот день в служебном дневнике начальник генштаба сухопутных войск германской армии генерал-полковник Гальдер:
«Противник всё время подтягивает из глубины новые, свежие силы против нашего танкового клина… Как и ожидалось, значительными силами танков он перешёл в наступление на Южный фланг 1-й танковой группы»
Наша историческая литература как-то лишь в общих чертах касается этого величайшего приграничного сражения начального периода войны с фашистской Германией. Ведь в результате именно этих действий наших войск на Украине был сорван в самом начале вражеский план стремительного прорыва к Киеву.
Из переговоров в те дни по ВЧ с генералом Ватутиным мне было известно, что на Западном и Северо-Западном фронтах командующие и штабы пока ещё не имеют устойчивой связи с командующими армиями…. Мне стало ясно, что на этих фронтах сложилась почти катастрофическая обстановка.
Николай Фёдорович говорил, что Сталин нервничает и склонен винить во всём командование Западного фронта, его штаб упрекает в бездеятельности маршала Кулика.
В последние годы принято обвинять Сталина в том, что он не дал указаний о подтягивании основных сил наших войск из глубины страны для встречи и отражения удара врага.
Не берусь утверждать, что могло бы получиться в таком случае – хуже или лучше. Вполне возможно, что наши войска, будучи недостаточно обеспеченными противотанковыми и противовоздушными средствами обороны, обладая меньшей подвижностью, чем войска противника, не выдержали бы рассекающих мощных ударов бронетанковых сил врага и могли оказаться в таком же тяжёлом положении, в каком оказались некоторые армии приграничных округов. И ещё неизвестно, как тогда в последующем сложилась бы обстановка под Москвой, Ленинградом и на юге страны.
К этому следует добавить, что гитлеровское командование серьёзно рассчитывало на то, что мы подтянем ближе к государственной границе главные силы фронтов, где противник предполагал их окружить и уничтожить. Это была главная цель плана «Барбаросса» в начале войны.(Выделено мною – Г.Ж)
Рано утром 26 июня генерал Ватутин сообщил мне на командный пункт в Тернополь:
— Дела в Прибалтике и Белоруссии сложились крайне неблагоприятно, 8-я армия Северо-Западного фронта отходит на Ригу.
11-я армия пробивается в направлении Полоцка; для усиления фронта перебрасывается из Московского военного округа 21-й мехкорпус.
Товарищ Сталин приказал сформировать Резервный фронт. В состав Резервного фронта включаются 19, 20, 21 и 22-я армии.
Основные причины поражения наших войск в начале войны состояли в том, что война застала наши ВС в стадии их реорганизации и перевооружения более совершенным оружием: в том, что наши приграничные войска своевременно не были доведены до штатов военного времени, не были приведены в полную боевую готовность и не развёрнуты по всем правилам оперативного искусства для ведения активной стратегической обороны. Все эти недостатки ещё больше увеличили преимущества противника, который и без того превосходил наши войска в количественном и качественном отношении, а так как стратегическая инициатива находилась у противника – все эти факторы сыграли решающую роль в начале войны.
Сейчас мне хотелось бы заметить, что ошибки, допущенные руководством, не снимают ответственности с военного командования всех степеней за оплошности и просчёты.
Каждый военачальник, допустивший неправильные действия не имеет морального права уходить от ответственности и ссылаться на вышестоящих. Войска и их командиры в любой обстановке в соответствии с уставом должны всегда быть готовыми выполнить боевую задачу. Однако накануне войны, даже в ночь на 22 июня, в некоторых случаях командиры соединений и объединений, входивших в эшелон прикрытия границы, до самого последнего момента ждали указания свыше и не держали части в надлежащей боевой готовности, хотя по ту сторону границы был уже слышен шум моторов и лязг гусениц.
Итак, главное командование немецких войск сразу ввело в действие 153 дивизии, укомплектованные по штатам военного времени, из них:
29 дивизий – против Прибалтийского,
50 дивизий (из них 15 танковых) против Западного особого,
33 дивизии (из них 9 танковых и моторизованных) против КОВО,
12 дивизий против Одесского военного округа и до 54 дивизий находилось в Финляндии. 24 дивизии составляли резерв и продвигались на основных стратегических направлениях.
Эти данные нам стали известны в ходе начального периода войны, главным образом из опроса пленных и из трофейных документов. Накануне войны Сталин, нарком обороны и Генштаб, по данным разведки, считали, что гитлеровское командование должно будет держать на Западе и в оккупированных странах не менее 50% своих войск и ВВС.
На самом деле к моменту начала войны с Советским Союзом гитлеровское командование оставило там меньше одной трети, да и то второстепенных дивизий, а вскоре и эту цифру сократило.
В составе групп армий «Север», «Центр» и «Юг» противник ввёл в действие около 4300 танков и штурмовых орудий. Сухопутные войска поддерживались 4980 боевыми самолётами. Войска вторжения превосходили нашу артиллерию почти в два раза, артиллерийская тяга в основном была моторизована.
Внезапный переход в наступление в таких масштабах, притом сразу всеми имеющимися и заранее развёрнутыми на важнейших стратегических направлениях силами, то есть характер самого удара, во всём объёме нами не предполагался.
Ни нарком, ни я, ни мои предшественники Шапошников, Мерецков и руководящий состав Генштаба не рассчитывали, что противник сосредоточит такую массу бронетанковых и моторизованных войск и бросит их в первый же день мощными компактными группировками на всех стратегических направлениях с целью нанесения сокрушительных рассекающих ударов.
Далее. Накануне войны 3,4 и 10-я армии Западного ВО были расположены в белостокском выступе, вогнутом в сторону противника… Такая оперативная конфигурация войск создавала угрозу глубокого охвата и окружения их со стороны Гродно и Бреста путём удара под фланги.
Это ошибочное расположение войск, допущенное в 1940 году, не было устранено вплоть до самой войны.
Между тем дислокация войск фронта на Гродненско-Сувалковском и брестском направлениях была недостаточно глубокой и мощной, чтобы не допустить здесь прорыва и охвата белостокской группировки.
Следует указать и ещё на одну ошибку, допущенную Главным Командованием и Генштабом, о которой я уже частично говорил. Речь идёт о контрнаступлении согласно директивы № 3.
26 июня на командный пункт Юго-Западного фронта в Тернополь мне позвонил И.В. Сталин и сказал:
— На Западном фронте сложилось тяжёлая обстановка. Противник подошёл к Минску. Непонятно, что происходит с Павловым. Маршал Кулик неизвестно где. Маршал Шапошников заболел. Можете вы немедленно вылететь в Москву?
— Сейчас переговорю с товарищами Кирпоносовым и Пуркаевым о дальнейших действиях и выеду на аэродром.
Поздно вечером 26 июня я прилетел в Москву и прямо с аэродрома — к Сталину. В кабинете Сталина стояли навытяжку Тимошенко и мой первый заместитель Ватутин. Оба бледные, осунувшиеся, с покрасневшими от бессонницы глазами. Сталин был не в лучшем состоянии.
Поздоровавшись кивком, Сталин сказал:
— Подумайте вместе и скажите, что можно сделать в сложившейся обстановке? – И бросил на стол карту Западного фронта.
— Нам нужно минут сорок, чтобы разобраться, — сказал я
— Хорошо, через сорок минут доложите.
Обсудив положение, мы ничего лучшего не могли предложить, как немедленно занять оборону на рубеже реки Западная Двина-Полоцк-Витебск- Орша-Могилёв-Мозырь и для обороны использовать 13, 19, 20, 21-ю и 22-ю армии. Кроме того, следовало срочно приступить к подготовке обороны на тыловом рубеже по линии озера Селижарово-Смоленск-Рославль-Гомель силами 24-й и 28-й армий резерва Ставки. Помимо этого, мы предлагали срочно сформировать ещё 2-3 армии за счёт дивизий Московского ополчения. Все эти предложения Сталиным были утверждены и тотчас же оформлены соответствующими распоряжениями. 27 июня в 10 часов 05 минут мною по «Бодо» был передан приказ Ставки Главного Командования начальнику штаба Западного фронта генералу Климовских следующего содержания.
29 июня Сталин дважды приезжал в Наркомат обороны, в Ставку Главного Командования, и оба раза крайне резко реагировал на сложившуюся обстановку на западном стратегическом направлении.
И как он ни обвинял Павлова, всё же нам казалось, что где-то наедине с собой он чувствовал во всём этом и свои предвоенные просчёты и ошибки.
В 6 часов 45 минут 30 июня у меня, по указанию наркома Тимошенко, состоялся разговор по «Бодо» с командующим фронтом генералом армии Д.Г. Павловым, из которого стало видно, что сам командующий плохо знал обстановку.
Положение не улучшилось. 30 июня мне в Генштаб позвонил Сталин и приказал вызвать Командующего Западным фронтом генерала армии Павлова.
На следующий день генерал Павлов прибыл. Я его едва узнал. Так он изменился за восемь дней войны. В тот же день он был отстранён от командования фронтом и вскоре предан суду.
Вместе с ним по предложению Военного Совета Западного фронта судили начштаба генерала Климовских, начальника войск связи генерала Григорьева, командующего артиллерией генерала Клича и других генералов штаба фронта.
Командующим Западным фронтом был назначен нарком Тимошенко, генерал-лейтенант А.И. Ерёменко – его заместителем. В состав фронта с целью усиления включались армии Резервного фронта. На Северо-Западном фронте обстановка продолжала резко ухудшаться.
30 июня начальником штаба Северо-Западного фронта был назначен генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин. Первым заместителем начальника Генштаба был назначен А.М. Василевский.
За первые 18 дней войны Северо-Западный фронт потерял Литву, Латвию и часть территории РСФСР, вследствие чего создалась угроза выхода противника через Лугу к Ленинграду, подступы к которому были ещё недостаточно укреплены и слабо прикрыты войсками.
На Южном фронте с территории Румынии перешли в наступление немецко-румынские войска, нанося главный удар в направлении Могилёв-Подольский-Жмеринка.
На Северном фронте, где наступательные действия начались 29 июня, бои имели местное значение и особого влияния на общую стратегическую обстановку не оказывали.
Наши военно-морские силы Балтийского флота в связи с неудачными действиями Северо-Западного фронта, быстро потерявшего Литву, Латвию, а затем и часть Эстонии, оказались в тяжёлом положении.
Конец июля и почти весь август продолжалась борьба за Таллин и главную морскую базу флота.
В конце августа вследствие истощения наших сил и усиления вражеских войск Ставка Главного Командования приняла решение вывести корабли флота из морской базы в Кронштадт и в Ленинградскую гавань, а Таллин оставить.
Я сознательно не останавливаюсь подробно на боевых действиях ВМФ, считая, что это лучше и интереснее меня сделают адмиралы и офицеры флота.
Однако следует сказать, что взаимодействие приморских военных фронтов с ВМФ могло бы дать большой эффект, если бы в предвоенные годы были более зрело решены вопросы береговой обороны и обороны военно-морских баз. К сожалению, за эти проблемы Главное военно-морское командование, нарком обороны и Генштаб взялись с большим опозданием, и к началу войны они полностью решены не были.
Прошло почти три недели с тех пор, как Германия вторглась своими вооружёнными силами в пределы нашей страны. Уже за это время гитлеровские войска потеряли около 100 тысяч человек, свыше тысячи самолётов и около половины танков, участвовавших в наступлении.
За это время мы понесли большие потери. 28 дивизий, оказавшись в окружении, не смогли выйти из него. Значительное количество личного состава этих дивизий было пленено, сохранившие свободу перешли к партизанским методам войны. Почти 70 дивизий понесли серьёзные потери и нуждались в пополнении. Особенно в тяжёлом положении оказалась наша авиация.
Советские Вооружённые Силы, и особенно войска Западного фронта, понесли крупные потери. Соотношение сил и средств на советско-германском фронте ещё более изменилось в пользу врага.
Противник продвинулся вглубь страны на 500-600 километров и овладел важными экономическими районами и стратегическими объектами.
Гитлеровцы, явно переоценивая успех начального периода войны, строили далеко идущие человеконенавистнические планы. Однако в эти тяжёлые дни с особой силой проявилось морально-политическое единство советских людей.
Опираясь на производственные резервы, заложенные до войны, правительство установило на 1942 год план форсированного развития районов Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. В переводе всего народного хозяйства на военные рельсы этим районам суждено было потом сыграть выдающуюся роль.
Необходимо было предпринять нечто чрезвычайное, чтобы поднять с места уцелевшие заводы, передвинуть их на восток, объединить с действующими там предприятиями и, опираясь на эту часть страны, навалиться на врага, остановить его, опрокинуть.
Развернулась работа, по масштабам и характеру своему невиданная в истории. 24 июня Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР был создан Совет по эвакуации, председателем которого был назначен Н.М. Шверник, а заместителями – А.Н. Косыгин и М.Г. Первухин. В наркоматах были образованы бюро и комитеты по эвакуации.
Более полутора тысяч предприятий, преимущественно крупных, военных, было эвакуировано в кратчайшие сроки – с июля по ноябрь 1941 года – и быстро вновь возвращено к жизни.
Приверженцы капиталистического строя не могли понять, как нашему правительству удалось осуществить в столь крупных масштабах демонтаж и перебазирование крупнейших экономических комплексов.
В преимуществе социалистического строя, основанного на общественной народной собственности, и лежит ответ на загадку «русского чуда», над разрешением которой до сих пор бьются наши идеологические противники.
Недаром Геббельс в январе 1943 года заявил: «Кажется каким-то чудом, что из обширных степей России появлялись всё новые массы людей и техники, как будто какой-то великий волшебник лепил из уральской глины большевистских людей и технику в любом количестве».
Война против фашистской Германии и её союзников полностьюотвечала классовым и национальным интересам советского народа. История всех войн подтверждает, что в ней одерживает победу тот, кто сумел создать более крепкий и организованный тыл. Это положение в одинаковой мере относится как к тылу страны в широком смысле, так и к тылу вооружённых сил.
В первых рядах защитников Родины находилось и советская интеллигенция.
Деятели литературы и искусства вели большую работу по воспитанию у народа и воинов Красной Армии горячей любви к Родине и жгучей ненависти к фашистским поработителям, бесчинствовавшим на оккупированной территории нашей страны. 410 человек – членов Союза советских писателей- героически пали на фронтах.
Своей преданностью Родине и постоянной готовностью отдать за неё жизнь советские женщины изумили всё прогрессивное человечество. Думаю, не ошибусь, высказав мнение, — наши женщины своим героическим ратным и трудовым подвигом в войне с фашистской Германией заслужили памятник, равный памятнику Неизвестному солдату, воздвигнутому в Москве у Кремлёвской стены.
Народная трудовая эпопея по эвакуации и восстановлению производственных мощностей в годы войны, проведённая в связи с этим колоссальная организаторская работа партии по размаху и значению своему для судьбы нашей Родины равны величайшим битвам Второй мировой войны.
Вступив на нашу землю, немецко-фашистские оккупанты вскоре почувствовали не только ненависть советских людей, им были нанесены ощутимые удары теми, кто ушёл в подполье.
В те дни у советского командования не было иного выхода, кроме как перейти к обороне на всём стратегическом фронте. Ни сил, ни средств для ведения наступательных, особенно крупных, операций не имелось. Нужно было создать большие стратегические резервы войск,хорошо вооружив их, чтобы превосходящей силой вырвать инициативу у противника и перейти к наступательным действиям, начать изгнание вражеских сил из Советского Союза.
Всё это было сделано, но позже – в конце 1942-начале 1943 года.
И всё же, несмотря на ряд ошибок и порой недостаточную сопротивляемость самих войск, стратегическая оборона была в основном организована.
Как известно, во втором и третьем периодах войны, когда гитлеровцам пришлось испытать горечь поражений на советском фронте, они не смогли справиться с построением такого рода обороны, что наряду с другими фронтами и привело их к катастрофе.
Накануне войны в Красной Армии и ВМФ было свыше 563тысяч коммунистов, более трети всего личного состава армии составляли комсомольцы[2]. За первые шесть месяцев войны на фронт пришли 1 миллион 100 тысяч коммунистов.
3 июля в своём выступлении по радио Сталин от имени ЦК партии объяснил сложившуюся на фронтах обстановку и призвал советский народ незамедлительно перестроить всю жизнедеятельность и экономику страны соответственно требованиям войны с сильным, коварным и жестоким врагом.
Сталин призвал партию и народ подняться на священную борьбу с врагом, покончить с беспечностью и резко повысить бдительность.
Значительные потери в войсках и в материальной части вызвали необходимость провести ряд организационных мер, чтобы укрепить управление войсками и боеспособность частей и соединений. Временно была расформирована корпусная система управления, а её освободившиеся кадры и средства связи были использованы для укрепления армейского и дивизионного звена. В армии вместо девяти-двенадцати дивизий было решено иметь шесть.
Вдвое была сокращена численность самолётов в полках и дивизиях ВВС. Широко развернулись формирование резервов Главного Командования.
Слабость нашей оперативно-тактической обороны состояла главным образом в том, что из-за отсутствия сил и средств было невозможно создать её глубокое эшелонирование. Оборона частей и соединений, по существу, носила линейный характер.
В таких условиях развернулось ожесточённое сражение за Смоленск. 16 июля 1941 года Смоленск был занят вражескими войсками, 16-я и 20-я армии оказались окружёнными в северной части города. Однако они не сложили оружия и сопротивлялись ещё почти десять дней, задержав тем самым наступление немцев на московском направлении.
Падение Смоленска было тяжело воспринято ГКО и особенно Сталиным. Он был вне себя. Мы, руководящие военные работники, испытали тогда всю тяжесть сталинского гнева. Приходилось напрягать волю, чтобы смолчать и не возмутиться против несправедливых его упрёков.
Но обстановка требовала от нас пренебречь своим «я» и вести себя так, чтобы помочь Западному фронту преодолеть тяжёлую обстановку.
Сталин не разрешил Совинформбюро до особого его распоряжения оповестить страну о сдаче Смоленска и потребовал вернуть город любой ценой.
Вернуть Смоленск нам так и не удалось. О сдаче города было объявлено только тогда, когда нашим войскам удалось выйти из окружения и соединиться с главными силами фронта. Это было, если мне не изменяет память, в первой половине августа 1941 года.
Ставка срочно создала новый Резервный фронт обороны, развернув его в тылу Западного фронта.
Смоленское сражение занимает важное место в операциях лета 1941 года. Хотя разгромить противника, как это планировала Ставка, не удалось, но его ударные группировки были сильно измотаны и ослаблены. По признанию немецких генералов, в Смоленском сражении гитлеровцы потеряли 250 тысяч солдат и офицеров.
30 июля гитлеровское командование отдало приказ группе армий «Центр» перейти к обороне. Советские войска закрепились на рубеже Великие Луки-Ярцево-Кричёв—Жлобин.
Задержка вражеского наступления в районе Смоленска явилась крупным стратегическим успехом. В результате его мы выиграли время для подготовки стратегических резервов и проведения оборонительных мероприятий на московском направлении.
Под Смоленском родилась Советская гвардия. Здесь 14 июля 1941 года в боях под Оршей батарея капитана И.А. Флёрова впервые применила установки реактивных миномётов – легендарные «катюши». Смоленское сражение длилось почти месяц. Обе стороны понесли большие потери в людях и боевой технике.
Надо отдать должное маршалу Тимошенко. В те трудные дни он твёрдо руководил войсками, мобилизуя все силы на отражение натиска врага и организацию обороны.
Когда войска фронта закрепились на новом рубеже, Тимошенко был вызван в Ставку.
В конце июля мне позвонил Поскрёбышев и спросил:
— Где находится Тимошенко?
— Маршал Тимошенко в Генштабе, мы обсуждаем обстановку на фронте.
— Товарищ Сталин приказал вам и Тимошенко немедленно прибыть к нему на дачу, — сказал Поскрёбышев.
Когда мы вошли в комнату, за столом сидели почти все члены Политбюро. Сталин, в старой куртке, стоял посередине комнаты и держал погасшую трубку в руках – верный признак плохого настроения.
— Вот что, — сказал Сталин. – Политбюро обсудило деятельность Тимошенко на посту командующего Западным фронтом и считает, что он не справился с возложенной на него задачей в районе Смоленска. Мы решили освободить его от обязанностей. Есть предложение на эту должность назначить Жукова. Что думаете вы? – спросил Сталин, обращаясь ко мне и к наркому.
С.К. Тимошенко молчал. Да и что, собственно, он мог ответить на это несправедливое обвинение?
— Товарищ Сталин, — сказал я, — частая смена командующих фронтами тяжело отражается на ходе операций. Командующие, не успеввойти в курс дела, вынуждены вести тяжёлые сражения. В ходе Смоленского сражения маршал Тимошенко хорошо узнал войска, увидел, на что они способны. Он сделал всё, что можно было сделать на его месте, и почти на месяц задержал противника в районе Смоленска. Думаю, что никто другой больше не сделал бы.
Войска верят в Тимошенко, а это главное. Я считаю, что сейчас освобождать его от командования фронтом несправедливо и нецелесообразно.
М.И. Калинин внимательно слушавший, сказал:
— А что, пожалуй, Жуков прав.
Сталин не спеша раскурил трубку, посмотрел на других членов Политбюро и сказал:
— Может быть, согласимся с Жуковым?
— Вы правы, товарищ Сталин, раздались голоса, — Тимошенко может ещё выправить положение.
Нас отпустили, приказав Тимошенко немедленно выехать на фронт.
Когда мы возвращались обратно в Генштаб, Тимошенко сказал:
— Ты зря отговорил Сталина. Я страшно устал от его дёрганья.
— Ничего, Семён Константинович, кончим войну, тогда отдохнём, а сейчас скорее на фронт.
Этот случай был не единственным. Сталин не всегда был объективен в оценке деятельности военачальников. Я и сам это испытал. Сталин не выбирал выражений: он мог легко и незаслуженно обидеть человека, даже такого, который всеми силами стремится сделать всё, на что он способен.
На западном направлении после тяжелейших сражений в районе Смоленска бои временно стихли. Сражения не прекращались только в районе Ельни. Ельнинский выступ, захваченный немецкими войсками, был очень выгодным исходным плацдармом для удара на Москву. Немцы стремились удержать его во что бы то ни стало.
На Ленинградском направлении противник продолжал наступательные действия. Но, несмотря на успехи, ему не удалось с ходу прорваться через оборону советских войск и выйти на ближние подступы к Ленинграду.
Итоги Смоленского сражения, возросшая активность и сила сопротивления войск Северного, Северо-Западного фронтов, Балтийского флота и авиации знаменовали собой серьёзную брешь в плане «Барбаросса».
Захват Украины имел особенно важное значение для немцев. Гитлеровцы стремились быстрее захватить Украину, чтобы лишить Советский Союз крупнейшей промышленной и сельскохозяйственной базы и одновременно подкрепить свою экономику «криворожской рудой», донецким углём, никопольским марганцем и украинским хлебом.
Со стратегической точки зрения овладение Украиной обеспечивало поддержку с юга центральной группировке немецких войск, перед которой по-прежнему стояла главнейшая задача – захват Москвы.
Ставка Верховного Главнокомандования
Ставка Главного командования была создана 23 июня 1941 года. Её состав несколько отличался от проекта, предложенного Наркоматом обороны. В неё вошли: нарком обороны Тимошенко (председатель), начальник Генштаба Жуков, Сталин, Молотов, Ворошилов, Будённый, Н.Г. Кузнецов.
На протяжении всей войны Ставка находилась в Москве. Это имело большое моральное значение. В связи с угрозой вражеских ударов с воздуха в начале июля из Кремля она была переведена в район Кировских ворот в небольшой особняк с надёжным рабочим помещением и связью, а через месяц поблизости, на перроне станции «Кировская», расположились и операторы Генштаба – рабочий орган Ставки.
30 июня 1941 года по образцу Ленинского Совета Рабочей и Крестьянской обороны в период иностранной военной интервенции и гражданской войны по решению Политбюро ЦК ВКП(б) был создан чрезвычайный орган – Государственный Комитет Обороны (ГКО) во главе с И.В. Сталиным.
ГКО стал авторитетным органом руководства обороной страны, сосредоточившим в своих руках всю полноту власти. Гражданские, партийные, советские организации были обязаны выполнять все его постановления и распоряжения. Для контроля за их исполнением в краях и областях, военно-промышленных наркоматах, на главнейших предприятиях и стройках ГКО имел своих представителей.
На заседаниях ГКО, которые проходили в любое время суток, как правило, в Кремле или на даче Сталина, обсуждались и решались важнейшие вопросы. Планы военных действий рассматривались Политбюро ЦК партии и ГКО.
Всего за время войны: ГКО принял около десяти тысяч решений и постановлений военного и хозяйственного характера.
10 июля 1941 года в целях улучшения руководства вооружёнными силами, решением ГКО Ставка Главного Командования была преобразована в Ставку Верховного Командования, а 8 августа её преобразовали в Ставку Верховного Главнокомандования[3] (СВГ).
С тех пор и до конца войны Сталин являлся Верховным Главнокомандующим.
С образованием ГКО и созданием СВГ, во главе которых находилось одно и то же лицо — Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) и Председатель Совета Народных комиссаров, было завершено создание структуры государственного и военного руководства войной.
Теперь я начал работать непосредственно с И.В. Сталиным.
Раньше мне не приходилось так близко с ним соприкасаться, и первое время я чувствовал некоторую скованность в его присутствии. К тому же сказывался мой недостаточный опыт в стратегических вопросах, и я не был уверен в точности своих прогнозов.
На первых порах Сталин разговаривал со мной мало. Чувствовалось, что он внимательно приглядывается ко мне и твёрдого мнения обо мне как начальнике Генштаба, у него пока ещё не сложилось. Но по мере того как накапливался опыт, я стал смелее и увереннее высказывать свои суждения и замечал, что Сталин начал к ним всё больше прислушиваться.
19 июля 1941 года Указом Президиума ВС СССР Сталин был назначен и народным комиссаром обороны.
Надо сказать, что с назначением Сталина Председателем ГКО, Верховным Главнокомандующим и наркомом обороны в Генштабе, центральных управлениях Наркомата обороны, Госплана СССР и в других органах правительства и народного хозяйства сразу же почувствовалось его твёрдая рука.
Каждый член ГКО получил конкретное задание и строго отвечал за выполнение планов народного хозяйства. На одного из них возлагалось ответственность за выпуск танков, на другого — артиллерийского вооружения, на третьего – самолётов, на четвёртого – снабжение боеприпасами, продовольствием и обмундированием и т.д.
Командующих родами войск Сталин лично обязал подключиться к выполнению программы производства определённой военной продукции точно в назначенное время и нужного качества.
Верховный Главнокомандующий с присущей ему энергией взялся за укрепление боеспособности противовоздушной обороны.
Он пригласил к себе группу руководящих работников ПВО и строго потребовал в двухдневный срок представить принципиальные соображения по усилению противовоздушных сил и средств, улучшению их организационной структуры и управления.
Своими советами большую и полезную помощь оказали ему командующий артиллерией КА генерал Воронов, генералы Громадин, Журавлёв, Жигарёв, Н.Д. Яковлев и другие.
Главнейшей задачей ПВО тогда было прикрытие Москвы и Ленинграда и других крупных промышленных центров, где производились танки, самолёты, артиллерийское вооружение, добывалась нефть и находились важнейшие железнодорожные коммуникации, объекты энергетики и связи.
Самая мощная группировка сил и средств ПВО была создана для обороны Москвы. В июле она уже насчитывала 585 самолётов-истребителей, 964 зенитных орудия, 166 крупнокалиберных зенитных пулемётов до 1000 прожекторов и большое количество аэростатов заграждения.
Эта организационная структура ПВО целиком себя оправдала.
В общей сложности в налётах участвовали тысячи бомбардировщиков, но лишь считанным из них (два-три процента) удалось проникнуть к городу, да и те вынуждены были сбрасывать свой смертоносный груз где попало.
Во время налётов вражеской авиации на Москву Верховный неоднократно появлялся в подземном помещении КП ПВО столицы и лично наблюдал работу по отражению воздушных сил противника. Здесь спокойно и чётко руководил генерал Д.А. Журавлёв. После налёта Сталин обычно задерживался и беседовал с офицерами-операторами. Он расспрашивал их о том, что по их мнению, ещё должна сделать Ставка, чтобы ПВО была способна выполнять свои задачи, в первую очередь для обороны Москвы.
Я до сих пор с большим уважением и благодарностью вспоминаю личный состав ПВО Ленинграда и Балтфлота…
Для улучшения управления фронтами 10 июля 1941 года ГКО образовал три Главных Командования войск направлений:
— Северо-Западное (главнокомандующий – маршал Ворошилов, член Военного совета Жданов, начальник штаба-генерал М.В. Захаров);
— Западное (главнокомандующий – маршал Тимошенко, член Военного совета Булганин, начальник штаба – генерал Маландин);
— Юго-Западное (главнокомандующий – маршал Будённый, член Военного совета Хрущёв (с 5 августа 1941 года), начальник штаба – А.П. Покровский).
По существовавшей тогда практике главкомы направлений не имели в своём распоряжении резервов войск и материальных средств, чтобы влиять на ход военных действий.
Они не могли без согласия Верховного Главнокомандующего проводить в жизнь какие-либо принципиальные решения и, таким образом, превращались в простые передаточные инстанции.
В результате в 1942 году Главные командования направлений были ликвидированы.
Начались поиски новых методов управления, которые в конечном итоге привели к возникновению эффективной формы непосредственного влияния стратегического руководства на деятельность фронтов. Так появился весьма своеобразный институт стратегического руководства – представители Ставки Верховного Главнокомандования, которые направлялись на важнейшие участки.
Представители Ставки назначались из числа наиболее подготовленных военачальников. Они во всех тонкостях знали обстановку и, как правило, являлись участниками разработки замысла и плана предстоящих операций. Ставка Верховного Главнокомандования неуклонно требовала от своих представителей руководства и полной ответственности за решение операции и наделяла для этой цели всей полнотой власти.
Кого посылала Ставка в качестве своих основных представителей в действующую армию?
Прежде всего, членов Ставки, в том числе, Ворошилова, Жукова, Тимошенко. Постоянным представителем Ставки в войсках являлся начальник Генштаба Василевский.
Кроме основных представителей Ставки в войска направлялись генералы Н.Н. Воронов, А.И. Антонов, С.М. Штеменко, Л.З. Мехлис и другие.
Лично мне за годы войны пришлось выезжать в действующую армию в качестве представителя Ставки не менее 15 раз. Так же много раз бывал на фронтах и Александр Михайлович Василевский.
От представителей Ставки Верховный требовал ежедневных докладов или донесений о ходе подготовки и проведения операций. Особо важные оценки обстановки и предложения по новым операциям, по указанию Сталина, писались от руки в одном экземпляре и доставлялись ему через Поскрёбышева.
Если по каким-либо причинам в течение суток не поступало докладов от представителей Ставки, Верховный сам звонил им по ВЧ и спрашивал: «Вам что, сегодня не о чём доложить?»
Припоминаю в этой связи один случай. Как-то в конце сентября 1942 года Верховный вызвал в Ставку из района Сталинграда меня и Г.М. Маленкова. После того, как я доложил обстановку Сталин строго спросил Маленкова:
— А почему вы, товарищ Маленков, в течение трёх недель не информировали нас о делах в районе Сталинграда?
— Товарищ Сталин, я ежедневно подписывал донесения, которые посылал вам Жуков, — ответил Маленков.
— Мы посылали вас не в качестве комиссара к Жукову, а как члена ГКО, и вы должны были нас информировать, — строго сказал Сталин.
Надобности в представителях Ставки не стало лишь тогда, когда больше чем в два раза сократился стратегический фронт борьбы и уменьшилось количество фронтовых объединений. К этому времени командующие фронтами выросли в крупных полководцев, а штабы приобрели опыт в организации и руководстве крупными операциями.
Институт представителей Ставки просуществовал почти до конца войны. Поэтому операции завершающей кампании 1945 года уже готовились и проводились без участия представителей Ставки. Руководство действиями фронтов в этих операциях – Восточно-Прусской, Висло-Одерской и в некоторых других – осуществлялось непосредственно Ставкой прямо из Москвы. Так было и в заключительном сражении войны – Берлинской операции, когда управление фронтами взял на себя лично Верховный Главнокомандующий. Только маршал Тимошенко оставался при 2-м и 4-м Украинских фронтах до конца войны.
* * *
Замыслы и планы стратегических операций и кампаний разрабатывались в рабочем аппарате Ставки – в Генштабе с участием некоторых членов Ставки. Этому предшествовала большая работа в Политбюро и ГКО. У Ставки никакого другого аппарата управления кроме Генштаба не было. В апартаментах Верховного была лишь одна комната, оборудованная аппаратурой для телеграфных переговоров Сталина с главкомами, командующими фронтами и флотами.
Отсюда велись переговоры с Военными советами, отсюда иногда давались прямые указания. Обычно все приказы и распоряжения передавались через Генштаб.
При разработке очередной операции Сталин обычно вызывал начальника Генштаба и его заместителя и кропотливо вместе с ними рассматривал оперативно-стратегическую обстановку на всём советско-германском фронте: состояние войск фронтов, данные всех видов разведки и ход подготовки резервов всех родов войск. Потом в Ставку вызывались начальник тыла Красной Армии, командующие родами войск и начальники главных управлений наркомата обороны, которым предстояло практически обеспечивать данную операцию.
Затем Верховный Главнокомандующий, его заместитель и начальник Генштаба обсуждали оперативно-стратегические возможности наших войск. Начальник Генштаба и заместитель Верховного получали задачу – продумать и рассчитать наши возможности для той или тех операций, которые намечались к проведению. Обычно для этой работы Верховный отводил нам 4-5 дней. По истечении срока принималось предварительное решение. После этого Верховный давал задание начальнику Генштаба запросить мнение Военных советов фронтов о предстоящей операции. Пока работали командование и штаб фронта в Генштабе шла большая творческая работа по планированию операции и взаимодействию фронтов. Намечались задачи органам разведки, авиации дальнего действия, партизанским силам, находившимся в тылу вражеских войск, органам военных сообщений по переброске пополнений и резервов Верховного Главнокомандования, материальных запасов.
Наконец, назначался день, когда командующие фронтами должны были прибыть в Ставку для доклада операции фронта. Обычно Верховный слушал их в присутствии начальника Генштаба, заместителя Верховного и некоторых членов ГКО.
После тщательного рассмотрения докладов Сталин утверждал планы и сроки операции с указанием, на что именно следует обратить внимание. Определялось, кто персонально направлялся представителем Ставки для координации действий фронтов и кому осуществлять контроль за материально-техническим обеспечением войск, своевременной перегруппировкой войск и резервов Верховного главнокомандования.
Решение Ставки доводились до исполнителей в виде директив, подписанных Верховным и начальником Генштаба. Иногда директивы давались за подписью Сталина и его заместителя. С 1943 года директивы ставки вместе со Сталиным подписывал Антонов, поскольку заместитель Верховного и начальник Генштаба часто находились в войсках.
Общие планы материально-технического обеспечения, как правило, предварительно разрабатывались в Генштабе с участием начальника тыла Красной Армии А.В. Хрулёва, начальника Главного артиллерийского управления (ГАУ) Н.Д. Яковлева и двух начальников главных и центральных управлений Наркомата обороны, после чего докладывались Ставке или ГКО. Те фронты, которым предстояло проводить операцию, одновременно с оперативной директивой получали указания и по вопросам материально-технического снабжения.
…Сталин в годы войны выполнял пять обязанностей. Кроме Верховного Главнокомандующего, он оставался на посту Генерального Секретаря ЦК ВКП(б), был Председателем Совета Народных Комиссаров СССР и Председателем ГКО, являлся народным комиссаром обороны.
Работал он напряжённо, по 15-16 часов в сутки. Сталин высоко ценил работу Генштаба и полностью доверял ему. Как правило, он не принимал важных решений без того, чтобы предварительно не выслушать анализа обстановки, сделанного Генштабом, и не рассмотреть его предложения.
… Надо сказать, что Ставка в процессе всей войны, за исключением некоторых моментов в первый её период, правильно руководила всеми видами разведки, которая своевременно и качественно выполняла поставленные перед ней задачи, и научилась хорошо анализировать обстановку.
… Генштаб, на который Верховное Главнокомандование опиралось во всей своей деятельности, и который всю войну работал достаточно умело, как я уже говорил, Сталиным в начале войны недооценивался.
Так, например, на второй день войны, когда на многих фронтах создалась исключительно тяжёлая обстановка в управлении войсками, начальник Генштаба был послан на Юго-Западный фронт помогать командованию организовать борьбу с прорвавшимися немецкими войсками в районе Броды, Владимир-Волынского, Дубно.
Первый заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин на 9-й день войны, когда вопросы управления войсками приобрели исключительное значение, был взят из Генштаба и без особой надобности назначен начальником штаба Северо-Западного фронта.
Нередки были случаи, когда Сталин, не ставя в известность Генштаб, давал командующим свои указания, в результате чего происходили серьёзные организационные неувязки.
Верховным Главнокомандующим был установлен твёрдый порядок, по которому Генштаб два раза в сутки докладывал ему карту положения на фронтах со всеми изменениями за истекшее время. К карте прилагалась краткая поясняющая записка начальника Генштаба.
Важным звеном в системе органов Генштаба был особый корпус офицеров Генштаба. Наряду с ответственными работниками оперативного управления, так называемым офицерами-направленцами, они выполняли огромную работу непосредственно в войсках, в том числе в районах боевых действий. Численность корпуса офицеров Генштаба позволяла обеспечить постоянными представителями Генштаба все штабы фронтов, армий, корпусов и дивизий.
Ставка Верховного Главнокомандования видела дальше и лучше, чем гитлеровское стратегическое руководство.
Поэтому, как правило, наша Ставка отчётливо представляла себе вероятные действия немецко-фашистского командования, принимала меры, чтобы разрушить его намерения и добиться своей цели.
Конечно, деятельность Сталина не могла замыкаться в рамках руководства лишь главными операциями вооружённых сил. Война требовала твёрдой руки Верховного на всём стратегическом фронте – на суше, на воде и в воздухе, а силы, действовавшие в основных операциях, нуждались в поддержке взаимодействующих с ними войск на второстепенных направлениях.
Например, при завершении Сталинградской контрнаступательной операции был подготовлен и проведён ряд наступательных операций и на других фронтах. Их целью являлось сковывание или поражение сил и средств, которые гитлеровское командование могло перебросить на участок решающей операции, где противник нёс одно поражение за другим и крайне нуждался в резервах. Так было на юге нашей страны, на Западном и Калининском фронтах в конце 1942 – начале 1943 года. Так было и при прорыве блокады Ленинграда в январе 1943 года.
Битва на Курской дуге и её развитие планировалось в течение трёх месяцев весной 1943 года. Все последующие кампании – за 2-3 месяца до начала наступления.
О хорошо подготовленных, заранее спланированных операциях Советских Вооружённых Сил дают представление события 1943 года. Тогда, после блестящей Сталинградской битвы и изгнания вражеских войск с Северного Кавказа, последовали успешные операции под Острогожском и Воронежем с выходом на Курскую дугу. Это и позволило выпрямить фронт на московском направлении, что было тогда очень важно.
В результате разгрома ударной группировки немецко-фашистских войск в битве под Курском, на успех которой гитлеровское главное командование возлагало большие надежды, мы создали для себя выгодную обстановку на всём советско-германском фронте на протяжении всех дальнейших летне-осенних операций 1943 года.
Во всех этих операциях немецкие войска понесли крупнейшие и невосполнимые потери в людях, вооружении и боевой техники, и, что самое главное, резко снизился боевой дух немецко-фашистских войск.
Несмотря на отсутствие второго фронта в Европе, фашистская Германия была поставлена советскими войсками перед лицом военной катастрофы.
Действия советских войск оказали огромное влияние на военное положение на других фронтах мировой войны. Именно благодаря победам КА наши союзники по антигитлеровской коалиции в это время успешно сумели провести операции в Сицилии и на юге Италии.
Поражение, понесённые вермахтом в летне-осенней кампании, окончательно подорвали доверие сателлитов фашистской Германии к гитлеровскому режиму. Начался развал фашистского блока.
Для Советских Вооружённых Сил создалась ещё более благоприятная стратегическая обстановка. Ставка ВГК умело использовала её для подготовки операций 1944 года.
… Возвратившись с Тегеранской конференции, Верховный Главнокомандующий сказал:
— Рузвельт дал твёрдое слово открыть широкие действия во Франции в 1944 году. Думаю, что он слово сдержит.
Как всегда в минуты хорошего настроения духа Сталин неторопливо набил трубку табаком папирос «Герцеговина флор», чмокая губами, раскурил её и, выпустив несколько клубов дыма, медленно прошёлся по ковровой дорожке кабинета.
— Ну, а если не сдержит, — продолжал он, рассуждая вслух, — у нас хватит и своих сил добить гитлеровскую Германию.
… В узком кругу лиц, собравшихся затем в кабинете Сталина, Верховный поставил вопрос о новой форме проведения кампаний 1944 года. Предварительно он запросил мнение каждого из участников. Совещание, как обычно, проходило без протоколов.
Обсуждали, где именно следовало сосредоточить силы и средства для нового поражения основных сил противника и окончательного разгрома фашистского блока. Таких районов на всём стратегическом фронте оказалось десять. После обсуждения Верховный приказал Генштабу подготовить предварительные расчёты для проведения ударов в этих десяти районах.
Верховный неустанно контролировал подготовку операций 1944 года. Он находил в себе силы и энергию всегда держать в поле зрения всестороннее обеспечение принятых решений, уделяя особое внимание танковым войскам, ВВС, артиллерии, организации партийно-политической работы на фронтах и в тылу.
Отличительная особенность операций 1944 года – мощь ударов и их внезапность в разных районах стратегического фронта. Расчёт был сделан на то, чтобы противник, маневрируя силами и средствами, везде и всюду опаздывал, чтобы он ослаблял плотность войск именно там, где был намечен наш очередной удар. Должен сказать, что предусмотрительность Ставки полностью оправдалась.
Первый удар по гитлеровским войскам был нанесён под Ленинградом и Новгородом в январе 1944 года. В результате нашей победы под Ленинградом город был полностью освобождён от фашистской блокады. Советские войска освободили Ленинградскую и часть Калининской области и вступили на землю Эстонии.
Второй удар состоялся на Правобережной Украине. Он был очень сложным и представлял собой ряд крупных наступательных операций, проведённых в основном в феврале-марте 1944 года в районе Корсунь-Шевченковского и на Южном Буге.
Тогда немецкие войска были разгромлены и отброшены за Днепр. В итоге этого удара была освобождена вся Правобережная Украина. Советские войска вышли на рубежи, выгодные для последующего глубокого наступления в юго-восточные районы Европы, на Балканы против Румынии, где господствовала пока что диктатура фашиста И. Антонеску, против хортистской Венгрии и других сил противника.
Третий удар Красная армия нанесла в апреле-мае 1944 года в районе Одессы и Крыма. От гитлеровской оккупации были освобождены Одесса, Севастополь и весь Крымский полуостров.
Четвёртый удар на Карельском перешейке и в районе Ладожского и Онежского озёр привёл к освобождению большей части Советской Карелии и предрешил выход Финляндии из войны на стороне Германии. Для немецко-фашистских войск в Заполярье складывалась теперь невыгодная обстановка.
Пятый удар был нанесён в июне-августе 1944 года по немецким войскам группы армий «Центр» в Белоруссии, прикрывавшим основные и кратчайшие пути в Германию. Разбив наголову немецкие войска под Витебском, Могилёвом и Бобруйском, наши вооружённые силы окружили и уничтожили более 20 немецких дивизий восточнее Минска. Преследуя врага, Советские войска освободили Белоруссию, значительную часть восточной Польши и большую часть Литовской ССР. Сам противник оценил эти события как катастрофу немецких войск в операции «Багратион» в Белоруссии.
Шестой удар был нанесён 1-м Украинским фронтом в районе Львова. Войска Красной Армии форсировали Вислу и образовали крупный плацдарм за Вислой, западнее Сандомира. В то же время 1-м Белорусским фронтом были созданы южнее Варшавы два плацдарма: один – в районе Мангушева, другой – в районе Пулавы. Теперь Советские фронты получили благоприятные условия для развития решающего удара – на Берлин.
Седьмой удар привёл к окружению и разгрому немецко-румынских войск в районе Кишинёва-Ясс. Он завершился ликвидацией 22 вражеских дивизий и выходом наших войск в центральные районы Румынии. В результате этого удара, принёсшего освобождение Молдавской ССР, Румыния была выведена из войны и объявила войну фашистской Германии. Вслед за тем наш 3-й Украинский фронт и силы Черноморского флота вступили в Болгарию, где 9 сентября 1944 года произошла народная революция. Болгария вступила в войну на стороне антигитлеровской коалиции.
Восьмой удар имел место осенью 1944 года в Прибалтике. Вся ЭССР и большая часть Латвийской ССР были освобождены. Остатки разгромленных немецких армий оказались прижатыми к берегу Балтийского моря в Курляндии. 19 сентября Финляндия подписала соглашение о перемирии.
Девятый удар был нанесён в октябре-декабре 1944 года между Тиссой и Дунаем в Венгрии. В результате этого удара Германия фактически лишилась своего последнего союзника — Венгрии. Красная Армия оказала непосредственную помощь Югославии в освобождении её столицы Белграда.
Десятый удар состоялся в октябре 1944 года на крайнем северном участке советско-германского фронта. Он завершился разгромом и изгнанием немецко-фашистских войск из Советского Заполярья и северо-восточной части Норвегии.
Главные силы противника в 1944 году понесли тяжелейшее поражение, а Советские войска вышли на выгодные исходные рубежи для завершающей кампании войны.
* * *
Главным же средством внезапного для противника коренного изменения оперативно-стратегической обстановки были и оставались на протяжении всей войны резервы Ставки.
Формирование и подготовка резервов были далеко не простым и не лёгким делом. Для руководства и контроля за формированием резервов, запасными и учебными частями, для подготовки маршевого пополнения было образовано в 1941 году Главное управление формирования и укомплектования войск Красной Армии (Главупрформ) во главе с армейским комиссаром 1 ранга Е.А. Щаденко. В годы гражданской войны Ефим Афанасьевич был членом Революционного военного совета Первой и Второй конных армий. Это был требовательный человек и умелый организатор. Главупрформ сосредоточил в своих руках вопросы комплектования и создания обученных резервов всех родов войск, кроме ВВС, бронетанковых войск и артиллерии, а также контроль за направлением пополнений из запасных и учебных частей фронтам действующей армии.
Вклад тыла Советских Вооружённых Сил в победу был велик и снискал глубокую благодарность советского народа. Уже в 1941 году на оккупированных территориях развернули работу 18 подпольных обкомов, более 260 окружкомов, горкомов, райкомов и других подпольных партийных органов, свыше 300 горкомов и райкомов Комсомола[4]. Если в первый год войны в руководстве партизанским движением ещё не было должной организованности и централизации, то в последующем Ставка управляла военными действиями в тылу врага уверенно и твёрдо. Это делалось через созданный при ней 30 мая 1942 года Центральный штаб партизанского движения во главе с секретарём ЦК КП(б) Белоруссии П.К. Пономаренко.
Кроме Центрального штаба, были созданы республиканские и областные штабы партизанского движения, а при штабе фронтов – отделы по связям с партизанскими силами. Война с партизанами приносила врагу большие потери, подавляла его моральное состояние, срывала перевозки и маневрирование войсками, что особенно губительно отражалось на проводимых немецким командованием операциях.
Центральный штаб партизанского движения просуществовал до конца 1943 года. Когда в начале 1944 года большая часть советской территории была освобождена, он был расформирован, и руководство партизанскими силами полностью перешло к партийным органам республик и областей.
Особенно плодотворной работа Главного политического управления Красной Армии (Главпура) стала тогда, когда во главе его в середине 1942 года встал видный деятель партии и государства, кандидат в члены Политбюро, секретарь ЦК ВКП(б) и Московского комитета партии Александр Сергеевич Щербаков. Сталин с большим уважением и доверием относился к Щербакову. Вплоть до 1945 года А.С. Щербаков был также начальником Советского информбюро.
* * *
Меня иногда спрашивают, почему к началу войны с фашистской Германией мы не в полной мере подготовились к руководству войной и управлению войсками фронтов.
Большинство командного состава оперативно-стратегического звена, в том числе и руководство Генерального штаба, теоретически понимали изменения, происшедшие в характере и способах ведения Второй мировой войны. Однако на деле они готовились вести войну по старой схеме, ошибочно считая, что большая война начнётся, как и прежде, с приграничных сражений, а затем уже только вступят в дело главные силы противника. Но война, вопреки ожиданиям, началась сразу с наступательных действий всех сухопутных и воздушных сил гитлеровской Германии.
Надо признать также, что определённую долю ответственности за недостатки в подготовке вооружённых сил к началу военных действий несут нарком обороны и ответственные работники Наркомата обороны. Как бывший начальник Генштаба и ближайший помощник наркома, не могу снять с себя вины за эти недостатки и я.
Наконец, важную роль сыграло и то обстоятельство, что Сталина до последнего момента – начала гитлеровского нападения на Советский Союз – не покидала надежда, что войну удаётся оттянуть. Это в какой-то мере связало и наркома обороны, который не решался входить к И.В. Сталину с проектом создания Ставки вплоть до весны 1941 года. В конце весны мне пришлосьещё раз, уже в настоятельной форме, просить наркома доложить Сталину о необходимости рассмотреть разработанный Генштабом проект организации Ставки Главного Командования и разрешить провести его практическую проверку на больших командно-штабных учениях. На этот раз доклад состоялся, и Сталин дал согласие провести такое учение, но подальше от границы, где-нибудь на рубеже Валдай-Орша-Гомель-р. Псёл, а затем представить ему проект организации Ставки, её функциональных обязанностей и рабочих органов. Рекогносцировка рубежа для учения была проведена в мае 1941 года, но осуществить учение не удалось.
Разумеется, этот самый тяжёлый для нас первый период войны состоял не только из одних ошибок. В то время были подготовлены и не без успеха проведены крупные операции, сорван план захвата врагом Ленинграда, осуществлён разгром немецко-фашистских войск под Москвой.
Эти и другие бои и сражения многому научили командный состав. Наверху, в Ставке, особенно отчётливо было видно, что на войне ошибки ошибкам рознь: одни из них исправимы, другие исправлениям трудно поддаются.
Всё зависит от характера ошибок и их масштаба. Ошибки тактические, как свидетельствовал опыт, вышестоящее командование могло быстро ликвидировать. Просчёты оперативного масштаба выправить неизмеримо труднее, особенно если нет в распоряжении командования необходимых сил, средств или времени, чтобы ввести эти силы в дело там и тогда, когда это нужно.
Для исправления оперативно-стратегических ошибок, допущенных Ставкой и командованием некоторых фронтов летом 1942 года (Что дало возможность гитлеровским войскам выйти в район Сталинграда и на Северный Кавказ), потребовались усилия всей страны.
Оглядываясь назад, я позволю себе сказать, что никакое военно-политическое руководство любой страны не выдержало бы подобных испытаний и не нашло бы выхода из создавшегося крайне неблагоприятного положения.
Но есть и неисправимые просчёты. Такой просчёт совершило фашистское руководство гитлеровской Германии, рискнув напасть на Советский Союз. Этот просчёт проистекал из неимоверной переоценки своих сил и средств и недооценки потенциальных возможностей СССР – страны, где существует социалистический строй, где вооружённые силы, народ, партия и правительство едины.
* * *
Деятельность Ставки неотделима от имени Сталина. В годы войны я часто с ним встречался. В большинстве случаев это были официальные встречи, на которых решались вопросы руководства ходом войны. Но даже простое приглашение на обед всегда использовалось в этих же целях. Мне очень нравилось в работе Сталина полное отсутствие формализма. Всё, что делалось им по линии Ставки или ГКО, делалось так, чтобы принятые этими высокими органами решения начинали выполняться тотчас же, а ход выполнения их строго и неуклонно контролировался лично Верховным или, по его указанию, другими руководящими лицами или организациями.
ГКО и Ставка представляли собой два самостоятельных чрезвычайных органа, созданных решением Президиума Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР на период войны. Но так как Сталин возглавлял и Комитет и Ставку, то формальность обычно не соблюдалась. На совещания в ГКО часто приглашались члены Ставки и, наоборот в Ставке, при рассмотрении важных вопросов, присутствовали члены ГКО.
Совместная работа приносила большую пользу: не терялось время на изучение вопросов для проведения их в жизнь, и люди, входившие в состав этих двух государственных органов, всегда были в курсе событий. Конечно, подобная практика работы Ставки и ГКО была физически очень тяжела для их членов, но в ходе войны об этом не думалось: каждый работал в полную меру своих сил и возможностей.
Все равнялись на Сталина, а он, несмотря на свой возраст, был всегда активен и неутомим. Когда кончилась война и наступили дни сравнительно планомерного труда, Сталин как-то сразу постарел, стал менее подвижен, ещё более молчалив и задумчив. Минувшая война и всё связанное с нею сильно и ощутимо отразилось на нём.
Читатели первого издания моей книги не раз спрашивали меня, были ли ошибки в работе Ставки и Сталина как Верховного Главнокомандующего? В тех разделах книги, где рассматриваются конкретные события войны, я рассказал о некоторых ошибках и просчётах в руководстве вооружёнными силами, которые имели место. Выше я уже говорил, что с накоплением опыта ведения войны ошибки и просчёты умело исправлялись, их становилось всё меньше и меньше.
Сталин внёс большой личный вклад в дело завоевания победы над фашистской Германией и её союзниками.
Авторитет его был чрезвычайно велик, и поэтому назначение Сталина Верховным Главнокомандующим было воспринято народом и войсками положительно. Конечно, в начале войны, до Сталинградской битвы у Верховного были ошибки, которые бывают, как известно, у каждого. Он их глубоко продумал, и не только внутренне переживал, а стремился извлечь из них опыт и впредь не допускать.
Опираясь на всестороннюю помощь ЦК и организаторскую деятельность партии на местах, горячий патриотизм советского народа, поднявшегося на священную войну с фашизмом, Верховный Главнокомандующий умело справился со своими обязанностями на этом высоком посту. Очень хорошо сказал Михаил Шолохов в интервью газете «Комсомольская правда» в дни 25-летия Победы над фашистской Германией: «Нельзя оглуплять и принижать деятельность Сталина в тот период. Во-первых, это нечестно, а во-вторых, вредно для страны, для советских людей, и не потому, что победителей не судят, а прежде всего потому, что, ниспровержение не отвечает истине».
Сталин обычно работал в Кремле в своём рабочем кабинете. Это была просторная, довольно светлая комната, стены которой были обшиты морёным дубом. В ней стоял длинный покрытый зелёным сукном стол. На стенах портреты Маркса, Энгельса, Ленина. Во время войны появились кроме того, портреты Суворова и Кутузова. Жёсткие стулья, никаких лишних предметов.
Огромный глобус помещался в соседней комнате, рядом с ним – стол, на стенах различные карты мира. В глубине большой комнаты у закрытого окна стоял рабочий стол Сталина, всегда заваленный документами, бумагами, картами. Здесь были телефоны ВЧ и внутри-кремлёвские, лежала стопка отточенных цветных карандашей. Сталин обычно делал свои записи синим карандашом, писал быстро, размашисто, разборчиво. Вход в кабинет вёл через проходную комнату Поскрёбышева и небольшое помещение начальника личной охраны Верховного. За кабинетом – небольшая комната отдыха.
В комнате связи стояли телеграфные аппараты для переговоров с командующими фронтами и представителями Ставки.
Работники Генштаба и представители Ставки развёртывали карты на большом столе и стоя докладывали Верховному обстановку на фронтах, иногда пользуясь записями. Сталин слушал, обычно расхаживая по кабинету медленным широким шагом, вразвалку. Время от времени он подходил к большому столу и, наклонившись, пристально рассматривал разложенную карту. Изредка он возвращался к своему столу, брал коробку папирос «Герцеговина Флор», разрывал несколько папирос и медленно набивал трубку табаком.
Стиль работы, как правило, был деловой, без нервозности, своё мнение могли высказать все. Верховный ко всем обращался одинаково-строго и официально. Он умел внимательно слушать, когда ему докладывали со знанием дела. Сам он был немногословен и многословие не любил, часто останавливал разговорившегося репликами – «Короче!», «Яснее!» Совещания открывал без вводных вступительных слов. Говорил тихо, свободно, только по существу вопроса. Был лаконичен, формулировал мысли ясно. Сталин требовал ежедневных докладов о положении дел на фронтах. Чтобы идти на доклад к Верховному Главнокомандующему, нужно было быть хорошо подготовленным. Явиться, скажем с картами, на которых имелись хоть какие-то «белые пятна» было невозможно. Он не терпел ответов наугад, требовал исчерпывающей полноты и ясности.
Но конечно, прежде всего, мы должны поклониться до земли нашему советскому человеку, который, отказывая себе в самом необходимом – в питании и сне, делал всё от него зависящее, чтобы выполнить задачи которые ставила перед народом Коммунистическая партия в целях победы над врагом.
Большое внимание уделялось управлению войсками. Видимо, осмыслив ошибки в этом вопросе, допущенные в первом периоде войны, Верховный не раз говорил нам с Василевским, направляя на фронты в качестве представителей Ставки, чтобы мы посмотрели с пристрастием, как тот или иной командующий руководит войсками. Должен сказать, к чести наших командующих фронтами и армиями, что они всегда помнили о долге перед Родиной, перед партией, постоянно учились сложному полководческому искусству и стали его подлинными мастерами.
Относился к членам Ставки Верховный Главнокомандующий далеко не одинаково.
Большое уважение он питал, например, к Маршалу Советского Союза Борису Михайловичу Шапошникову. Он называл его только по имени и отчеству и в разговоре с ним никогда не повышал голоса, даже если не был согласен с его докладом. Шапошников был единственным человеком, которому Сталин разрешил курить в своём рабочем кабинете.
Освобождение Шапошникова от должности начальника Генштаба и назначение его заместителем Наркома обороны по строительству укреплённых районов, когда уже развернулась Вторая мировая война, лично я считаю ошибкой.
30 июля 1941 года, когда меня назначили командующим Резервным фронтом, Шапошников стал вновь начальником Генштаба. Большое личное трудолюбие и умение Шапошникова работать с людьми оказали заметное влияние на рост общего искусства управления войсками в действующей армии и особенно со стороны Генштаба.
К сожалению, возраст, тяжёлая рабочая нагрузка и особенно болезнь не позволили ему работать всю войну в Генштабе. В мае 1942 года он передал должность своему первому и вполне достойному заместителю Василевскому, которого он высоко ценил. В июне 1943 года Шапошников был назначен начальником высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова. С особым уважением Сталин относился и к А.М. Василевскому. Александр Михайлович не ошибался в оценках оперативно-стратегической обстановки. Поэтому именно его Сталин посылал на ответственные участки советско-германского фронта в качестве представителя Ставки.
В тех случаях, когда Сталин не соглашался с мнением Александра Михайловича, Василевский умел с достоинством и вескими аргументами убедить Верховного, что в данной обстановке иного решения, чем предлагает он, принимать не следует.
Молотов также пользовался большим уважением Сталина. Он почти всегда присутствовал в Ставке, когда рассматривались оперативно-стратегические и другие важные вопросы. Между ними нередко возникали разногласия и серьёзные споры, в ходе которых формировалось правильное решение.
С большим вниманием прислушивался Верховный к мнению Антонова, даже тогда, когда он не являлся членом Ставки, а временно исполнял должность начальника Генштаба.
Подпись Алексея Иннокентьевича на директивах Ставки часто шла за подписью Сталина.
Вероломно напав на Советский Союз, Гитлер и его военное окружение столкнулись с армией нового типа, воспитанной в духе советского патриотизма и пролетарского интернационализма, имеющей перед собой ясную цель – оборону первой страны социализма. Советского солдата отличали глубокое сознание своей освободительной миссии, готовность идти на самопожертвование во имя свободы и независимости Родины, во имя социализма.
Авантюристская политика Германии не была случайной. Она основывалась на фашистской идеологии расового превосходства, на традиционных устоях прусского милитаризма, уже не раз приводившего Германию на край катастрофы.
Имея за своими плечами отмобилизованный военно-промышленный потенциал не только Германии, но и практически всей Западной Европы, Гитлер и его генералы сделали свою основную ставку на молниеносный разгром Советского Союза. Они переоценили свои силы и возможности и серьёзно недооценили силу, средства и потенциальные возможности Советского государства.
«План дезинформации», разработанный под руководством Кейтеля и Йодля, имевший целью показать, что немцы якобы готовятся к вторжению в Англию, был осуществлён не без пользы для Германии. В начале войны это серьёзно осложнило для нас общую установку.
Однако очень скоро выяснилось, что в целом план «Барбаросса» оказался нереальным. Основной идеей этого плана было, как известно, окружение и уничтожение главных сил Красной Армии, расположенных в приграничных военных округах.
Враг надеялся, что с потерей их советскому Верховному Главнокомандованию нечем будет защищать Москву, Ленинград, Донбасс и Кавказ. Но эти надежды немецко-фашистского командования не осуществились.
Правительство фашистской Германии и нацистское военное руководство строили свои расчёты на мифических слабостях Советского Союза. Они никак не ожидали, что в минуту смертельной опасности советский народ, сплотившись вокруг коммунистической партии, непреодолимой силой встанет на их пути. Это они сразу почувствовали на всех стратегических направлениях. Гитлеровское руководство без всяких к тому оснований считало, что Красная Армия не выстоит против немецко-фашистских войск по той причине, что во главе её стоят молодые, ещё недостаточно умудрённые опытом современных сражений военачальники.
Полной неожиданностью для гитлеровцев явилась война на территории СССР, так сказать, на два фронта: с одной стороны, против регулярных войск Красной Армии, а с другой — против организованных партизанских сил в тылу немецких войск.
Ликвидация Ельнинского выступа противника
Шёл второй месяц войны. А широко разрекламированное обещание Гитлера уничтожить в кратчайший срок Красную Армию, захватить Москву и выйти на Волгу сорвалось. Немецкие войска повсюду несли колоссальные потери. Общий фронт противника значительно расширился. Оперативная плотность войск стала резко снижаться, и теперь их уже не хватало для одновременного наступления на всех стратегических направлениях.
29 июля я позвонил Сталину и просил принять для срочного доклада.
— Приходите, — сказал Верховный.
Захватив с собой карту стратегической обстановки, карту с группировкой немецких войск, справки о состоянии наших войск и материально-технических запасов фронтов и центра, я пришёл в приёмную Сталина, где находился Поскрёбышев, и попросил его доложить обо мне.
— Садись. Приказано подождать Маленкова и Мехлиса.
Минут через десять все были в сборе и меня пригласили к Сталину.
— Ну докладывайте, что у вас, — сказал Сталин.
Разложив на столе свои карты, я подробно доложил обстановку, начиная с северо-западного и кончая юго-западными направлениями. Привёл цифры основных потерь по нашим фронтам и ход формирования резервов. Подробно показал расположение войск противника, рассказал о группировках немецких войск и изложил предположительный характер их ближайших действий.
Сталин слушал внимательно. Он перестал шагать вдоль кабинета, подошёл к столу и, слегка наклонившись, стал внимательно разглядывать карты, до мельчайших обозначений на них.
— Откуда, вам известно, как будут действовать немецкие войска? – резко и неожиданно бросил реплику Мехлис.
— Мне неизвестны планы, по которым будут действовать немецкие войска, — ответил я — но исходя из анализа обстановки, они могут действовать только так, а не иначе. Наше предположения основаны на анализе состояния и дислокации крупных группировок, и прежде всего бронетанковых и моторизованных войск.
— Продолжайте доклад, — сказал Сталин.
— На московском стратегическом направлении немцы в ближайшее время, видимо, не смогут вести крупную наступательную операцию, так как они понесли слишком большие потери. Сейчас у них здесь нет крупных резервов.
На Украине, как мы полагаем, основные события могут разыграться где-то в районе Днепропетровска, Кременчуга, куда вышли главные силы бронетанковых войск противника группы армий «Юг».
Наиболее слабым и опасным участком обороны наших войск является Центральный фронт. Наши 13-я и 21-я армии, прикрывающие направление на Унечу-Гомель, очень малочисленны и технически слабы. Немцы могут воспользоваться этим слабым местом и ударить во фланг и тыл войскам Юго-Западного фронта, удерживающим район Киева.
— Что вы предлагаете? – насторожился Сталин.
— Прежде всего, укрепить Центральный фронт, передав ему не менее трёх армий, усиленных артиллерией. Одну армию получить за счёт западного направления, другую – за счёт Юго-Западного фронта третью – из резерва Ставки. Поставить во главе фронта опытного и энергичного командующего. Конкретно предлагаю Ватутина.
— Вы что же,- спросил Сталин, — считаете возможным ослабить направление на Москву?
— Нет, не считаю. Но противник, по нашему мнению, здесь пока вперёд не двинется, а через 12-15 дней мы можем перебросить с Дальнего Востока не менее восьми вполне боеспособных дивизий, в том числе одну танковую. Такая группа войск не ослабит, а усилит московское направление.
— А Дальний Восток отдадим японцам? – съязвил Мехлис.
Я не ответил и продолжал:
— Юго-Западный фронт уже сейчас необходимо целиком отвести за Днепр. За стыком Центрального и Юго-Западного фронтов сосредоточить резервы не менее пяти усиленных дивизий.
— А как же Киев? – в упор смотря на меня, спросил Сталин.
Я понимал, что означали два слова «сдать Киев» для всех советских людей и, конечно, для Сталина. Но я не мог поддаваться чувствам, а как начальник Генштаба обязан был предложить единственно возможное и правильное, по мнению Генштаба и на мой взгляд стратегическое решение в сложившейся обстановке.
— Киев придётся оставить, — твёрдо сказал я.
Наступило тяжёлое молчание…
Я продолжал доклад, стараясь быть спокойнее.
— На западном направлении нужно немедля организовать контрудар с целью ликвидации ельнинского выступа. Ельнинский плацдарм гитлеровцы могут позднее использовать для наступления на Москву.
— Какие там ещё контрудары, что за чепуха? – вспылил Сталин.
— Опыт показал, что наши войска не умеют наступать…
И вдруг на высоких тонах бросил: — Как вы могли додуматься сдать врагу Киев?
Я не мог сдержаться и ответил:
— Если вы считаете, что я как начальник Генерального штаба способен только чепуху молоть, тогда мне здесь делать нечего. Я прошу освободить меня от обязанностей начальника Генштаба и послать на фронт. Там я, видимо, принесу больше пользы Родине.
Опять наступила тягостная пауза.
— Вы не горячитесь, — сказал Сталин, — А впрочем…. Мы без Ленина обошлись, а без вас тем более обойдёмся.
— Я человек военный и готов выполнить любое решение Ставки, но имею твёрдую точку зрения на обстановку и способы ведения войны, убеждён в её правильности и доложил так, как думаю сам и Генеральный штаб.
Сталин не перебивал меня, но слушал уже без гнева и заметил в более спокойном тоне:
— Идите работайте, мы тут посоветуется и тогда вас вызовем.
Собрав карты, я вышел из кабинета с тяжёлым чувством собственного бессилия. Примерно через полчаса меня пригласили к Верховному.
— Вот что, сказал Сталин, — мы посоветовались и решили освободить вас от обязанностей начальника Генерального штаба. На это место назначим Шапошникова. Правда, у него со здоровьем не всё в порядке, но ничего, мы ему поможем. А вас используем на практической работе. У вас большой опыт командования войсками в боевой обстановке. В действующей армии вы принесёте несомненную пользу. Разумеется, вы остаётесь заместителем наркома обороны и членом Ставки.
— Куда прикажете мне отправиться?
А куда бы вы хотели?
— Могу выполнять любую работу. Могу командовать дивизией, корпусом, армией, фронтом.
— Не горячитесь, не горячитесь. Вы вот тут докладывали об организации контрудара под Ельней. Ну и возьмитесь за это дело. Затем, чуть помедлив, Сталин добавил: — Действия резервных армий на ржевско-вяземской линии обороны надо объединить. Мы назначим вас командующим Резервным фронтом. Когда вы можете выехать?
— Через час.
— Шапошников скоро прибудет в Генштаб. Сдайте ему дела и выезжайте.
— Разрешите отбыть?
— Садитесь и выпейте с нами чаю, — уже улыбаясь, сказал Сталин, — мы ещё кое о чём поговорим.
Сели за стол и стали пить чай, но разговор так и не получился.
На следующий день состоялся приказ Ставки.
Сборы на фронт были недолгими. После сдачи Шапошникову обязанностей начальника Генштаба я выехал в район Гжатска, где располагался штаб Резервного фронта. Здесь только что закончилось укомплектование армий и составлялся расчёт дополнительных средств для фронта.
Бои под Ельней дали нашим войскам много полезного и поучительного для правильного понимания оборонительной тактики врага.
Нам удалось выявить и слабые стороны противника. Контратаки наших частей показали неустойчивость немецко-фашистской пехоты. Неся огромные потери от огня советской артиллерии, немецкие солдаты, как правило, не вели прицельного огня.
Несмотря на всю остроту событий в районе Ельни и большую занятость в связи с подготовкой предстоящей здесь наступательной операции, я всё время мысленно возвращался к разговору, который произошёл у меня в Ставке с И.В. Сталиным 29 июля.
Сейчас бытуют различные версии о позиции Ставки, Генштаба, командования юго-западного направления и Военного совета Юго-Западного фронта в отношении Киева.
Поэтому считаю нужным привести выдержки из разговора Сталина с командующим Юго-Западным фронтом Кирпоносом 8 августа 1941 года. Они свидетельствуют о том, что мнение Верховного Главнокомандующего и Военного Совета Юго-Западного фронта совпадали – они были против отвода советских войск из-под Киева.
У аппарата Сталин. До нас дошли сведения, что фронт решил лёгким сердцем сдать Киев врагу якобы ввиду недостатка частей, способных отстоять Киев. Верно ли это?
Кирпонос. Здравствуйте, товарищ Сталин! Вам доложили неверно… Товарищ Сталин, все наши мысли и стремления, как мои, так и Военного совета направлены к тому, чтобы Киев противнику не отдать…
Во второй половине августа, ещё и ещё раз проанализировав общую стратегическую обстановку и характер действий на западном направлении…. как член Ставки счёл себе обязанным ещё раз повторить Верховному свои прежние предположения о возможных ударах немецко-фашистских войск во фланг и тыл Центрального, а затем и Юго-Западного фронтов.
Поэтому 19 августа я послал Сталину следующую телеграмму:
«Противник… временно отказался от удара на Москву и перейдя к активной обороне против Западного и Резервного фронтов, все свои ударные подвижные и танковые части бросил против Центрального, Юго-Западного и Южного фронтов.
Возможный замысел противника разгромить Центральный фронт и, выйдя в район Чернигов-Конотоп-Прилуцк, ударом с тыла разгромить армии Юго-Западного фронта. После чего – главный удар на Москву в обход Брянских лесов и удар на Донбасс. Для срыва этого опасного намерения гитлеровского командования считал бы целесообразным по возможности быстрее создать крупную группировку наших войск в районе Глухов-Чернигов-Конотоп, чтобы её силами нанести удар в фланг противника, как только он станет приводить в исполнение свой замысел»[5].
В тот же день, 19 августа, я получил ответную телеграмму Ставки Верховного Главнокомандования:
«Ваши соображения насчёт вероятного продвижения немцев в сторону Чернигова, Конотопа, Прилуцк считаем правильными. Продвижение немцев… будет означать обход нашей Киевской группы с восточного берега Днепра и окружение наших 3-й и 21-й армий. В предвидении такого нежелательного казуса и для его предупреждения создан Брянский фронт во главе с Ерёменко. Принимаются и другие меры, о которых сообщим особо. Надеемся пресечь продвижение немцев. Сталин, Шапошников».[6]
Мучительные опасения за судьбу Центрального и Юго-Западного фронтов меня не покидали…
Дня через два позвонил начальнику Генштаба Шапошникову…
Шапошников сказал, что Верховный разрешил отвести часть войск правого крыла Юго-Западного фронта на восточный берег Днепра. Киевская же группировка наших войск оставалась на месте и должна была защищать подступы к Киеву, который решено удерживать до последней возможности.
— Лично я, — продолжал Шапошников, — считаю, что формируемый Брянский фронт не сможет пресечь возможный удар центральной группировки противника. К сожалению, — добавил он, — генерал-лейтенант Ерёменко в разговоре со Сталиным клялся разгромить противника, действующего против Центрального фронта и не допускать его выхода во фланг и тыл Юго-Западного фронта.
Я знал, что собой представляет в боевом отношении войска создаваемого в спешке Брянского фронта, и поэтому счёл необходимым ещё раз весьма настоятельно доложить по ВЧ Верховному о необходимости быстрейшего отвода всех войск правого крыла Юго-Западного фронта на восточный берег Днепра.
С моей рекомендацией и на этот раз не посчитались. Сталин сказал, что он только что вновь советовался с Хрущёвым и он убедил его, что Киев ни при каких обстоятельствах оставлять не следует. Кроме того, он, Сталин, и сам убеждён в том, что противник если и не будет разбит Брянским фронтом, то во всяком случае будет задержан.
Как известно, войска Юго-Западного фронта в скором времени тяжело поплатились за это решение Верховного, которое было построено на несерьёзных заявлениях (Кирпоноса, Ерёменко, Хрущёва – А.М). Маршал Будённый главком Юго-Западного направления в разговоре с Шапошниковым отметил: «Я прошу вас вообще обратить внимание на действия Ерёменко, который должен был эту группу противника (Гудериана – А.М) уничтожить, а на самом деле из этого ничего не получилось».
Ельнинская операция была моей первой самостоятельной операцией, первой пробой личных оперативно-стратегических способностей в большой войне с гитлеровской Германией.
С рассветом 30 августа после непродолжительной артиллерийской подготовки войска Резервного фронта перешли в решительное наступление.
Всего за период боёв в районе Ельни было разгромлено до пяти дивизий, противник потерял убитыми и ранеными 45-47 тысяч человек. Врагу дорого обошлось стремление удержать ельнинский выступ. Утром 6 сентября в Ельню вошли наши войска.
Я кратко доложил Сталину ход сражений и общие итоги Ельнинской операции.
9 сентября днём неожиданно пришла телефонограмма Шапошникова: К 20 часам того же дня меня вызвал в Ставку Верховный.
Войдя в столовую, куда меня проводил Власик, где за столом сидели Сталин, Молотов, Щербаков, Маленков и другие члены Политбюро, я сказал:
— Товарищ Сталин, я опоздал на один час.
Сталин посмотрел на свои часы и проговорил:
На час и пять минут, и добавил –Садитесь и, если голодны, подкрепитесь.
Есть я не стал и тоже молчал. Наконец Сталин оторвался от карты и, обращаясь ко мне, заметил:
-Неплохо получилось у вас с ельнинским выступом. Вы были тогда правы (имелся в виду мой доклад 30 июля).
— Мы ещё раз обсудили положение с Ленинградом. Противник захватил Шлиссельбург, а 8 сентября разбомбил Бадаевские продовольственные склады. Погибли большие запасы продовольствия. С Ленинградом по сухопутью у нас связи теперь нет. Население оказалось в тяжёлом положении. Финские войска наступают с севера на Карельском перешейке, а немецко-фашистские войска группы армий «Север», усиленные 4-й танковой группой, рвутся в город с юга.
— А как вы, товарищ Жуков, расцениваете обстановку на Московском направлении?
— По данным пленных, захваченных из войск группы армий «Центр», противник имеет очень большие потери. В некоторых частях они достигают пятидесяти процентов.
Кроме того, не завершив операцию под Ленинградом и не соединившись с финскими войсками, немцы едва ли начнут наступление на московском направлении… Во всяком случае, нам нужно быть всегда готовыми к упорным оборонительным действиям на московском направлении.
Сталин удовлетворительно кивнул, затем без перехода спросил:
— Ну как действовали части 24-й армии?
— Дрались, товарищ Сталин, хорошо, — ответил я, — особенно 100, 127, 153-я и 161-я стрелковые дивизии.
— А чем вы, товарищ Жуков, объясните успех этих дивизий и как оцениваете способности командно-политического состава армии?
Я высказал свои соображения. Минут пятнадцать Сталин внимательно слушал и что-то коротко заносил в свою записную книжку, затем сказал:
— Молодцы! Это именно то, что нам теперь так нужно.
Затем, без всякого перехода, вдруг добавил:
— Вам придётся лететь в Ленинград и принять от Ворошилова командование фронтом и Балтфлотом.
Предложение это явилось для меня полной неожиданностью но, тем не менее я ответил, что готов выполнить это задание.
— Ну вот и хорошо, — сказал Сталин.
— Имейте в виду, — продолжал он, — в Ленинграде вам придётся перелетать через линию фронта или через Ладожское озеро, которое контролируется немецкой авиацией.
Затем Верховный молча взял со стола блокнот и размашистым твёрдым почерком что-то написал. Сложив листок, он подал его мне: — Лично вручите товарищу Ворошилову эту записку. В записке значилось: «Передайте командование фронтом Жукову, а сами немедленно вылетайте в Москву».
Перед тем, как уйти, обратился с просьбой к Верховному разрешить мне взять с собой двух-трёх генералов, которые могут быть полезны на месте.
— Берите кого хотите, — ответил Сталин.
Затем немного помолчав, он сказал:
— Плохо складываются дела у Будённого на юго-западном направлении. Мы решили его заменить. Кого, по вашему мнению, следует туда послать?
— Маршал Тимошенко за последнее время получил большую практику в организации боевых действий, да и Украину он знает хорошо. Рекомендую послать его, — ответил я.
Пожалуй, вы правы. А кому поручим вместо Тимошенко командовать Западным фронтом?
— Командующему 19-й армией генерал-лейтенанту Коневу.
Сталин согласился и с этим. Тут же по телефону он дал указание Шапошникову о вызове Маршала Тимошенко и передаче приказа Коневу о вступлении в командование Западным фронтом.
Я собирался, уже проститься, когда Сталин спросил:
— Как вы расцениваете дальнейшие планы и возможности противника?
Так я получил ещё одну возможность привлечь особое внимание Ставки к опасному положению на Украине.
— В настоящий момент, кроме Ленинграда, самым опасным участком для нас является Юго-Западный фронт, — сказал я.
— Ещё раз рекомендую немедленно отвести всю киевскую группу на восточный берег Днепра и за её счёт создать резервы где-то в районе Конотопа.
— А как же Киев?
— Но как ни тяжело, товарищ Сталин, а Киев придётся оставить, иного выхода у нас нет.
Сталин снял трубку и позвонил Шапошникову.
— Что будем делать с киевской группировкой? – спросил он.
— Жуков настойчиво рекомендует немедленно отвести её.
Я не слышал, что ответил Борис Михайлович, но в заключении Сталин ему сказал:
— Завтра здесь будет Тимошенко. Продумайте с ним этот вопрос, а вечером переговорим с Военным советом фронта.
Прощаясь перед моим отлётом в Ленинград, Верховный сказал:
— Мы на вас надеемся. Приказ Ставки о вашем назначении будет отдан, когда прибудете в Ленинград.
Я зашёл к Василевскому, который в то время был первым заместителем начальника Генштаба. На мой вопрос, как он расценивает обстановку на участках юго-западного направления, Василевский сказал: — Думаю, что мы крепко опоздали с отводом войск за Днепр.
Зайдя к Шапошникову, я договорился с ним о личной связи. В отношении Ленинграда Шапошников был настроен оптимистически.
* * *
Из служебного дневника начальника генерального штаба сухопутных войск Германии генерал-полковника Ф. Гальдера[7]
8 июля 1941 года, 17-й день войны
13.30 – доклад у фюрера (в его ставке)
- Непоколебимым решением фюрера является сровнять Москву и Ленинград с землёй, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы. Задачу уничтожения городов должна выполнить авиация. Ни в коем случае не использовать для этого танки. (Это ответ нашей «лжедемократии» о сдаче Ленинграда немцам, чтобы после сдачи пить баварское пиво. – А.М)
«6 июля 1941 года в статье во «Франкфуртерцайтунг» по словам автора, оказалось, что русские расположили вдоль границ не все свои армии, как думали немцы. Вскоре также выяснилось, что сами немцы совершили грубейший просчёт в оценке русских резервов. До начала войны с Россией германская разведывательная служба в значительной степени полагалась на «пятую колонну». Но в России, хотя и были недовольные, «пятая колонна» отсутствовала..»[8]
* * *
Только за первые два месяца войны с СССР сухопутные войска вермахта потеряли около 400 тысяч человек. Кстати замечу, что с июня по декабрь вне советско-германского фронта немцы потеряли всего около 9 тысяч человек. Потери войск противника к концу летне-осенней кампании на нашем фронте составили 800 тысяч человек.
Битва за Ленинград
10 сентября 1941 года по решению ГКО я с генералами Хозиным и Федюнинским, как мы договорились с И.В. Сталиным, прилетели в Ленинград. В Смольном – в штабе фронта вручил Ворошилову записку Сталина.
К исходу 10 сентября, руководствуясь личной запиской Верховного и без объявления официального приказа, я вступил в командование Ленинградским фронтом. 8 сентября 1941 года противник, захватив Шлиссельбург, перерезал последнюю для нас сухопутную коммуникацию и блокировал Ленинград. Враг оттеснил нашу 54-ю армию от основных сил Ленинградского фронта, но она не позволила гитлеровским войскам двинуться на восток и остановила их на рубеже Липка-Рабочий посёлок № 8- Гайтолово. С этого момента армия начала подчиняться не фронту, а непосредственно Ставвке ВГК. На Карельском перешейке финские войска, выйдя к нашей старой государственной границе, пытались продвинуться дальше, но были там остановлены.
Сообщение с Большой землёй с 8 сентября могло осуществляться только через Ладожское озеро и по воздуху, под прикрытием нашей авиации.
Ворошилов 12 сентября по заданию Сталина вылетел в 54-ю армию маршала Кулика. Генерал-лейтенанту Хозину было приказано немедленно вступить в должность начальника штаба фронта, а генерал И.И. Федюнинский в тот же день был направлен изучать оборону войск 42-й армии под Урицком и на Пулковских высотах.
Всю ночь с 10 на 11 сентября мы обсуждали с А.А. Ждановым, А.А. Кузнецовым, адмиралом И.С. Исаковым, начальником штаба фронта и некоторыми командующими родов войск фронта обстановку и дополнительные меры по обороне Ленинграда.
Военный совет в состав которого, кроме Жданова, Кузнецова и меня, входили секретари Ленинградского обкома Т.Ф. Штыков, Я.Ф. Капустин, председатель облисполкома Н.В. Соловьёв, председатель горисполкома П.С. Попков работал дружно, творчески энергично, не считаясь ни со временем, ни с усталостью. Всех этих товарищей уже нет в живых. Некоторые из этих глубоко уважаемых людей, преданных нашему общему делу, после войны стали жертвами клеветы и были уничтожены. Должен сказать, что это были выдающиеся деятели нашей партии и государства.
Они сделали всё, что можно было сделать для успешной борьбы, отстаивая город Ленина, над которым тогда нависла смертельная опасность.
Должен с большой благодарностью отметить умную организаторскую роль командующего ВВС фронта генерал-полковника А.А. Новикова. Моим заместителем по ВМС Балтийского флота был адмирал Иван Степанович Исаков. Глубоко убеждён, что Исаков был одним из самых сильных и талантливых военачальников ВМФ Советского Союза.
Гитлер торопил командующего группой армий «Север» генерал-фельдмаршала фон Лееба быстрее овладеть Ленинградом и как можно скорее высвободить подвижные соединения 4-й танковой группы для переброски их на московское направление в состав группы армий «Центр».
Проявлению активности нашей обороны способствовало и сложившееся по ходу обстановки расположение советских войск, 8-я армия укреплялась на ораниенбаумском плацдарме. При должной поддержке со стороны флота и 42-й армии она была в состоянии наносить удары по западному флангу и тылу группировки противника, отвлекая тем самым часть сил наступающих на город.
Можно было многое ожидать и от 54-й армии, находившейся под командованием маршала Г.И. Кулика. Её положение на восточном фланге узкого шлиссельбургско – мгинского коридора позволяло организовать удар по вражеским соединениям и таким образом облегчить путь продвижения войскам Ленинградского фронта.
Это могло существенно помочь обороне города и отвлечь часть сил группы армий «Север» с основного, пулковского участка. Дополнительно разработанные мероприятия по усилению обороны города предусматривали решение следующих задач, в том числе:
— действия частей фронта увязать с действиями 54-й армии, добиваясь освобождения от противника района Мга-Шлиссельбург. Условия деблокирования Ленинграда в сентябре 1941 года требовали, чтобы 54-я армия действовала более энергично и в полном взаимодействии с частями Ленинградского фронта.
Однако нам не удалось решить вопросы совместных действий так, как этого требовала обстановка.
Я позволю себе привести концовку телеграфного разговора с маршалом Г.И. Куликом, который состоялся в ночь на 15 сентября 1941 года.
Жуков.. Понял, что рассчитывать на активный манёвр с вашей стороны не могу. Буду решать задачу сам. Должен заметить, что меня поражает отсутствие взаимодействия между вашей группировкой и фронтом. По-моему, на вашем месте Суворов поступил бы иначе. Извините за прямоту, но мне не до дипломатии. Желаю всего лучшего![9]
Докладывая своё решение Ставке ВГК о создании ударной группировки 8-й армии (для нанесения контрудара), я не умолчал о разговоре с Куликом. Сталин обещал принять меры.
Вечером 16 сентября Верховный Главнокомандующий связался с ним по телеграфу и потребовал «не задерживать подготовку к наступлению, а вести его решительно, дабы открыть сообщение с Жуковым».[10]
Однако и на этот раз наступление 54-й армии затянулось и началось лишь спустя несколько дней.
17 сентября бои под Ленинградом достигли наивысшего напряжения. С утра 18 сентября противник нанёс удар на стыке 42-й и 55-й армий и, овладев городом Пушкин, стремился обойти Пулковские высоты слева, а Колпино справа и таким образом прорваться к Ленинграду.
19 сентября город подвергался артиллерийскому обстрелу в течение восемнадцати часов – с 1 часа 5 минут до 19 часов. Одновременно немецкая авиация произвела шесть налётов на город. К Ленинграду прорвалось 276 бомбардировщиков противника. В районе Петергофа в тыл вражеских войск был высажен морской десантный отряд с целью содействия приморской группе в проведении операции. Моряки действовали не только смело, но и предельно дерзко. Каким-то образом противник обнаружил подход по морю десанта и встретил его огнём ещё на воде. Они выбрались на берег и немцы побежали.
Увлёкшись первыми успехами, моряки преследовали бегущего противника, но к утру сами оказались отрезанными от моря. Большинство из них пало смертью храбрых, не вернулся и командир героического десанта полковник Андрей Трофимович Ворожилов.
20 сентября Ставка ВГК ещё раз поторопила командующего 54-й армией маршала Кулика с организацией решительного наступления. В телеграмме Кулику Верховный настаивал на немедленных действиях:
«В эти два дня 21-го и 22-го, надо пробить брешь во фронте противника и соединиться с ленинградцами, а потом уже будет поздно. Вы очень запоздали. Надо наверстать потерянное время. В противном случае, если вы ещё будете запаздывать, немцы успеют превратить каждую деревню в крепость и вам никогда уже не придётся соединиться с «ленинградцами».[11]
Однако и это распоряжение не было выполнено.
29 сентября Ставка подчинила 54-ю армию Ленинградскому фронту. Маршал Кулик был освобождён от командования, и мне пришлось назначить командующим 54-й армией генерала Хозина, не освобождая его от обязанностейначальника штаба фронта.
… В результате предельно активной и упорной обороны войск Ленинградского фронта и их массового героизма прорыв в Ленинград через Красное Село – Урицк-Слуцк-Пушкин потерпел полный провал. Гитлер был в бешенстве. Главнокомандующий северной группой войск генерал-фельдмаршал фон Лееб был снят Гитлером с должности, но и это не помогло.
В начале октября разведка фронта доложила, что немцы роют землянки, утепляют блиндажи, укрепляют передний край минами и другими инженерными средствами. Разведчики сделали правильный вывод: противник готовится к зиме.
Пленные подтвердили это предположение.
Впервые за много дней мы реально осознали, что фронт на подступах к городу выполнил свою задачу и остановил наступление гитлеровских войск. Линия обороны на подступах к Ленинграду с юга стабилизировалась и осталась без существенных изменений до января 1943 года. К этому же времени закрепились позиции сторон и на реке Свирь.
История войн не знала такого примера массового героизма, мужества, трудовой и боевой доблести, какую проявили защитники Ленинграда.
Однако, несмотря на варварские действия немецко-фашистских войск, трудящиеся ленинградских предприятий героически выполняли задачи, которые им были поручены. Так, с июля и до конца 1941 года они изготовили 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов, свыше 3 тысяч полковых и противотанковых пушек, около 10 тысяч миномётов, свыше 3 миллионов снарядов и мин, более 80 тысяч реактивных снарядов и бомб. Выпуск боеприпасов во втором полугодии 1941 года по сравнению с первым увеличился в 10 раз.
Перед войной в Ленинграде проживало 3 миллиона 103 тысячи человек, а с пригородами – 3 миллиона 385 тысяч. Согласно Постановлению Совнаркома с 29 июня 1941 года по 31 марта 1943 года были эвакуированы 1 миллион 743 тысячи 129 человек, в том числе 414 тысяч 148 детей[12].
Я же лично считаю для себя высокой честью, что в самое трудное время мне было доверено командование всеми войсками, оборонявшими город Ленина.
С 12 января 1943 года началось наступление в районе Шлиссельбургско-Мгинского выступа. 18 января в районах Рабочего посёлка № 5 и Рабочего посёлка № 1 наступавшие части фронтов Ленинградского и Волховского соединились. Блокада Ленинграда была прервана.
Прорыв Ленинградской блокады явился большим военно-политическим событием и по своей значимости далеко вышел за пределы Советского Союза.
Президент США Ф.Д. Рузвельт в грамоте, направленной Ленинграду, писал: «От имени народа Соединённых Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Ленинграду в память о его доблестных воинах и его верных мужчинах, женщинах и детях, которые,будучи изолированными захватчиком от остальной части своего народа и несмотря на постоянные бомбардировки и неслыханные страдания от холода, голода и болезней, успешно защищали свой любимый город в течение критического периода с 8 сентября 1941 года по 18 января 1943 года и символизировали этим неустрашимый дух народов Союза Советских Социалистических республик и всех народов мира, сопротивляющихся силам агрессии».
18 января, в день завершения прорыва блокады, Указом Президиума Верховного Совета СССР мне было присвоено звание Маршала Советского Союза.
Испытания, которые пришлось пережить ленинградцам, кроме советских людей, никто, пожалуй бы, не выдержал.
В ночь на 17 января…захваченную машину противника удалось отбуксировать. Доставили даже формуляр танка, подобранный на снегу. Танк действительно оказался необычный конструкции. Было установлено, что это экспериментальный образец нового тяжёлого танка «тигр» № 1, направленный гитлеровским командованием на Волховский фронт для испытаний.
Захваченный танк был передан на всестороннее исследование. Опытным путём специалисты установили его наиболее уязвимые части. Результаты были незамедлительно сообщены всем советским частям. Поэтому, когда потом во время Сталинградской и Курской битв немцы применили «тигры», наши танкисты и артиллеристы уже смело вступили с ними в единоборство.
Прорыв Ленинградской блокады в январе 1943 года имел крупное военно-политическое значение и явился переломным моментом в исторической битве за Ленинград.
Были восстановлены сухопутные коммуникации, соединявшие город со страной, что значительно улучшило положение населения, фронта и флота. Наша победа окончательно устранила угрозу соединения немецких и финских войск в районе Ленинграда.
Мы совершено не собирались скрывать число жертв преступлений немецких фашистов. Мы об этом никогда не забудем!
Просто установить сразу после войны подлинные цифры жертв осады оказалось делом нелёгким. В страшную блокадную зиму 1941/42 года детально подсчитать умерших от голода было некому.
Но впоследствии чрезвычайная Государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков установила, что во время блокады Ленинграда погибли от голода около 642 тысяч человек и от налётов фашистской авиации и артобстрелов пали около 21 тысяч человек.
Битва за Москву[13]
5 октября 1941 года из Ставки передали:
— С командующим фронтом будет говорить по прямому проводу товарищ Сталин.- Из переговорной штаба Ленинградского фронта я передал по «Бодо»: — У аппарата Жуков.
Сталин. Здравствуйте.
Жуков. Здравия желаю.
Сталин. Товарищ Жуков, не можете ли вы незамедлительно вылететь в Москву? Ввиду осложнения обстановки на левом крыле Резервного фронта в районе Юхнова Ставка хотела бы с вами посоветоваться. За себя оставьте кого-нибудь, может быть, Хозина.
Жуков. Прошу разрешения вылететь утром 6 октября.
Сталин. Хорошо. Завтра днём ждём вас в Москве.
Однако, в виду некоторых важных обстоятельств, возникших на участке 54-й армии, которой командовал Кулик, и высадки десанта моряков Балтфлота на побережье в районе Петергофа 6 октября я вылететь не смог, о чём доложил Верховному.
Вечером в Ленинград вновь позвонил Сталин:
— Как обстоят у вас дела? Что нового в действиях противника?
— Немцы ослабили натиск. По данным пленных, их войска в сентябрьских боях понесли тяжёлые потери и переходят под Ленинградом к обороне. Нашей авиационной разведкой установлено большое движение моторизованных и танковых колонн противника из района Ленинграда на юг. Видимо, их перебрасывают на московское направление.
— Оставьте за себя генерала Хозина или Федюнинского, а сами завтра немедленно вылетайте в Ставку.
В связи с тем, что генерала Хозина пришлось срочно послать в 54-ю армию, временное командирование Ленинградским фронтом было передано генералу Федюнинскому.
Сталин был простужен, плохо выглядел и встретил меня сухо. Кивнув головой в ответ на моё приветствие, он подошёл к карте и, указав на Вязьму, сказал:
— Вот смотрите. Здесь сложилась очень тяжёлая обстановка. Я не могу добиться от Западного и Резервного фронтов исчерпывающего доклада об истинном положении дел. А не зная, где и в какой группировке наступает противник и в каком состоянии находятся наши войска, мы не можем принять никаких решений. Поезжайте сейчас же в штаб Западного фронта, тщательно разберитесь в положении дел и позвоните мне оттуда в любое время. Я буду ждать. Перед уходом Сталин спросил: — Как вы считаете, могут ли немцы в ближайшее время повторить наступление на Ленинград?
— Думаю, что нет. Противник не в состоянии оставшимися там силами провести наступательную операцию.
— А где, по вашему мнению, будут применены танковые и моторизованные части, которые перебросил Гитлер из-под Ленинграда?
— Очевидно на московском направлении. Но, разумеется, после пополнения и проведения ремонта материальной части.
Посмотрев на карту Западного фронта, он сказал:
— Кажется, они уже действуют на этом направлении.
— Только что звонил Верховный, — сказал Шапошников, — приказал подготовить для вас карту западного направления. Карта сейчас будет. Шапошников познакомил меня в деталях с обстановкой на московском направлении. Я подробно изложил ему обстановку, сложившуюся на 6 октября в районе Ленинграда.
В распоряжении Ставки, которое он мне передал было сказано:
«Командующему Резервным фронтом.
Командующему Западным фронтом
Распоряжением Ставки ВГК в район действий Резервного фронта командирован генерал армии т. Жуков в качестве представителя Ставки. Ставка предлагает ознакомить тов. Жукова с обстановкой. Все решения тов. Жукова в дальнейшем, связанные с использованием войск фронтов и по вопросам управления, обязательны для выполнения.
По поручению ставки ВКГ
Начальник Генерального штаба Шапошников.
6 октября 1941 г. 19 ч. 30 м.
№ 2684»[14]
В штаб Западного фронта приехал уже ночью. За столом сидели Конев, Соколовский, Булганин и Маландин.
То, что смог рассказать о последних событиях начальник оперативного отдела штаба фронта генерал-лейтенант Г.К. Маландин, несколько дополнило и уточнило уже имевшиеся данные.
* * *
К началу наступления немецко-фашистских войск на московском направлении на дальних подступах к столице оборонялись три наших фронта: Западный (командующий генерал-полковник Конев), Резервный (командующий Маршал Советского Союза С.М. Будённый) и Брянский (командующий генерал-лейтенант А.И. Ерёменко).
Всего в боевых войсках этих фронтов в конце сентября насчитывалось 1 миллион 250 тысяч человек, 990 танков, 7600 орудий и миномётов, 677 самолётов. Наибольшее количество сил и средств было в составе Западного фронта.[15]
Противник, произведя перегруппировку своих сил на московское направление, превосходил все три наших фронта, вместе взятые, по численности войск – в 1,4 раза, по танкам – в 1,7 раза, по орудиям и миномётам – в 1,8 раза, и по самолётам – в 2 раза.[16]
Наступление немецких войск по плану операции под кодовым названием «Тайфун» началось 30 сентября ударом танковой группы Гудериана и 2-й немецкой армии по войскам Брянского фронта. 2 октября противник нанёс мощные удары по войскам Западного и Резервного фронтов. Части Гудериана 3 октября захватили неподготовленный к обороне Орёл, выйдя на тылы Брянского фронта.
Танкисты 4-й и 11-й танковых бригад усиленного 1-го гвардейского корпуса под командованием генерал-майора Д.Д. Лелюшенко впервые применили способ поражения вражеских танков из засады. Используя успех 1-го гвардейского корпуса, войска Брянского фронта отошли на указанные им рубежи. Гудериану не удалось захватить Тулу. Однако Брянский фронт оказался рассечённым. Его войска, неся потери, с боями отходили на восток.
К исходу 6 октября значительная часть войск Западного и Резервного фронтов была окружена западнее Вязьмы.
К исходу 7 октября все пути на Москву, по существу, были открыты. В 2 часа 30 минут 8 октября я позвонил Сталину. Доложив обстановку на Западном фронте, я сказал:
— Главная опасность сейчас заключается в слабом прикрытии на можайской линии. Бронетанковые войска противника могут поэтому появиться под Москвой. Надо быстрее стягивать войска откуда только можно на можайскую линию обороны. Сталин спросил: – Где сейчас 16-я¸ 19-я и 20-я армии и группа Болдина Западного фронта? Где 24-я и 32-я армии Резервного фронта?
— В окружении западнее и юго-западнее Вязьмы.
— Что вы намерены делать?
— Выезжаю сейчас же к Будённому, разберусь с обстановкой и позвоню вам.
— Хорошо, поезжайте к Будённому и оттуда сразу же позвоните мне.
Утром 8 октября я был в комнате представителя Ставки армейского комиссара 1 ранга Мехлиса, где находился также начальник штаба фронта генерал-майор А.Ф. Анисов. Обращаясь ко мне, Мехлис спросил: — А вы с какими задачами прибыли к нам?
— Приехал как член Ставки по поручению Верховного Главнокомандующего разобраться в сложившейся обстановке.
Из разговоров с Мехлисом и Анисовым я узнал очень мало конкретного о положении войск Резервного фронта и о противнике.
Сел в машину и поехал. В здании райисполкома Малоярославца встретился с Семёном Михайловичем Будённым, рассказал ему где находится штаб Резервного фронта, посоветовал ему ехать в штаб фронта, разобраться в обстановке и сообщить в Ставку о положении дел.
— Доложи Верховному о нашей встрече и скажи, что я поехал в район Юхнова, а затем в Калугу. Надо выяснить, что там происходит…
Тем временем в районе Малоярославца, на его укрепрайон, вышли и развернулись артиллерийское и стрелково-пулемётное училища Подольска.
К исходу 8 октября я вновь заехал в штаб Резервного фронта. Звоню Шапошникову. На мой вопрос, какой приказ выполнять о назначении меня командующим Резервным фронтом или прибыть 10 октября в штаб Западного фронта, Борис Михайлович ответил: — Дело в том, что ГКО рассматривает сейчас вопрос о расформировании Резервного фронта и передаче его частей и участков обороны в состав Западного. Ваша кандидатура рассматривается на должность командующего Западным фронтом. До 10 октября разберитесь с обстановкой на Резервном фронте и сделайте всё возможное, чтобы противник не прорвался через Можайско-Малоярославецкий рубеж, а также в районе Алексина на серпуховском направлении.
10 октября я прибыл в штаб Западного фронта, который теперь располагался в Красновидове. В те дни в штабе фронта работала комиссия ГКО. Она разбиралась о причинах катастрофы войск Западного фронта. Меня вызвали к телефону. Звонил Сталин.
— Ставка решила освободить Конева с поста командующего и назначить вас командующим Западным фронтом. Вы не возражаете? – Какие же могут быть возражения!
— А что будем делать с Коневым? – спросил Сталин.
— Коневу, я думаю, следует поручить руководство группой войск на калининском направлении. Это направление слишком удалено, и там нужно иметь вспомогательное управление фронта. — Хорошо, — согласился Сталин.
— В ваше распоряжение поступают оставшиеся части Резервного фронта и части, находящиеся на можайской линии. Берите скорее всё в свои руки и действуйте. Приказ мною подписан и уже передаётся фронтам.
— Принимаюсь за выполнение указаний, но прошу срочно подтягивать более крупные резервы, так как в ближайшее время надо ожидать наращивания удара гитлеровцев на Москву.
Вскоре мне передали нижеследующий приказ Ставки:
«По прямому проводу Военному совету Западного фронта, Военному совету Резервного фронта, командующему Резервным фронтом Жукову, тт. Молотову, Ворошилову.
10 октября 1941 г. 17 час.
В целях объединения руководства войсками западного направления Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
- Объединить Западный и Резервный фронты в Западный фронт.
- Назначить командующим Западным фронтом тов. Жукова.
- Назначить тов. Конева заместителем командующего Западным фронтом.
- Назначить тт Булганина, Хохлова и Круглова членами Военного совета Западного фронта.
- Тов. Жукову вступить в командование Западным фронтом в 18.00 11 октября 1941 года.
- Управление Резервного фронта расформировать и обратить на укомплектование Западного и Московского Резервного фронта.
Получение подтвердить Ставка Верховного Главнокомандования
№ 2844[17] И. Сталин
Б. Шапошников
Нужно было срочно создать прочную оборону на рубеже Волоколамск-Можайск-Малоярославец-Калуга. Развить оборону в глубине, создать вторые эшелоны и резервы фронта.
7 октября началась переброска войск из резерва Ставки и с соседних фронтов на можайскую оборонительную линию. Сюда прибывали 14 стрелковых дивизий, 16 танковых бригад, более 40 артиллерийских полков и ряд других частей. Заново формировались 16, 5, 43-я и 49-я армии. В середине октября в их составе насчитывалось около 90 тысяч человек.
Штаб фронта вскоре переехал в Перхушково.
Таким образом по существу заново создавался Западный фронт, на который возлагалась историческая миссия – оборона столицы нашей Родины.
В тылу войск противника, в районе западнее и северо-западнее Вязьмы, в это время всё ещё героически дрались наши 16, 19, 20, 24-я и 32-я армии и оперативная группа генерала И.В. Болдина, пытаясь прорваться на соединение с частями Красной Армии. Но все их попытки оказались безуспешными.
С 13 октября разгорелись ожесточённые бои на всех главных оперативных направлениях, ведущих к Москве. С 20 октября в Москве и прилегающих к ней районах постановлением ГКО было введено осадное положение. Сотни тысяч москвичей … соорудили 72 тысячи погонных метров противотанковых рвов, около 80 тысяч метров эскарпов и контрэскарпов, 52,5 тысяч метров надолб и многих других препятствий, вырыли почти 128 тысяч погонных метров окопов и ходов сообщения. Своими руками эти люди вынули более 3 миллионов кубометров земли.
Приказом Ставки от 17 октября 22, 29-я и 30-я армии, по просьбе Военного совета Западного фронта из-за большой растянутости фронта, были переданы во вновь формируемый Калининский фронт. Командующим Калининским фронтом был назначен генерал-полковник И.С. Конев.
10 ноября решением Ставки Брянский фронт был расформирован, а оборона Тулы возложена на Западный фронт.
В разгроме немецких войск под Москвой Туле и её жителям принадлежит выдающаяся роль. За месяц ожесточённых кровопролитных боёв немецко-фашистским войскам удалось в общей сложности продвинуться на 230-250 километров.
На волоколамском направлении особенно отличилась 316-я стрелковая дивизия 16-ой армии под командованием генерал-майора И.В. Панфилова.
* * *
1 ноября 1941 года я был вызван в Ставку. Сталин сказал:
— Мы хотим провести в Москве, кроме торжественного заседания по случаю годовщины Октября, и парад войск. Как вы думаете, обстановка на фронте позволит нам провести эти торжества? Я ответил: — В ближайшие дни враг не начнёт большого наступления… Против авиации, которая наверняка будет действовать, необходимо усилить ПВО и подтянуть к Москве истребительную авиацию с соседних фронтов. Как известно, в канун праздника в столице на станции метро «Маяковская» было проведено торжественное заседание, посвящённое 24-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции, а 7 ноября на Красной площади состоялся традиционный военный парад. Бойцы прямо с Красной площади шли на фронт.
Вот как описывает проведение этих двух мероприятий В.В. Карпов в своей книге «Генералиссимус»:
«Ровные ряды кресел. Сцена для президиума. С одной стороны — ярко освещённый метропоезд, на накрытых столах – бутерброды, закуска, прохладительные напитки. Приглашённые спускались на эскалаторах. Правительство прибыло на поезде к другой платформе. Все понимали огромное политическое и мобилизующее значение речи Сталина, которая транслировалась по радио на всю страну.
В начале речи Сталин изложил ход и итоги войны за 4 месяца. Он объяснил, почему «молниеносная война» была успешной на Западе, но провалилась на Востоке. Затем Сталин проанализировал причины наших временных неудач и предсказал, почему будут разгромлены «немецкие империалисты». После завершающих здравиц прозвучали слова, которые всю войну были призывом и пророчеством: «Наше дело правое – победа будет за нами». Сталин делал доклад спокойно, не торопясь, с обычными для него паузами, прихлёбыванием воды. Эта привычная людям, по многим слышанным, речь вождя не только содержанием, но и манерой, своей строгостью и убедительностью вселяла в людей уверенность – всё будет так, как говорит товарищ Сталин.
Проведённый на следующий день парад на Красной площади не только ещё больше сплотил и вдохновил народ и армию на борьбу с агрессорами, но и буквально если не нокаутировал, то поверг в нокдаун германское командование!
Эти две акции наглядно подтверждают высокие качества Сталина как политика и лидера, объединяющего народы советской страны. И ещё я отметил бы смелость: если бы немцы узнали о подготовке этих торжеств и предприняли соответствующие контрмеры, всё могло бы закончиться очень печально.
Для всей страны парад стал неожиданным, потрясающе радостным событием. Это был парад хотя и традиционный, но необыкновенный. Парад не только военный, но и политический, парад – вызов, парад презрения к врагу, парад – пощёчина. Вот вам! Вы кричите о взятии Москвы, а мы проводим свой обычный праздничный парад!
Стремясь к максимальной подлинности при описании событий, я дальше воспользуюсь рассказом очевидца, который не только присутствовал на том параде, но и описал его в газете тогда же, в ноябре 1941 года. Писатель Евгений Захарович Воробьёв – мой старый добрый друг, я расспросил его с пристрастием о том параде, выясняя побольше деталей.
«- Я был корреспондентом газеты Западного фронта «Красноармейская правда». Корреспонденты на этот раз собрались у левого крыла Мавзолея.. Мы стояли так близко, что я слышал, как Сталин, выйдя на балкон Мавзолея, где, видимо, ветер был сильнее, чем у нас внизу, сказал:
— А здорово поддувает…
И потом немного позже, радуясь непогоде, которая затрудняла нападение вражеской авиации, Сталин усмехнулся, когда снег пошёл ещё гуще, и сказал тем, кто стоял с ним рядом: — Везёт большевикам, бог им помогает.
Парад принимал С.М. Будённый, командовал парадом генерал-лейтенант П.А. Артемьев. Вопреки традиции сегодня произнёс речь не тот, кто принимал парад, а Сталин. Именно в этот день он сказал запомнившиеся всем слова:
«Война которую вы ведёте, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!»
В то праздничное утро, совсем как в годы гражданской войны, парад стал одновременно проводами на фронт!».
* * *
С 1 по 15 ноября Западный фронт получил в качестве пополнения 100 тысяч бойцов и офицеров, 300 танков, 2 тысячи орудий. В начале ноября у меня состоялся не совсем приятный разговор по телефону с Верховным.
— Как ведёт себя противник? – спросил Сталин.
— Заканчивает сосредоточение своих ударных группировок и, видимо, в скором времени перейдёт в наступление.
— Где вы ожидаете главный удар?
— Из района Волоколамска. Танковая группа Гудериана, видимо, ударит в обход Тулы на Каширу.
— Мы с Шапошниковым считаем, что нужно сорвать готовящиеся удары противника своими упреждающими контрударами. Один контрудар надо нанести в районе Волоколамска, другой – из района Серпухова во фланг 4-й армии немцев..
— Какими же силами, товарищ Верховный Главнокомандующий, мы будем наносить эти контрудары. Западный фронт свободных сил не имеет. У нас есть силы только для обороны.
— В районе Волоколамска используйте правофланговые: армию Рокоссовского, танковую дивизию и кавкорпус Доватора.В районе Серпухова используйте кавкорпус Белова, танковую дивизию Гетмана и часть сил 49-й армии.
— Считаю, что этого делать сейчас нельзя. Мы не можем бросить на контрудары, успех которых сомнителен, последние резервы фронта. Нам нечем будет тогда подкрепить оборону войск армий, когда противник перейдёт в наступлении своими ударными группировками.
— Ваш фронт имеет шесть армий. Разве этого мало?
— Но ведь линия обороны войск Западного фронта сильно растянулась: с изгибами она достигла… более 600 километров. У нас очень мало резервов в глубине, особенно в центре фронта.
— Вопрос о контрударах считайте решённым. План сообщите сегодня вечером, — недовольно отрезал Сталин. Я вновь попытался доказать Сталину нецелесообразность контрударов…. Но в телефонной трубке послышался отбой и разговор был окончен.
Минут через пятнадцать ко мне зашёл Булганин и с порога сказал: — Ну и была мне сейчас головомойка!
— За что? Сталин сказал: «Вы там с Жуковым зазнались. Но мы и на вас управу найдём!»
Однако эти контрудары, где главным образом действовала конница, не дали тех положительных результатов, которых ожидал Верховный.
Для продолжения наступления на Москву гитлеровское командование подтянуло новые силы и к 15 ноября сосредоточило против войск Западного фронта 51 дивизию, в том числе 31 пехотную, 13 танковых и 7 моторизованных, хорошо укомплектованных личным составом, танками, артиллерией и боевой техникой[18].
Второй этап наступления на столицу нашей Родины немецкое командование начало 15 ноября… С утра 16 ноября вражеские войска начали стремительно развивать наступление из района Волоколамска на Клин. Резервов в этом районе у нас не оказалось, так как они, по приказу Ставки, были брошены в район Волоколамска для нанесения контрудара, где и были скованы противником. Враг, не считаясь с потерями лез напролом… Но глубоко эшелонированная артиллерийская и противотанковая оборона и хорошо организованное взаимодействие всех родов войск не позволили противнику прорваться через боевые порядки 16-й армии Рокоссовского. Медленно, но в полном порядке эта армия отводилась на заранее подготовленные и уже занятые артиллерией рубежи, где вновь её части упорно дрались, отражая атаки гитлеровцев. С беспримерной храбростью действовала переданная в состав 16-й армии 1-я гвардейская танковая бригада М.Е. Катукова. В октябре эта бригада (тогда 4-я танковая) героически сражалась под Орлом и Мценском, за что и была удостоена высокой чести именоваться 1-й гвардейской танковой бригадой.
Однако угроза столице не миновала: враг, хотя и медленно, но приближался к Москве. После тактического прорыва немцев на участке 30-й армии Калининского фронта – мне позвонил Сталин и спросил:
— Вы уверены, что мы удержим Москву? Я спрашиваю вас об этом с болью в душе. Говорите честно, как коммунист.
— Москву безусловно, удержим. Но нужно ещё не менее двух армий и хотя бы двести танков.
— Это неплохо, что у вас такая уверенность. Позвоните в Генштаб и договоритесь, куда сосредоточить две резервных армии, которые вы просите. Они будут готовы в конце ноября. Танков пока у нас нет.
Через полчаса мы договорились с Василевским о том, что Западному фронту будут переданы 1-я ударная и 10-я армии, а также все соединения 20-й армии. Формируемая 1-я ударная армия должна быть сосредоточена в районе Яхромы, а 10-я армия – в районе Рязани.
4 декабря прорыв противника в районе Голицыно был полностью ликвидирован. На поле боя враг оставил более 10 тысяч убитыми, 50 разбитых танков и много другой боевой техники. Это была последняя попытка немецких войск прорваться к Москве.. За 20 дней второго этапа наступления на Москву немцы потеряли 155 тысяч солдат и офицеров, около 800 танков, сотни орудий и значительное количество самолётов.
Фашистское военно-политическое руководство потеряло престиж непобедимости в глазах мирового общественного мнения.
Генералы, буржуазные историки винят во всём грязь и распутицу, суровый русский климат. Эта версия тоже не нова. Наполеон, загубивший свою армию, тоже ссылался на русский климат. В октябре 1941 года распутица была сравнительно кратковременной. В первых числах ноября наступило похолодание, выпал снег, местность и дороги стали всюду проходимыми. В ноябрьские дни «генерального наступления» гитлеровских войск температура в районе боевых действий на московском направлении установилась от 7 до 10 градусов мороза, а при такой погоде, как известно грязи не бывает. Более чем миллионная группировка отборных гитлеровских войск разбилась о железную стойкость, мужество и героизм советских войск, за спиной которых был их народ, столица, Родина.
Взбешенный провалом второго этапа наступления на Москву, срывом своего плана молниеносной войны Гитлер отстранил от должности главнокомандующего сухопутными войсками генерал-фельдмаршала Браухича, командующего группой армий «Центр» генерал-фельдмаршала фон Бока, командующего 2-й «танковой армией генерала Гудериана и десятки других генералов, которых он за полтора-два месяца до этого щедро награждал крестами. Гитлер объявил себя главнокомандующим сухопутными войсками, видимо, считая, что это магически подействует на войска.
11 декабря 1941 года гитлеровское правительство объявило войну США. Этим актом Гитлер, видимо, преследовал две цели. Во-первых, он хотел показать, что Германия несмотря на потери всё ещё настолько сильна, что способна вести войну не только с Советским Союзом и Англией, но и с США. Во-вторых, он хотел скорее толкнуть Японию против Соединённых Штатов, чтобы исключить участие США в войне против Германии в Европе. Когда Сталин узнал об этом, он рассмеялся:
— Интересно, какими силами и средствами гитлеровская Германия собирается воевать с США? Для такой войны она не имеет ни авиации дальнего действия, ни соответствующих морских сил.
Меня не раз спрашивали: как удалось советским войскам разгромить сильнейшую немецко-фашистскую группировку и отбросить её остатки на Запад, ведь до битвы под Москвой Красная Армия отступала и нередко оказывалась в тяжёлом положении?
Главное состоит в том, что в начале ноября нам удалось своевременно установить сосредоточение ударных группировок противника на флангах нашего фронта обороны. Ударному кулаку противника мы противопоставили глубоко эшелонированную оборону, оснащённую достаточным количеством противотанковых и инженерных средств. Здесь же, на самых опасных направлениях, сосредоточились все наши основные танковые части. Советские войска в ходе битвы под Москвой тоже понесли большие потери, но они сохранили до конца оборонительных сражений боеспособность и непоколебимую веру в победу.
Красная Армия сорвала гитлеровский план, рассчитанный на захват Ленинграда и соединения немецких войск с финскими вооружёнными силами. Перейдя в контрнаступление в районе Тихвина, они разгромили противника и заняли город. Войска Южного фронта в то же время перешли в контрнаступление и заняли Ростов-на-Дону.
* * *
29 ноября я позвонил Верховному Главнокомандующему и, доложив обстановку, просил его дать приказ о начале контрнаступления. Сталин слушал внимательно, а затем спросил:
— А вы уверены, что противник подошёл к кризисному состоянию и не имеет возможности ввести в дело какую-нибудь новую крупную группировку?
— Противник истощён. Но если мы сейчас не ликвидируем опасные вражеские включения, немцы смогут подкрепить свои войска в районе Москвы крупными резервами за счёт северной и южной группировок своих войск, и тогда положение может серьёзно осложниться.
Сталин сказал, что он посоветуется с Генштабом.
Поздно вечером 29 ноября нам сообщили, что Ставка приняла решение о начале контрнаступления. Утром 30 ноября мы представили Ставке соображения Военного совета фронта по плану контрнаступления, исполненному графически на карте с самыми необходимыми пояснениями. Я направил с планом только коротенькую записку Василевскому: «Прошу срочно доложить наркому обороны тов. Сталину план контрнаступления Западного фронта и дать директиву, чтобы можно было приступить к операции, иначе можно запоздать с подготовкой».
Сроки наступления были оговорены следующие:
« 1. Начало наступления, исходя из сроков выгрузки и сосредоточения войск и их довооружения, установить для 1-й ударной, 20-й и 16-й армий и армии Голикова с утра 3-4 декабря, для 30-й армии – 5-6 декабря». На этом плане Сталин коротко написал «Согласен» и поставил подпись.
Ближайшая задача контрнаступления на флангах Западного фронта заключалась в том, чтобы разгромить ударные группировки группы армий «Центр» и устранить непосредственную угрозу Москве. Мы стремились только отбросить врага как можно дальше от Москвы и нанести ему возможно большие потери.
Несмотря на передачу нам дополнительно трёх армий, Западный фронт не имел численного превосходства над противником (кроме авиации). В танках и артиллерии превосходство было на стороне врага.
Сталин поручил Василевскому убедить Конева в успехе операции. «Иду на риск», — заметил Конев всё же в заключение.
Поздно вечером 4 декабря мне позвонил Верховный Главнокомандующий и спросил:
— Чем ещё помочь фронту, кроме того, что уже дано?
Я ответил, что необходимо получить поддержку авиации резерва Главнокомандования и ПВО страны, и снова попросил хотя бы две сотни танков: без них фронт не может быстро развивать контрнаступление.
— Танков пока нет, дать не можем, — сказал Сталин, — авиация будет. Я сейчас туда позвоню. Мы дали указания 5 декабря перейти в наступление Калининскому фронту, а 6 декабря – оперативной группе правого крыла Юго-Западного фронта в районе Ельца.
Наступило утро 6 декабря 1941 года. Войска Западного фронта севернее и южнее столицы начали контрнаступление, под Калинином и Ельцом двинулись вперёд соседние фронты. Развернулось грандиозное сражение. Охватив город со всех сторон, советские войска ворвались в него и после ожесточённых боёв в ночь на 15 декабря очистили Клин от противника. После того как Клин был нами освобождён, туда прибыл министр иностранных дел Великобритании А. Иден. В конце декабря мы прочли в «Правде» заявление Идена, сделанное им по возвращению в Лондон. Делясь впечатлениями о поездке в СССР, он сказал: «Я был счастлив увидеть некоторые из подвигов русских армий, подвигов поистине великолепных».
Если бы тогда Ставка могла нам дать хотя бы четыре армии на усиление (по одной для Калининского и Брянского фронтов и две для Западного фронта мы получили бы реальную возможность нанести врагу более сильный удар и ещё дальше отбросить его от Москвы, а возможно, даже выйти на линию Витебск-Смоленск-Брянск. Но в связи с разгромом немецко-фашистских войск под Москвой и успехами, достигнутыми в ходе контрнаступления, Верховный был настроен оптимистически. Отсюда появилась у него идея начать как можно быстрее общее наступление на всех фронтах, от Ладожского озера до Чёрного моря. Вечером 5 января 1942 года как член Ставки я был вызван к Верховному Главнокомандующему для обсуждения проекта плана общего наступления Красной Армии.
— Наша задача состоит в том, — рассуждал он, прохаживаясь, по-своему обыкновению, вдоль кабинета, — чтобы не дать немцам передышки, гнать их на запад без остановки, заставить их израсходовать свои резервы ещё до весны… Когда у нас будут новые резервы, а у немцев не будет больше резервов.
Главный удар планировалось нанести по группе армий «Центр». Силами Северо-Западного, Калининского, Западного и Брянского фронтов путём двустороннего охвата с последующим окружением и уничтожением главных сил в районе Ржева, Вязьмы и Смоленска.
Перед войсками Ленинградского, Волховского фронтов, правого крыла Северо-Западного фронта и Балтийским флотом ставилась задача разгромить группу армий «Север» и ликвидировать блокаду Ленинграда.
Войска Юго-Западного и Южного фронтов должны были нанести поражение группе армий «Юг» и освободить Донбасс, а Кавказский фронт и Черноморский флот – освободить Крым.
Переход в общее наступление предполагалось осуществить в крайне сжатые сроки. Изложив этот проект Сталин предложил высказаться присутствующим.
На западном направлении, — доложил я, — где создались более благоприятные условия и противник ещё не успел восстановить боеспособность своих частей надо продолжить наступление. Но для успешного исхода дела необходимо пополнить войска личным составом, боевой техникой и усилить резервами, в первую очередь танковыми частями. Если мы это пополнение не получим, наступление не может быть успешным. Что касается наступления наших войск под Ленинградом и на Юго-Западном направлении, то там наши войска стоят перед серьёзной обороной противника. Без наличия мощных артиллерийских средств они не смогут прорвать оборону, сами измотаются и понесут большие, ничем не оправданные потери. Я за то, чтобы усилить фронты западного направления и здесь вести более мощное наступление.
— Мы сейчас ещё не располагаем материальными возможностями, достаточными для того, чтобы обеспечить одновременное наступление всех фронтов, — поддержал меня Н.А. Вознесенский.
— Я говорил с Тимошенко, — сказал Сталин. – Он за то, чтобы действовать и на юго-западном направлении. Надо быстрее перемалывать немцев, чтобы они не смогли наступать весной. Кто ещё хотел бы высказаться? Ответа не последовало. Обсуждение предложений Верховного так и не состоялось.
Выйдя из кабинета Шапошников сказал: — Вы зря спорили: этот вопрос был заранее решён Верховным.
Однако я позволю себе ещё раз сказать, что зимой 1942 года мы не имели реальных сил и средств, чтобы воплотить в жизнь все эти правильные, с общей точки зрения, идеи о широком исполнении…, жизнь это подтвердила. Только продвижение войск Северо-Западного фронта развивалось успешно, так как здесь не было сплошной линии обороны противника.
В начале февраля 1942 года 3-я и 4-я ударные армии этого фронта, пройдя 250 километров, вышли на подступы к Великим Лукам, Демидову и Велижу.
Общий характер действий противника в этот период определялся приказом Гитлера от 3 января 1942 года, в котором в частности, говорилось: «Цепляться за каждый населённый пункт, не отступать ни на шаг обороняться до последнего патрона, до последней гранаты – вот что требует от нас текущий момент».
* * *
Здесь я хочу более подробно остановиться на действиях наших войск в районе Вязьмы.
27 января корпус генерала Белова прорвался через Варшавское шоссе и через три дня соединился с десантниками и партизанскими отрядами южнее Вязьмы. 1 февраля туда же вышли три стрелковые дивизии 33-й армии… под личным командованием генерала Ефремова и завязали бои на подступах к Вязьме… Корпус Белова, выйдя в район Вязьмы и соединившись с войсками Ефремова, сам лишался тыловых путей.
К тому времени немецкое командование перебросило из Франции и с других фронтов в район Вязьмы крупные резервы и сумело стабилизировать там свою оборону, прорвать которую мы так и не смогли. Находясь в тылу противника, корпус Белова, группа Ефремова и воздушно-десантные части вместе с партизанами в течение двух месяцев наносили врагу чувствительные удары, истребляя его живую силу и технику…
По просьбе генералов Белова и Ефремова командование фронта разрешило им в начале апреля выводить войска на соединение с нашими главными силами. При этом было строго указано выходить из района Вязьмы через партизанские районы, лесами, в общем направлении на Киров, где 10-й армией будет подготовлен прорыв обороны противника, так как там она была слабее.
Кавалерийский корпус генерала Белова и воздушно-десантные части в точности выполнили приказ и, совершив большой подковообразный путь, вышли на участок 10-й армии 18 июля 1942 года… Генерал Ефремов, считая, что путь на Киров слишком длинен для его утомлённой группы обратился по радио непосредственно в Генштаб с просьбой разрешить ему прорваться по кратчайшему пути – через реку Угру. Мне тут же позвонил Сталин и спросил, согласен ли я с предложением Ефремова. Я ответил категорическим отказом. Но Верховный сказал, что Ефремов опытный командарм и что надо согласиться с ним. Сталин приказал организовать встречный удар силами фронта. Такой удар был подготовлен и осуществлён 43-й армией, однако действий со стороны группы генерала Ефремова не последовало. Как выяснилось позже, немцы обнаружили отряд при движении к реке Угре и разбили его. Командарм Ефремов … был тяжело ранен и, не желая попасть в руки врага, застрелился. Вместе с Ефремовым погиб командующий артиллерией армии генерал-майор П.Н. Афросимов, способнейший артиллерист, большой души человек, и ряд других командиров, политработников и воинов, отличившихся в боях за Москву.
* * *
В феврале и марте Ставка требовала усилить наступательные действия на западном направлении, но у фронтов к этому времени истощились силы и средства.
Особенно плохо обстояло дело с боеприпасами. Так, из запланированных на первую декаду января боеприпасов нашему Западному фронту было предоставлено: 82-мм мин – 1 %, артиллерийских выстрелов – 20-30 %. А в целом за январь 50-мм мин – 2,7 %, 120-мм мин 36%, 82-мм мин -55%, артиллерийских выстрелов – 44%.[19]
Из-за отсутствия боеприпасов для реактивной артиллерии её пришлось частично отводить в тыл.[20]
В конце февраля-начале марта 1942 года Ставка приняла решение подкрепить силами и средствами фронты, действовавшие на западном направлении, но это уже было запоздалое решение.
Противник значительно усилил свою вяземскую группировку и, опираясь на заранее укреплённые позиции, начал активные действия против войск Западного и Калининского фронтов.
Наши неоднократные доклады и предложения о необходимости остановиться и закрепиться на достигнутых рубежах отклонялись Ставкой. Наоборот, директивой от 20 марта 1942 года Верховный вновь потребовал энергичнее продолжать выполнение ранее поставленной задачи. В конце марта-начале апреля фронты западного направления пытались выполнять эту директиву, требовавшую разгромить ржевско-вяземскую группировку, однако наши усилия оказались безрезультатными. Наконец, Ставка была вынуждена принять наше предложение о переходе к обороне.
Фактическое развитие событий доказало ошибочность решения Верховного на переход в январе в наступление всеми фронтами. Если бы девять армий резерва Ставки ВГК не были разбросаны по всем фронтам, а были бы введены в дело на фронтах западного направления, центральная группировка гитлеровских войск была бы разгромлена, что, несомненно, повлияло бы на дальнейший ход войны.
Немецкий генерал Вестфаль, описывая операцию «Тайфун» вынужден был признать, что «немецкая армия, ранее считавшаяся непобедимой, оказалась на грани уничтожения». Это же заявляют и другие генералы гитлеровской армии, такие, как К. Типпельскирх, Г. Блюментрит, Ф. Байерлейн, Ф. Мангейфель и многие другие.
В битве под Москвой гитлеровцы потеряли в общей сложности более полумиллиона человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тысяч машин и много другой техники. Немецкие войска были отброшены от Москвы на запад на 150-300 километров.
Неудачи немецких войск под Ленинградом, Ростовом, в районе Тихвина и битва под Москвой отрезвляюще подействовали на реакционные круги Японии и Турции, заставили их проводить более осторожную политику в отношении Советского Союза.
Не рассчитывали гитлеровцы на то, что их войска будут так измотаны и обескровлены, что уже в 1941 году, не достигнув ни одной стратегической цели, будут вынуждены перейти к обороне на всём советско-германском фронте.
Мне нередко задают вопрос о роли Сталина во время битвы под Москвой.
Сталин был всё это время в Москве, организуя силы и средства для разгрома врага. Надо отдать ему должное – он, возглавляя ГКО и опираясь на руководящий состав наркоматов, проделал колоссальную работу по созданию необходимых стратегических резервов и материально-технических средств для обеспечения контрнаступления под Москвой. Своей жёсткой требовательностью он добивался, можно сказать, почти невозможного.
Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву.
В ознаменование нашей Великой Победы Президиум ВС СССР Указом от 8 мая 1965 года присвоил городу Москве почётное звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Суровые испытания продолжаются
(1942 год)
В 1942 году вследствие ряда причин наша страна вновь подверглась суровым испытаниям. Чтобы глубже понять происшедшие события на юге нашей страны, необходимо в кратких чертах ознакомиться с военно-политической обстановкой, сложившейся к началу лета 1942 года. В январе была подписана декларация 26 стран, в которой они согласились использовать все силы и средства для борьбы против агрессивных государств и не заключать с ними сепаратного мира или перемирия.
С США и Англией была достигнута договорённость об открытии в 1942 году второго фронта в Европе. На советско-германском фронте наступило временное затишье. Обе стороны перешли к обороне.
Советский народ успешно осуществил перестройку народного хозяйства на военный лад. Советские вооружённые силы пока ещё сильно уступали противнику по своей численности и по технической оснащённости. Готовых резервов и крупных материальных ресурсов у нас в то время не было.
На вооружение поступали модернизированные артиллерийские 45-мм противотанковые пушки, новые 76-мм пушки. Формировались новые артиллерийские части и соединения. Наши ВВС получили возможность приступить к формированию воздушных армий. В июне мы уже имели 8 воздушных армий.
Общая численность нашей действующей армии возросла до 5,6 миллиона человек, количество танков достигло 3882, орудий и миномётов – 44,9 тысячи (без 50-мм миномётов, которых было 21,4 тысяч штук), боевых самолётов – 2221.[21]
Готовилось к летней кампании и немецко-фашистское командование, считавшее главным для себя Восточный фронт. Германия и её союзники имели на фронтах от Баренцева до Чёрного моря 217 дивизий и 20 бригад, причём 178 дивизий, 8 бригад и 4 военно-воздушных флота были только германскими. На остальных фронтах и в оккупированных странах благодаря отсутствию второго фронта Германия держала не более 20% своих вооружённых сил. К маю 1942 года враг на советско-германском фронте имел более чем шестимиллионную армию (в том числе 810 тысяч союзнических войск), 3229 танков и штурмовых орудий, до 57 тысяч орудий и миномётов, 3395 боевых самолётов.
В численности личного состава у войск противника по-прежнему имелось превосходство. У нас же было некоторое количественное превосходство в танках, но в качественном отношении значительная часть нашего танкового парка пока ещё уступала немецкому.
В общих чертах политическая и военная стратегия гитлеровского командования на ближайший период 1942 года сводилось к тому, чтобы разгромить наши войска на юге, овладеть районом Кавказа, выйти к Волге, захватить Сталинград, Астрахань и тем самым создать условия для уничтожения СССР как государства.
Гитлеровскому командованию удалось хорошо укомплектовать группу армий «Юг» и сосредоточить в ней силы, значительно превосходившие возможности наших войск юго-западного направления.
На московском стратегическом направлении в 1942 году предполагалось ограничиться проведением частных наступательных операций с целью ликвидации советских войск, глубоко вклинившихся в расположение немецкой обороны. Этим преследовалась двоякая цель. Во-первых, улучшить оперативное положение своих войск и, во-вторых, отвлечь внимание советского командования от южного стратегического направления, где противник готовил главный удар.
Весной 1942 года я часто бывал в Ставке, принимал участие в обсуждении у Верховного ряда принципиальных стратегических вопросов и хорошо знал, как он оценивал сложившуюся обстановку и перспективы войны на 1942 год.
Было совершенно очевидно, что Верховный не вполне верит обещаниям Черчилля и Рузвельта об открытии второго фронта в Европе, но и не теряет надежды, что они в какой-то степени попытаются осуществить что-либо в других районах. Сталин больше доверял Рузвельту и меньше Черчиллю.
Верховный предполагал, что немцы летом 1942 года будут в состоянии вести крупные наступательные операции одновременно на двух стратегических направлениях, вероятнее всего – на московском и на юге страны… Сталин больше всего опасался за московское, где у немцев находилось более 70 дивизий. Сталин предполагал, что гитлеровцы, не взяв Москву, не бросят свою главную группировку на захват Кавказа и юга страны. Он говорил, что такой ход приведёт немецкие силы к чрезмерной растяжке фронта, на что главное немецкое командование не пойдёт.
Сталин полагал, что мы пока ещё не имеем достаточно сил и средств, чтобы развернуть крупные наступательные операции.
На ближайшее время он считал нужным ограничиться активной стратегической обороной. Однако одновременно он полагал необходимым провести частные наступательные операции в Крыму, в районе Харькова, на льговско-курском и смоленском направлениях, а также в районах Ленинграда и Демянска.
Мне было известно, что Шапошников в принципе придерживался того же мнения, что и Сталин, но стоял на том, чтобы ограничиться активной стратегической обороной, измотать и обескровить врага в начале лета, а затем, накопив резервы перейти летом к широким контрнаступательным действиям.
Поддерживая в этом Шапошникова, я, однако, считал, что на западном направлении нам нужно обязательно в начале лета разгромить ржевско-вяземскую группировку, где немецкие войска удерживали обширный плацдарм и имели крупные силы.
На совещании, которое состоялось в ГКО в конце марта присутствовали Ворошилов, Тимошенко, Хрущёв, Баграмян, Шапошников, Василевский и я. Шапошников сделал очень обстоятельный доклад, который в основном соответствовал прогнозам Сталина. Но, учитывая численное превосходство противника и отсутствие второго фронта в Европе, он предложил на ближайшее время ограничиться активной обороной. Основные стратегические резервы, не вводя в дело, сосредоточить на центральном направлении и частично в районе Воронежа, где по мнению Генштаба летом 1942 года могут разыграться главные события.
При рассмотрении плана наступательной операции, представленного командованием юго-западного направления (Тимошенко, Баграмян, Хрущёв), маршал Шапошников выразил несогласие Генштаба с этим планом, пытаясь указать на трудности организации этой операции, на отсутствие резервов, которые здесь требовались.
Однако Верховный, не дав ему закончить, сказал:
— Не сидеть же нам в обороне сложа руки и ждать пока немцы нанесут удар первыми. Надо самим нанести ряд упреждающих ударов на широком фронте и прощупать готовность противника. Жуков предлагает развернуть наступление на западном направлении, а на остальных фронтах обороняться, я думаю, что это полумера.
Слово взял С.К. Тимошенко:
— Войска этого направления сейчас в состоянии и безусловно должны нанести немцам на юго-западном направлении упреждающий удар и расстроить их наступательные планы против Южного и Юго-Западного фронтов, в противном случае повторится то, что было в начале войны. Что касается перехода в наступление на западном направлении, я поддерживаю Жукова. Это будет сковывать силы противника.
Ворошилов поддержал мнение Тимошенко. Остальные молчали и, когда Сталин вновь говорил о целесообразности ряда ударов, одобрительно кивали.
Я ещё раз доложил своё несогласие с развёртыванием нескольких наступательных операций одновременно. Однако это соображение во внимание не было принято и последовало половинчатое решение.
Шапошников, на сей раз, к сожалению отмолчался.
Совещание закончилось указанием Сталина подготовить и провести в ближайшее время частные операции в Крыму, на харьковском направлении и в других районах.
Не успел я доехать до штаба фронта, как мне передали директиву о том, что с сего числа Калининский фронт выводится из моего подчинения и переключается в прямое подчинение Ставки, а главное командование западного направления, которое я возглавил, ликвидируется. Мне, конечно, было понятно – это за то, что я не согласился с решением Верховного относительно ряда упреждающих наступательных операций наших войск.
Вот как об этом вспоминает непосредственный участник событий Василевский: «Б.М. Шапошников, учитывая рискованность наступления из оперативного мешка, каким являлся барвенковский выступ для войск Юго-Западного фронта, предназначавшихся для этой операции, внёс предложение воздержаться от её проведения. Однако командование направления… заверило Сталина в полном успехе операции. Он дал разрешение на её проведение и приказал Генштабу считать операцию внутренним делом направления и ни в какие вопросы по ней не вмешиваться».[22]
* * *
В конце апреля наступление наших войск в Крыму окончилось неудачей. Войска Крымского фронта, возглавляемые генерал-лейтенантом Д.Т. Козловым, не достигнув цели, понесли значительные потери. Ставка приказала командованию фронта перейти к жёсткой обороне. Имея в своём распоряжении 21 дивизию и средства усиления, командование фронтом не сумело организовать в районе Керчи устойчивую оборону. 8 мая противник… прорвал оборону. Фронт потерял свои основные силы и почти всю боевую технику. Поражение в районе Керчи серьёзно осложнило положение в Севастополе, где защитники города с октября 1941 года вели напряжённую борьбу. Теперь, заняв Керчь, немецкое командование сосредоточило все силы против Севастополя.
4 июля после девяти месяцев осады, многодневных и ожесточённых сражений, в которых советские моряки, бойцы сухопутных частей обрели бессмертную славу, Севастополь был оставлен.
Как-то во время телефонного разговора со мной о Крымском фронте и юго-западном направлении Верховный сказал:
— Вот видите, к чему приводит оборона? (он намекал на моё выступление на мартовском совещании)… Мы должны крепко наказать Козлова, Мехлиса и Кулика за беспечность, чтобы другим было неповадно ротозейничать. Тимошенко скоро начнёт наступление на Харьков. Вы как – не изменили своего мнения о способе действий на юге?
Я ответил, что нет. Считаю, что на юге надо встретить противника ударами авиации и мощным огнём, нанести ему поражение упорной обороной, а затем перейти в наступление.
12 мая войска Юго-Западного фронта перешли в наступление в направлении на Харьков… Наши войска прорвали оборону противника и за трое суток продвинулись на 25-50 километров. Это дало, как вспоминает Василевский, повод Верховному бросить упрёк Генштабу в том, что по его настоянию он чуть было не отменил столь удачно развивающуюся операцию.
Утром 17 мая 11 немецких дивизий из состава армейской группы Клейста перешли в наступление из района Славянск-Краматорск… Оборона была прорвана. За двое суток враг продвинулся до 50 километров и вышел во фланг войскам левого крыла Юго-Западного фронта в районе Петровского.
Вечером 17 мая Василевский связался с начальником штаба 57-й армии генералом Анисовым…, тот доложил, что обстановка у них критическая.
Василевский немедленно связался с Верховным и предложил прекратить наступление Юго-Западного фронта, а часть сил из состава его ударной группировки бросить на ликвидацию угрозы, возникшей со стороны Краматорска. Иных способов спасти положение не было, поскольку в этом районе никакими резервами Ставки фронт не располагал.
Сталин не любил менять свои решения. Переговорив с Тимошенко, он заявил Василевскому, что «мер, принимаемых командованием направления, вполне достаточно, чтобы отразить удар врага против Южного фронта, а потому Юго-Западный фронт будет продолжать наступление…».[23]
Мне довелось присутствовать 18 мая в Ставке при одном из последующих разговоров Сталина с командующим Юго-Западным фронтом. Хорошо помню, что Верховный предлагал Тимошенко прекратить наступление и повернуть основные силы барвенковской группы против краматорской группировки противника. Тимошенко доложил, что Военный совет считает опасность краматорской группы явно преувеличенной и, следовательно, наступательную операцию прекращать нет оснований. Член Военного совета фронта подтвердил мнение Тимошенко.
23 мая 6-я, 57-я армии, часть сил 9-й армии и оперативная группа генерала Л.В. Бобкина оказались полностью окружёнными. Некоторым частям удалось вырваться из окружения, но многие не смогли это сделать и, не желая сдаваться, дрались до последней капли крови. В этих сражениях погиб заместитель командующего фронтом Ф.Я. Костенко. Там же пали смертью храбрых командующий 57-й армией генерал К.П. Подлас и командующий опергруппой генерал Л.В. Бобкин. Это были прекрасные командиры и верные сыны нашей партии и Родины.
* * *
Основная причина нашего поражения здесь кроется в ошибках Верховного Главнокомандующего, недооценившего серьёзную опасность, которую таило в себе юго-западное стратегическое направление, и не принявшего мер к сосредоточению крупных стратегических резервов на юге страны. Сталин игнорировал разумные советы об организации крепкой обороны на юго-западном направлении, с тем чтобы встретить там вражеские удары мощным огнём и контрударами наших войск. Он разрешил Военному совету фронта проводить необеспеченную операцию, одновременно затеяв наступления почти на всех фронтах. Это привело к растранжириванию многочисленных людских и материальных резервов.
Если бы на оперативных тыловых рубежах юго-западного направления стояло хотя бы несколько боеспособных резервных армий, не случилось бы этой катастрофы.
Вновь, как и в первые месяцы войны, на юге страны советские войска и наш народ испили полную чашу горечи суровых испытаний и тяжёлых отступлений. Командование фронтами юго-западного направления нередко теряло управление войсками и не всегда знало действительное положение своих армий и противника, вследствие чего принимало запоздалые решения, подчас не отвечающие реальной обстановке.
В результате потери Крыма, поражения наших войск в районе Барвенкова, в Донбассе и под Воронежем противник вновь захватил стратегическую инициативу и, подведя свежие резервы, начал стремительное продвижение к Волге и на Кавказ. К середине июля отбросив наши войска за Дон от Воронежа до Клетской от Суровикина до Ростова-на-Дону, войска противника завязали бой в большой излучине Дона, стремясь прорваться к Сталинграду. Создалась прямая угроза выхода противника на Волгу и на Северный Кавказ, угроза потери Кубани и всех путей, сообщения с Кавказом, потери важнейшего экономического района, снабжавшего нефтью армию и промышленность.
Кое-где в войсках вновь появились панические настроения и нарушения воинской дисциплины. Стремясь пресечь падение морального духа войск, Сталин издал 28 июля 1942 года приказ № 227. Этим приказом вводились жёсткие меры борьбы с паникёрами и нарушителями дисциплины, решительно осуждались «отступательные» настроения. В нём говорилось, что железным законом для действующих войск должно быть требование «ни шагу назад».
Во главе Главного политического управления РККА вместо Мехлиса был поставлен кандидат в члены Политбюро, секретарь ЦК ВКП(б) и Московского Комитета партии Щербаков. В ГПУ пришли способные политработники, хорошо проявившие себя в действующей армии.
Ставка создала новый Сталинградский фронт. Командование юго-западным направлением, как утратившее своё значение, было расформировано. Командующим новым Воронежским фронтом был назначен Н.Ф. Ватутин, командующим Брянским фронтом вместо Ф.И. Голикова – К.К. Рокоссовский.
В августе развернулись серьёзные сражения и на майкопском направлении. 10 августа вражеские войска захватили Майкоп, а 11 августа – Краснодар. К середине августа противник заняв Моздок, вышел на реку Терек.
Партийные организации Грузии, Армении, и Азербайджана взяли на себя снабжение действующих войск и их обслуживание: формировались вооружённые отряды, добровольцы вливались в ряды Красной Армии. Расчёты гитлеровцев на то, что с приходом немецко-фашистских войск народы Кавказа отойдут от Советского Союза, провалились.
К 22 июля в состав Сталинградского фронта входило 38 дивизий на 530-километровом фронте. Всего в составе фронта в тот период насчитывалось 187 тысяч человек, 360 танков, 337 самолётов, 7900 орудий и миномётов. Из них только 16 дивизий (войска 63-й и 62-й армии, две дивизии 64-й армии и по одной дивизии 4-й и 1-й танковых армий) смогли занять оборонительные позиции на главной полосе.
Соотношение сил было в пользу противника: в людях – 1,2:1, в танках – 2:1, в самолётах – 3,6:1. Только в артиллерии и миномётах силы были примерно равны.
В начале июля мне позвонил Сталин и спросил, известно ли мне, что немецкие войска прорвали оборону Калининского фронта и отрезали войска 39-й армии. Я ответил, что обстановка мне известна из данных Генштаба.
— Надо принимать меры, чтобы 39-я армия не оказалась в тяжёлом положении, — сказал Сталин. Я ответил, что Калининский фронт мне не подчинён. Он находится в прямом подчинении Ставки. Он продолжил: — Созвонитесь с Коневым, я дам ему указание. Затем Сталин спросил, могу ли я организовать наступление войск фронта, с тем, чтобы отвлечь внимание противника от юго-западного направления, где у нас сложилось тяжёлая обстановка.
Я ответил, что такое наступление будет полезным и его можно скоро подготовить. Одно – на левом крыле фронта из района Киров-Волхов, другое – на правом крыле в районе Погорелое Городище, которое желательно провести во взаимодействии с Калининским фронтом.
На левом крыле фронта в начале июля 10-я, 16-я и 61-я армии развернули наступление с рубежа Киров-Волхов в сторону Брянска. На правом крыле фронта усиленная 20-я армия во взаимодействии с левым крылом Калининского фронта в августе повела успешное наступление с целью разгрома противника в районе Сычёвка-Ржев. После прорыва немецкой обороны и выхода к железной дороге Ржев-Вязьма наступление войск Западного фронта было приостановлено. Город Ржев войскам Калининского фронта взять не удалось, и он остался в руках противника.
В районе Погорелое Городище-Сычёвка противник понёс большие потери. Чтобы остановить успешный удар войск Западного фронта немецкому командованию пришлось спешно бросить туда значительное количество дивизий, предназначенных для развития наступления на сталинградском и кавказском направлениях.
Немецкий генерал К. Типпельскирх по этому поводу писал:
«Прорыв удалось предотвратить только тем, что три танковые и несколько пехотных дивизий, которые уже готовились к переброске на Южный фронт, были задержаны и введены сначала для локализации прорыва, а затем и для контрудара».[24]
Командующим Сталинградским фронтом оставался генерал-лейтенант Гордов, сменивший Маршала Советского Союза Тимошенко.
К 30 августа войска Юго-Восточного фронта (командующий генерал-полковник Ерёменко) под давлением превосходящих сил противника отошли на внутренний обвод Сталинграда.
* * *
Вообще должен сказать, что Верховный понял, что неблагоприятная обстановка, сложившаяся летом 1942 года, является следствием его личной ошибки, допущенной при утверждении плана действий наших войск в летней кампании этого года. И он не искал других виновников среди руководящих лиц Ставки и Генштаба.
27 августа 1942 года, когда я находился в районе Погорелое Городище, где мы проводили наступательную операцию, мне позвонил Поскрёбышев. Он сообщил, что накануне, 26 августа, ГКО, рассматривая обстановку на юге страны, принял решение о назначении меня заместителем Верховного Главнокомандующего. Александр Николаевич предупредил, чтобы я в 14.00 находился на КП и ждал звонка Сталина… даже из этих слов я понял, что ГКО находится в большой тревоге за исход борьбы в районе Сталинграда.
Вскоре по ВЧ позвонил Верховный. Справившись о положении дел на Западном фронте, он сказал:
— Вам нужно как можно быстрее приехать в Ставку. Оставьте за себя начальника штаба. Продумайте, кого следует назначить командующим вместо вас.
Не заезжая в штаб фронта, я выехал в Москву. Поздно вечером этого же дня прибыл в Кремль. Сталин работал у себя в кабинете. Там же находились некоторые члены ГКО.
Верховный сказал, что у нас плохо идут дела на юге и может случиться, что немцы возьмут Сталинград. Не лучше складывается обстановка и на Северном Кавказе. Он объявил, что ГКО решил назначить меня заместителем Верховного Главнокомандующего и послать меня в район Сталинграда. Сейчас там находятся Василевский, Маленков и Малышев. Маленков остаётся с вами, а Василевский должен возвратиться в Москву. Когда вы можете вылететь? – спросил меня Верховный.
Я ответил, что мне потребуются сутки для изучения обстановки и 29-го я смогу вылететь в Сталинград.
Вылетев 29 августа, на полевой площадке в районе Камышина на Волге, меня встретил Василевский.
Генерал-лейтенант Гордов находился на передовых позициях. Обстановку доложил начальник штаба Никишев и начальник оперативного отдела Рухле… Мне показалось, что они не совсем уверены в том, что в районе Сталинграда противника можно остановить. На КП 1-й гвардейской армии мы встретились с Гордовым и командующим 1-й гвардейской армии Москаленко. Чувствовалось, что оба хорошо знают силу противника и возможности своих войск.
Обсудив обстановку и состояние наших частей, мы пришли к выводу, что подготовить войска сосредоточиваемых армий к контрудару мы сможем не ранее чем 6 сентября.
Я тут же доложил об этом по ВЧ Верховному. Он выслушал меня и сказал, что у него возражений нет. Василевский 1 сентября вылетел из Сталинграда.
2 сентября я и Москаленко были на переднем крае, изучая обстановку. Вернувшись на КП, я позвонил Сталину. Сталин сказал: — Я говорил с Ерёменко, он доложил, что части, обороняющие город, сильно истощены и не в состоянии долго сдерживать наступление противника. Просил начать контрудар с севера не позднее утра 4 сентября.
Я ответил, что раньше утра 6-го удар начать невозможно, так как неподготовленное наступление наверняка не даст положительных результатов.
— Наступление начать не позже 5-го, приказал Сталин. Вы за это отвечаете. – И положил трубку.
По просьбе командарма Москаленко атака 1ГА была мною перенесена на 3 сентября. Утром 3 сентября после артподготовки войска 1ГА перешли в наступление.. Дальнейшее продвижение 1ГА было остановлено непрерывными ударами авиации и контратаками танков и пехоты противника, поддержанных артиллерией из района Сталинграда. На рассвете 5 сентября по всему фронту 24-й, 1ГА-й и 66-й армий началась артиллерийская и авиационная подготовка.
За день сражения наши части продвинулись всего лишь на 2-4 километра. Третий и четвёртый день сражений прошли главным образом в состоянии огневых средств и боях в воздухе.
10 сентября, ещё раз объехав части и соединения армии, я окончательно укрепился во мнении, что прорвать боевые порядки противника и ликвидировать его коридор наличными силами и в той же группировке невозможно. В таком же духе высказались генералы Гордов, Москаленко, Малиновский, Козлов Д.Т. и другие. В тот же день я передал Верховному по ВЧ:
— Армейские удары не в состоянии опрокинуть противника.
Верховный ответил, что было бы неплохо, если бы я прилетел в Москву и доложил лично эти вопросы.
Днём 12 сентября я вылетел в Москву и через четыре часа был в Кремле, куда Верховный вызвал и Василевского.
Александр Михайлович доложил о подходе в район Сталинграда новых частей противника из района Котельникова, о ходе сражения в районе Новоросссийска, а также о боях на грозненском направлении. Верховный резюмировал: — Рвутся любой ценой к грозненской нефти. Ну теперь послушаем Жукова.
Я повторил то же, о чём докладывал два дня назад по телефону.
— Что нужно Сталинградскому фронту, чтобы ликвидировать коридор противника и соединиться с юго-Западным фронтом? – спросил Сталин.
— Минимум ещё одну полнокровную общевойсковую армию, танковый корпус, три танковые бригады и не менее 460 орудий гаубичной артиллерии. Кроме того, на время операции необходимо дополнительно сосредоточить не менее одной воздушной армии. Василевский полностью поддержал мои расчёты.
Верховный достал свою карту с расположением резервов Ставки и пристально её рассматривал.
Мы с Василевским отошли подальше от стола в сторону и очень тихо говорили о том, что видимо, надо искать какое-то иное решение.
— А какое «иное» решение? – вдруг подняв голову, спросил Сталин.
— Вот что, — продолжал он, — поезжайте в Генштаб и подумайте хорошенько, что надо предпринять в районе Сталинграда. Завтра в 9 часов вечера снова соберёмся здесь.
Мы решили предложить Сталину следующий план действий: первое — активной обороной продолжать изматывать противника; второе – приступить к подготовке контрнаступления, чтобы нанести противнику в районе Сталинграда такой удар, который резко изменил бы стратегическую обстановку на юге страны в нашу пользу.
Нам было ясно, что основные удары нужно наносить по флангам сталинградской группировки, прикрывавшимися королевскими румынскими войсками. Ориентировочный расчёт показывал, что раньше середины ноября подготовить необходимые силы и средства для контрнаступления будет невозможно. Тех сил и средств, которыми к осени 1942 года располагала Германия, не хватит для завершения задач ни на Северном Кавказе, ни в районе Дона и Волги. И безусловно, они будут вынуждены, так же как и после разгрома под Москвой, перейти к обороне на всех направлениях.
Нам было известно, что наиболее боеспособные в вермахте 6-я армия Паулюса и 4-я танковая армия Гота, втянувшись в изнурительные бои в районе Сталинграда, не в состоянии завершить операцию по захвату города и увязли там.
Генштаб на основе данных фронтов изучил сильные и слабые стороны немецких, венгерских, итальянских и румынских войск. Войска сателлитов по сравнению с немецкими были хуже вооружены, менее опытны, недостаточно боеспособны даже в обороне.
И самое главное – их солдаты, да и многие офицеры не хотели умирать за чуждые им интересы на далёких полях России, куда их направили Гитлер, Муссолини, Антонеску, Хорти и другие фашистские лидеры.
Наши войска занимали охватывающее положение и могли сравнительно легко развернуться на плацдармах в районе Серафимовича и Клетской.
Вечером, в 22.00 мы были у Верховного, в его кабинете. Поздоровавшись за руку, что с ним редко бывало, он возмущённо сказал:
— Десятки, сотни тысяч советских людей отдают свою жизнь в борьбе с фашизмом, а Черчилль торгуется из-за двух десятков «Харикейнов». И затем совершенно спокойным тоном без всякого перехода продолжал:
— Ну, что надумали? Кто будет докладывать?
— Кому прикажете, — ответил Александр Михайлович, — мнение у нас одно.
Верховный подошёл к нашей карте
— Это что у вас?
— Это предварительные намётки плана контрнаступления в районе Сталинграда, — пояснил Василевский.
— Что это за группировки войск в районе Серафимовича?
— Это новый фронт. Его нужно создать, чтобы нанести мощный удар по оперативному тылу группировки противника, действующей в районе Сталинграда.
— Хватит ли сейчас сил для такой большой операции?
Я доложил, что, по нашим подсчётам, через 45 дней операцию можно обеспечить необходимыми силами и средствами и хорошо её подготовить.
— А не лучше ли ограничиться ударом с севера на юг и с юга на север вдоль Дона? – спросил Сталин.
— Нет, в этом случае немцы могут быстро повернуть из-под Сталинграда свои бронетанковые дивизии и парировать наши удары. Удар же наших войск западнее Дона не даёт возможности противнику из-за речной преграды быстро сманеврировать и своими резервами выйти на встречу нашим группировкам.
— А не далеко ли замахнулись ударными группировками?
Мы с Александром Михайловичем объяснили, что операция делится на два этапа: 1) прорыв обороны, окружение сталинградской группировки немецких войск и создание прочного внешнего фронта, чтобы изолировать эту группировку от внешних сил; 2) уничтожение окружённого противника и пресечение попыток противника деблокироваться.
— Над планом надо ещё подумать и подсчитать наши ресурсы, — сказал Верховный. – А сейчас главная задача удержать Сталинград и не допустить продвижения противника в сторону Камышина.
Вошёл Поскрёбышев и доложил, что звонит Ерёменко. Закончив телефонный разговор, Верховный сказал:
— Ерёменко докладывает, что противник подтягивает к городу танковые части. Завтра надо ждать нового удара. Дайте сейчас же указание о немедленной переброске через Волгу 13-й гвардейской дивизии Родимцева из резерва Ставки и посмотрите, что ещё можно направить туда завтра, — сказал он Василевскому.
Обратившись ко мне Верховный приказал:
— Позвоните Гордову и Голованову, чтобы они незамедлительно вводили в дело авиацию. С утра Гордов пусть атакует, чтобы сковать противника. Сами вылетайте обратно в войска Сталинградского фронта и приступайте к изучению обстановки в районе Клетской и Серафимовича. Василевскому через несколько дней надо вылететь на Юго-Восточный фронт к Ерёменко для изучения обстановки на его левом фланге. То, что мы здесь обсуждали, кроме нас троих, пока никто не должен знать.
Через час я вылетел в штаб Сталинградского фронта.
16 сентября дивизия Родимцева отбила Мамаев Курган. Помогли сталинградцам удары авиации под командованием Голованова и Руденко, а также атаки и артиллерийские обстрелы с севера войск Сталинградского фронта по частям 8-го армейского корпуса немцев.
Небезынтересно, что по этому поводу пишет немецкий офицер, находившийся в армии Паулюса: «В то же время части нашего корпуса понесли огромные потери, отражая 6 сентября яростные атаки противника, который пытался прорвать наши отсечные позиции с севера. Дивизии, находившиеся на этом участке, были обескровлены, в ротах оставались, как правило, по 30-40 солдат».[25]
В момент затишья по приказу Верховного на КП 1-й гвардейской армии приехали Ерёменко и Хрущёв, Голованов и я также находились там. Ерёменко сказал, что он хотел бы ознакомиться с обстановкой и обсудить положение в Сталинграде. Гордов и Москаленко познакомили А.И. Ерёменко со всеми деталями обстановки и своими соображениями.
В конце сентября меня вновь вызвал Сталин в Москву для более детального обсуждения плана контрнаступления. Во время обсуждения обстановки на участке Сталинградского фронта Верховный спросил меня, что собой представляет генерал Гордов. Я доложил, что Гордов в оперативном отношении подготовленный генерал, но как-то не может поладить со штабом и командным составом.
Сталин сказал, что в таком случае во главе фронта следует поставить другого командующего. Кандидатом на этот пост я предложил генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского, Василевский поддержал меня. Тут же было решено: Сталинградский фронт переименовать в Донской, а Юго-Восточный – в Сталинградский. Командующим Донским фронтом назначить Рокоссовского, начальником штаба фронта – М.С. Малинина.
Кандидатом на должность командующего во вновь создаваемый Юго-Западный фронт был назван генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин.
После детального обсуждения вопроса по плану контрнаступления Верховный, обращаясь ко мне сказал:
— Вылетайте обратно на фронт. Принимайте все меры, чтобы ещё больше измотать и обессилить противника. Посмотрите ещё раз намеченные планом районы сосредоточения резервов и исходные районы для Юго-Западного фронта и правого крыла Сталинградского фронта, особенно в районе Серафимовича и Клетской. Товарищу Василевскому с этой же целью следует выехать ещё раз на левое крыло Юго-Восточного фронта и там изучить все вопросы, намеченные планом.
Мы с Василевским вернулись в Ставку, где ещё раз был обсуждён план контрнаступления и после этого утверждён. Карту-план контрнаступления подписали Жуков и Василевский, «Утверждаю» подписал Верховный. Сталин сказал Василевскому:
— Не раскрывая смысла нашего плана, надо опросить командующих фронтами в отношении их дальнейших действий.
Мне было приказано лично проинструктировать Военный совет Донского фронта о характере действий войск с целью всемерной помощи Сталинграду.
В середине октября противник вновь развернул новое наступление в надежде уже на этот раз обязательно покончить со Сталинградом. Дни и ночи не прекращались бои на улицах города, в домах, на заводах, на берегу Волги – везде и всюду.
11 ноября, когда наши войска заканчивали грандиозную подготовку к контрнаступлению, противник ещё раз пытался наступать, но безрезультатно. За период с июля по ноябрь в сражениях в районе Дона, Волги и Сталинграда противник потерял до 700 тысяч человек, более тысячи танков, свыше 2 тысяч орудий и миномётов, до 1400 самолётов.
Южнее Сталинграда 51-я армия частным контрударом вышибла противника из озёрных дефиле и прочно удерживала в своих руках выгодный рубеж Сарпа-Цаца-Барманцак. Этот район, по рекомендациям Василевского, и был избран как исходный для ноябрьского контрнаступления левого крыла Сталинградского фронта.
Более трёх месяцев продолжались ожесточённые сражения за Сталинград. В середине ноября 1942 года оборонительными сражениями в районе Сталинграда и Северного Кавказа заканчивался первый период Великой Отечественной войны.
К ноябрю 1942 года за 16 месяцев потери вражеских войск достигли более двух с половиной миллионов человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
Это были лучшие кадры немецких войск, которые в конце первого периода войны фашистскому командованию заменить уже было нечем.
Какие же выводы можно сделать из нашей вооружённой борьбы с фашистской Германией за первый период войны?
Надо прямо сказать, при тех условиях обороны, в которых враг обрушил свои мощные удары на нашу страну, полностью избежать поражения в начале войны было невозможно.
В первые же дни немецкое командование ввело в действие 190 хорошо оснащённых дивизий, 3712 танков, более 50 тысяч орудий и миномётов, около 5000 самолётов. Численность войск, брошенных на Советский Союз, составляла 5,5 миллиона человек.
Надо сказать, что в общем количестве войск мы не многим уступали противнику, но как известно, значительная часть наших войск находилась на Дальнем Востоке, в Закавказье и на Севере с целью обеспечения государственных границ от возможной агрессии со стороны Японии¸ Турции и других агрессивных государств.
Те же войска, которые дислоцировались в наших западных округах, и те, которые были по решению правительства переброшены из внутренних округов в западные военные округа весной 1941 года, по количеству и по боевому качеству значительно уступали противнику, особенно на тех направлениях, где он наносил главные удары.
Здесь количественное и качественное превосходство войск противника было велико – в 5-6 и более раз, особенно в танках, артиллерии и авиации.
В общем количестве танков мы несколько превосходили немецкую армию, но большинство наших танков было устаревших конструкций с лёгким вооружением…
Полноценных танков Т-34 и КВ мы имели на всю Красную Армию менее 1500 единиц, часть из которых находилась в учебных центрах.
Наши войска, не приведённые в полную боевую готовность, не могли выдержать сокрушительных, заранее подготовленных ударов и в ряде случаев совершали неорганизованные отходы, теряя при этом вооружение и боевую технику.
Это положение усугублялось тем, что наше командование как в тактическом, так и в оперативно-стратегическом плане ещё не имело всестороннего опыта ведения боевых действий и войны в целом.
И всё же даже в этих условиях, если бы войска приграничных округов были заранее приведены в полную боевую готовность, можно было встретить удары врага более организованно, нанести ему в первые же дни войны более значительные потери, дольше задержать на западных оборонительных рубежах и потерять меньше своих войск.
Даже в сентябре-октябре 1941 года и летом 1942 года, когда Западный, Резервный, Брянский фронты и фронты юго-западного направления имели заранее организованную оборону, мы всё-таки полностью не смогли отразить мощные удары противника.
Совсем иначе пошли наши дела, когда советские войска получили в свои руки достаточное количество современных танков, самолётов, боевую и вспомогательную технику. Энтузиазм воинов подкреплялся надёжным оружием, и они дрались более эффективно, со значительными результатами.
Даже сравнительно небольшая война с Финляндией показала нашу слабую боевую готовность. Частично принятые меры по устранению выявленных недостатков в деле обороны в 1940-м и в начале 1941 года были несколько запоздалыми.
Современная боевая техника – весьма сложный комплекс. Она требует много времени для освоения и подготовки кадров, поэтому давать её войскам нужно не тогда, когда «заговорят пушки», а задолго до войны.
Надо отдать должное Сталину: когда началась война, он никого не упрекал в отсутствии у нас необходимого количества новейших танков, самолётов и другой боевой техники, так как знал, что в нерешённости этих вопросов прежде всего виноват он сам и его ближайшее окружение.
Наши довоенные оперативно-стратегические методы вооружённой борьбы вошли в некоторое противоречие с практикой войны, с реальной действительностью.
Неблагоприятно сложившаяся обстановка вынудила нас отступать и вести оборонительные сражения на широких фронтах, вести боевые действия в условиях окружения, к чему мы практически не были готовы. Всем нам пришлось переучиваться современным способам ведения вооружённой борьбы в сложных условиях. Стратегическая оборона 1941 и 1942 годов, хотя и с большими потерями, всё же выполнила задачу в важнейших и решающих битвах под Москвой, Ленинградом и Сталинградом.
Советское Верховное Главнокомандование, Генштаб, командование и штабы войск уже приобрели значительный опыт в организации и ведении активных оборонительных сражений и контрнаступательных операций.
К концу 1942 года страна была превращена в военный лагерь. Героическую работу провели труженики органов тыла Красной Армии. За полтора года войны общий объём воинских перевозок по железным дорогам страны составил 6 миллионов 350 тысяч вагонов.
* * *
Что же представлял собой с качественной стороны враг, с которым советские войска сражались в первом периоде войны?
Опьянённые лёгкими победами над армиями стран Западной Европы, отравленные геббельсовской пропагандой, твёрдо верящие в возможность лёгкой победы над Красной Армией и в своё превосходство над всеми другими народами, немецкие войска вторглись в пределы нашей Родины с надеждой на лёгкую победу. Особенно воинственно были настроены молодые солдаты и офицеры, состоявшие в фашистских организациях, личный состав бронетанковых войск и авиации.
Мне приходилось в первые месяцы войны допрашивать пленных и, должен сказать, чувствовалось, что они верили всем авантюристическим посулам Гитлера.
Что касается боеспособности немецких солдат и офицеров в первом периоде войны, их специальной выучки и боевого воспитания, то надо сказать, что они, безусловно, были на высоком уровне во всех родах войск, особенно в танковых войсках и авиации. В боях и полевой службе немецкий солдат знал своё дело, был упорен, самоуверен и дисциплинирован.
В целом советскому солдату пришлось иметь дело с опытным и сильным врагом, у которого вырвать победу было не так-то просто.
Штабы немецких частей, соединений и армий были обучены современным способам организации боя, сражения и операций. В ходе сражений они настойчиво добивались от войск выполнения поставленных задач. При этом умели организовать взаимодействие с боевой авиацией, которая часто бомбовыми ударами прокладывала путь сухопутным войскам.
В основе всех просчётов высших штабов немецких вооружённых сил лежала явная недооценка силы и могущества советского народа и социалистического строя.
Итак, первый период Великой Отечественной войны закончился провалом стратегических планов гитлеровского командования и значительным истощением сил и средств Германии.
Этот главный итог борьбы с немецко-фашистскими войсками в значительной степени предопределил дальнейший ход Второй мировой войны.
Стратегическое поражение противника
в районе Сталинграда
От своих войск немецкое командование требовало подготовить несокрушимую активную оборону, чтобы создать в 1943 году условия для победного окончания войны.
К началу ноября 1942 года немцы имели на советско-германском фронте 266 дивизий, в составе которых насчитывалось 6,2 миллиона человек, около 51,7 тысячи орудий и миномётов, 5080 танков и штурмовых орудий, 3500 боевых самолётов и 194 боевых корабля[26]. К этому же сроку в действующих войсках Советского Союза находилось около 6,6 миллиона человек, 77,8 тысячи орудий и миномётов, 7350 танков, 4544 боевых самолётов[27]. В стратегическом резерве Ставки к этому периоду накопилось 27 стрелковых дивизий, 5 отдельных танковых и механизированных корпусов, 6 отдельных стрелковых бригад.
Советские Вооружённые Силы научились сохранять в глубокой тайне свои намерения, производить в широких масштабах дезинформацию и вводить противника в заблуждение.
В оперативном приказе главного немецкого командования сухопутных войск от 14 октября 1942 года говорилось: «Сами русские в ходе последних боёв серьёзно ослаблены и не смогут зимой 1942/1943 года располагать такими же большими силами, какие у них имелись в прошлую зиму».
Активные действия наших войск летом и осенью 1942 года на западном направлении должны были… создать у противника впечатление, что именно здесь… мы готовим зимнюю операцию. Поэтому.. к началу ноября для усиления группы армий «Центр» было переброшено двенадцать дивизий, не считая других средств.
Оперативные просчёты немцев усугубились плохой разведкой, которая не сумела вскрыть подготовку нами крупнейшего контрнаступления в районе Сталинграда, где участвовали 10 общевойсковых, одна танковая и четыре воздушные армии, ряд отдельных танковых, механизированных, кавалерийских корпусов, бригад и отдельных частей, 15,5 тысячи орудий и миномётов, 1463 танка и САУ, 1350 боевых самолётов.
После войны бывший начальник штаба оперативного руководства немецко-фашистскими вооружёнными силами Иодль признал, что они не смогли раскрыть сосредоточение советских войск против левого фланга армии Паулюса:
«Мы абсолютно не имели представления о силе русских войск в этом районе. Раньше здесь ничего не было, и внезапно был нанесён удар большой силы, имевший решающее значение».
Основная и решающая роль во всестороннем планировании и обеспечении контрнаступления под Сталинградом неоспоримо принадлежит Ставке Верховного Главнокомандования и Генштабу.
Имели место также высказывания, что 6 октября 1942 года Военный совет Сталинградского фронта в лице генерал-полковника Ерёменко и члена Военного совета Хрущёва направил в Ставку свои предложения по организации и проведению контрнаступления по собственной инициативе.
При проработке плана действий в штабе Юго-Западного фронта, кроме меня присутствовали и другие представители Ставки: по вопросам артиллерии – генерал Н.Н. Воронов, авиации – генералы А.А. Новиков и А.Е. Голованов, по бронетанковым войскам – генерал Я.Н. Федоренко, которые помогли глубже отработать вопросы применения и взаимодействия родов войск.
Завершив отработку планов войск Сталинградского фронта 12 ноября, мы с Василевским позвонили Сталину и сказали, что нам нужно лично доложить ему ряд соображений, связанных с предстоящей операцией.
13 ноября утром мы были у Сталина. Он был в хорошем расположении духа и подробно расспрашивал о положении дел под Сталинградом, о ходе подготовки контрнаступления. Контрнаступательную операцию можно начать войсками Юго-Западного фронта (Ватутин) и Донского (Рокоссовский) фронтов 19 ноября, а Сталинградского (Ерёменко) фронта – на сутки позже. Разница в сроках объясняется тем, что перед Юго-Западным фронтом стоят более сложные задачи. Он находится на большем удалении от района Калач – хутор Советский, и ему предстоит форсировать Дон. Верховный слушал нас внимательно. По тому, как он не спеша раскуривал свою трубку, разглаживал усы и ни разу не перебил наш доклад, было видно, что он доволен.
Мы с Василевским обратили внимание Верховного на то, что немецкое командование, как только наступит тяжёлое положение в районе Сталинграда и Северного Кавказа, вынуждено будет подбросить часть своих войск из других районов, в частности из района Вязьмы, на помощь южной группировке. Чтобы этого не случилось, необходимо срочно подготовить и провести наступательную операцию в районе севернее Вязьмы. Для этой операции мы предложили привлечь войска Калининского и Западного фронтов.
-Это было бы хорошо, — сказал Сталин. Но кто из вас возьмётся за это дело? Я сказал: — Сталинградская операция во всех отношениях уже подготовлена. Василевский может взять на себя координацию действий войск в районе Сталинграда, я могу взять на себя подготовку наступления Калининского и Западного фронтов.
Верховный, согласившись с нашим предложением сказал:
— Вылетайте завтра утром в Сталинград. Проверьте ещё раз готовность войск и командования к началу операции.
14 ноября я вновь был в войсках Ватутина, Василевский – у Ерёменко. 17 ноября я был вызван в Ставку для разработки операции войск Калининского и Западного фронтов.
* * *
19 ноября в 7 часов 30 минут войска Юго-Западного фронта мощными ударами прорвали оборону 3-й румынской армии одновременно на двух участках: 5-я танковая армия под командованием генерал-лейтенанта П.Л. Романенко с плацдарма юго-западнее Серафимовича и 21-я армия под командованием генерал-майора И.М. Чистякова с плацдарма у Клетской.
51, 57 и 64-я армии Сталинградского фронта начали действия 20 ноября на сутки позже, чем войска Юго-Западного и Донского фронтов.
23 ноября в 16 часов в районе хутора Советского встретились войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов, замкнув кольцо окружения сталинградской группировки противника в междуречье Дона и Волги.
После окружения 6-й армии и соединений 4-й танковой армии немецких войск наступил самый ответственный момент – не дать вражеским войскам вырваться из окружения.
Поздно вечером 28 ноября мне позвонил Верховный и спросил, знаком ли я с последними данными об обстановке в районе Сталинграда. Я ответил утвердительно. Тогда Верховный Главнокомандующий приказал подумать и доложить ему свои соображения по ликвидации немецких войск, окружённых под Сталинградом. Мною утром 29 ноября была послана Верховному телеграмма следующего содержания:
«Окружённые немецкие войска сейчас, при создавшейся обстановке, без вспомогательного удара противника из района Нижне-Чирская–Котельниково на прорыв и выход из окружения не рискнут. Чтобы не допустить соединения нижне-чирской и котельниковской группировки противника со сталинградской и образования коридора необходимо:- Как можно быстрее отбросить нижне-чирскую и котельниковскую группировки и создать плотный боевой порядок на линии Обливская-Тормосин-Котельниково. В районе Нижне-Чирская–Котельниково держать две группы танков, не меньше 100 танков в каждой группе в качестве резерва;
— Окружённую группу противника под Сталинградом разорвать на две части. Для чего нанести рассекающий удар в направлении Бол. Россошка. Навстречу ему нанести удар в направлении Дубинский, высота 135. На всех остальных участках перейти к обороне и действовать лишь отдельными отрядами в целях истощения и изматывания противника.
После раскола окружённой группы противника на две части нужно… в первую очередь уничтожить более слабую группу, а затем всеми силами ударить по группе в районе Сталинграда.
Жуков № 02 29.11.42г.»
После доклада Верховному я разговаривал по ВЧ с Василевским. Он согласился с моими соображениями.
В период с 20 ноября по 8 декабря планирование и подготовка наступления Калининского и Западного фронтов были закончены. 8 декабря 1942 года фронтам была дана директива за подписью Сталина и Жукова.
Командование Калининского фронта в лице генерал-лейтенанта М.А. Пуркаева со своей задачей справилось. Группа войск Западного фронта должна была, в свою очередь, прорвать оборону противника и двинуться навстречу войскам Калининского фронта, с тем, чтобы замкнуть кольцо окружения вокруг ржевской группировки немцев. Но случилось так, что Западный фронт оборону противника не прорвал.
Верховный потребовал от меня немедленно выехать к Коневу и разобраться в причинах неудачи и, если окажется возможным, выправить там положение.
Хотя наши войска здесь не достигли поставленной Ставкой цели – ликвидации ржевского выступа, но своими активными действиями они не позволили немецкому командованию перебросить значительные подкрепления с этого участка в район Сталинграда. Более того, чтобы сохранить за собой ржевско-вяземский плацдарм, гитлеровское командование вынуждено было перебросить в район Вязьма-Ржев четыре танковые и одну моторизованную дивизии.
В первой половине декабря операция по уничтожению окружённого противника войсками Донского и Сталинградского фронтов развивалась крайне медленно. Сталин нервничал и требовал от командования фронтов быстрейшего завершения разгрома окружённой группировки.
Чтобы спасти общее положение, гитлеровское командование прежде всего считало необходимым стабилизировать фронт обороны своих войск на сталинградском направлении и под его прикрытием отвести с Кавказа группу армий «А».
Для этих целей оно сформировало новую группу армий «Дон», командующим которой был назначен генерал-фельдмаршал Монштейн. Он начал с 12 декабря операцию деблокирования окружённых войск только из района Котельникова вдоль железной дороги. За три дня боёв противнику удалось продвинуться к Сталинграду на 45 километров и даже переправиться через реку Аксай-Есауловский. Наши части отошли за реку Мышкову.
Василевский подтянул и ввёл здесь в сражение усиленную 2-ю гвардейскую армию генерала Р.Я. Малиновского, удар которой окончательно решил участь сражения в пользу советских войск.
16 декабря начали наступление войска Юго-Западного фронта и 6-я армия Воронежского фронта с целью разгрома противника в районе Среднего Дона и выхода в тыл Тормосинской группировки. В начале января войска Ватутина вышли на линию Новая Калитва-Кризское-Чертково-Волошино-Миллерово-Морозовск, создав прямую угрозу всей Кавказской группировке немцев . В конце декабря в ГКО состоялось обсуждение дальнейших действий. Верховный предложил:
— Руководство по разгрому окружённого противника нужно передать в руки одного человека. Сейчас действия двух командующих фронтами мешают ходу дела. Кто-то предложил передать все войска в подчинение Рокоссовскому. Сталин сказал, чтобы немедленно была дана директива о передаче трёх армий 57-й, 64-й, 62-й Сталинградского фронта под командование Рокоссовского. Такая директива была дана 30 декабря 1942 года.
Вскоре Сталинградский фронт был переименован в Южный фронт, который стал действовать на ростовском направлении. 2 февраля 1943 года командующим Южным фронтом был назначен генерал-лейтенант Малиновский.
В январе 1943 года внешний фронт в районе Дона усилиями Юго-Западного и Сталинградского фронтов был отодвинут на 200-250 километров на запад.
31 января была окончательно разгромлена южная группа немецких войск. Её остатки во главе с командующим 6-й армии генерал-фельдмаршалом Паулюсом сдались в плен, а 2 февраля сдались и остатки Северной группы.
Битва в районе Сталинграда была исключительно ожесточённой. Лично я сравниваю её лишь с битвой за Москву.
С 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года было уничтожено 32 дивизии и 3 бригады противника, остальные 16 дивизий потеряли от 50 до 75 процентов личного состава.
Общие потери вражеских войск в районе Дона, Волги, Сталинграда составили около 1,5 миллиона человек, до 3500 танков и штурмовых орудий, 12 тысяч орудий и миномётов, до 3 тысяч самолётов и большое количество другой техники.
Такие потери сил и средств катастрофически отразились на общей стратегической обстановке и до основания потрясли всю военную машину гитлеровской Германии. Враг окончательно потерял стратегическую инициативу.
Победа наших под Сталинградом ознаменовала собой начало коренного перелома в войне в пользу Советского Союза.
«Поражение под Сталинградом, — пишет генерал-лейтенант Вестфаль, — повергло в ужас как немецкий народ, так и его армию. Никогда прежде за всю историю Германии не было случая столь страшной гибели такого количества войск».
За успешное общее руководство контрнаступлением в районе Сталинграда и достигнутые при этом результаты крупного масштаба в числе других я был награждён орденом Суворова 1 степени номер один. Орденом Суворова 1 степени были награждены Василевский, Воронов, Ватутин, Ерёменко, Рокоссовский.
Советские войска, развивая зимнее наступление на запад, заняли Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Курск, Харьков и ряд других важных районов.
Разгром фашистских войск на Курской дуге
В начале марта противник из района Люботина нанёс сильный контрудар по войскам левого крыла Воронежского фронта. Неся потери, наши войска отступали.
16 марта 1943 года противник вновь овладел Харьковом и начал развивать удар на белгородском направлении.
В то время как представитель Ставки я находился на Северо-Западном фронте, которым командовал Маршал Советского Союза Тимошенко. Войска фронта, выйдя на реку Ловать, готовились к её форсированию.
Примерно 13 или 14 марта на КП Северо-Западном фронта позвонил Сталин. Ознакомив Верховного Главнокомандующего с обстановкой на реке Ловать, я доложил ему, что… видимо, войскам фронта временно придётся прекратить свои наступательные действия. Верховный согласился с этим, в заключение разговора сказал, что командование Западным фронтом поручено Соколовскому. Я предложил поставить Конева, который до этого командовал Западным фронтом, во главе Северо-Западного фронта, а Тимошенко послать на юг представителем Ставки помогать командующим Южным и Юго-Западным фронтами. Он хорошо знал те районы, а обстановка там за последние дни вновь сложилась для наших войск невыгодная.
— Хорошо, сказал Сталин, — я скажу Поскрёбышеву, чтобы Конев позвонил вам, вы дайте ему все указания, а сами завтра выезжайте в Ставку. Надо обсудить обстановку на Юго-Западном и Воронежском фронтах. Возможно, — добавил он, – вам придётся выехать в район Харькова.
Через некоторое время мне позвонил Конев.
— Что произошло, Иван Степанович? — спросил я.
— ГКО освободил меня от командования войсками Западного фронта. Командующим фронтом назначен Соколовский.
— Верховный приказал назначить вас командующим Северо-Западным фронтом вместо Тимошенко, который в качестве представителя Ставки будет послан на южное крыло нашего фронта, — сказал я. Конев поблагодарил и сказал, что завтра утром выезжает к месту нового назначения.
Утром следующего дня я выехал в Ставку. В Москву прибыл в тот же день поздно вечером. Перекусив на ходу, отправился в Кремль. В кабинете Верховного, кроме членов Политбюро, были руководители ведомств, конструкторы и директора ряда крупнейших заводов. Из их докладов отчётливо было видна всё ещё существовавшая большая напряжённость в промышленности. Обещанная помощь из США по ленд-лизу поступала плохо.
После совещания, закончившегося после трёх часов ночи, Сталин прошёл ко мне и спросил: — Вы обедали?
— Нет.
— Ну тогда пойдёмте ко мне да заодно и поговорим о положении под Харьковом. Придётся вам утром вылететь на фронт к Голикову (командующий Воронежским фронтом) и разобраться на месте с обстановкой. Думаю, что Голикова надо заменить. Тут Верховный позвонил члену Военного совета Воронежского фронта Хрущёву и резко отчитал его за непринятие Военным советом мер против контрударных действий противника. При этом Сталин припомнил все его ошибки на посту члена Военного совета Юго-Западного фронта, допущенные в процессе летних сражений 1942 года.
После обеда, вернее уже завтрака, я попросил разрешения поехать в Наркомат обороны, чтобы приготовиться к отлёту на Воронежский фронт. В семь часов утра вылетел в штаб Воронежского фронта. Как только сел в самолёт сейчас же крепко заснул и проснулся лишь от толчка при посадке на аэродроме.
В тот же день позвонил по ВЧ Сталину и обрисовал обстановку. После захвата Харькова части противника без особого сопротивления продвигались на белгородском направлении и заняли Казачью Лопань.
— Необходимо, — докладывал я Верховному, — срочно двинуть сюда всё что можно из резерва Ставки, в противном случае немцы захватят Белгород и будут развивать удар на курском направлении.
Через час из разговора с Василевским я узнал, что Верховным принято решение и уже передано распоряжение о выдвижении в район Белгорода 21-й армии, 1-й танковой армии и 64-й армии. Танковая армия поступала в мой резерв.
18 марта Белгород был захвачен танковым корпусом СС. Однако дальше на север противник прорваться не мог. В конце марта положение на Курской дуге стабилизировалось, та и другая сторона готовились к решающей схватке. Чтобы укрепить руководство Воронежским фронтом, Верховный приказал назначить командующим генерал-полковника Ватутина. Вступив в командование, Николай Фёдорович с присущей ему энергией взялся за укрепление войск фронта и создание глубоко эшелонированной обороны.
Уже в 1942 году гитлеровцы должны были бросить почти десять процентов своих сухопутных сил, находившихся на советско-германском фронте, против партизан. В 1943 году на эти же цели были оттянуты полицейские соединения СС и СД, полмиллиона солдат вспомогательных частей, более 25 дивизий действующей армии.
Войска фронтов в полосе своих действий вели усиленную авиационную и войсковую разведку. В результате в начале апреля у нас имелись достаточно полные сведения о положении войск противника в районе Орла, Сум, Белгорода и Харькова.
Я послал Верховному доклад № 256 от 8 апреля 1943 года. В конце шестого пункта доклада говорилось:
«Переход наших войск в наступлении в ближайшие дни с целью упреждения противника считаю нецелесообразным. Лучше будет, если мы измотаем противника на нашей обороне, выбьем его танки, а затем, введя свежие резервы, переходим в общее наступление, окончательно добьём основную группировку противника».
Наши прогнозы в основном не разошлись с тем, что в действительности замышляло немецко-фашистское командование. Вот что говорилось в приказе Гитлера от 15 апреля 1943 года:
«Ставка Гитлера
15 апреля 1943г.
Совершенно секретно.
Только для командования
Я решил, как только позволят условия погоды, провести наступление «Цитадель» — первое наступление в этом году. Этому наступлению придаётся решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и решительным успехом. Наступление должно дать в наши руки инициативу на всю весну и лето текущего года. Победа под Курском должна явиться факелом для всего мира».[28]
9 или 10 апреля в штаб Воронежского фронта прибыл Василевский. С ним мы ещё раз в деталях обсудили мой доклад, обстановку, соображения по дислокации оперативно-стратегических резервов и характер предстоящих действий. У нас с Александром Михайловичем было единое мнение по всем вопросам.
Составив проект директивы Ставки о расположении резервов Ставки и создании Степного фронта, мы послали его Верховному Главнокомандующему за нашими подписями.
В этом документе предусматривалась дислокация армий и фронтовых средств усиления…
Общее руководство на месте войсками Центрального и Воронежского фронтов и контроль за выполнением указаний Ставки были возложены Верховным Главнокомандованием на меня.
10 апреля мне позвонил в Бобрышево Верховный и приказал 11 апреля прибыть в Москву для обсуждения плана летней кампании 1943 года, в частности на Курской дуге.
Весь день 12 апреля мы с Василевским и его заместителем А.И. Антоновым готовили нужные материалы для доклада Верховному, всё к вечеру было готово.
Вечером 12 апреля мы с Василевским и Антоновым поехали в Ставку. Верховный, пожалуй, как никогда, внимательно выслушал наши соображения. Он согласился с тем, чтобы главные усилия сосредоточить в районе Курска, но по-прежнему опасался за московское стратегическое направление.
Обсуждая в Ставке… план действий наших войск, мы пришли к выводу о необходимости построить прочную, глубоко эшелонированную оборону на всех важнейших направлениях, и в первую очередь в районе Курской дуги.
В связи с этим командующим фронтами были даны надлежащие указания. Войска начали зарываться глубже в землю. Формируемые и подготавливаемые стратегические резервы Ставки было решено пока в дело не вводить, сосредоточивая их ближе к наиболее опасным районам.
Таким образом, уже в середине апреля Ставкой было принято предварительное решение о преднамеренной обороне. (Выделено мною. – Г.Ж) Окончательное решение …было принято Ставкой в начале июня 1943 года. В то время фактически уже стало известно о намерении противника нанести удар с привлечением для этого крупнейших танковых группировок и использованием новых танков «тигр» и «пантера» и самоходных орудий «фердинанд».
Главными действующими фронтами на первом этапе летней кампании Ставка считала Воронежский, Центральный, Юго-Западный и Брянский. Выбор момента для перехода в наступление Ставка поставила в зависимость от обстановки. Тогда же был решён вопрос о районах сосредоточения основных резервов Ставки.
Василевскому и Антонову было приказано приступить к разработке всей документации по принятому плану, с тем чтобы ещё раз обсудить его в начале мая.
Мне было поручено 18 апреля вылететь на Северо-Кавказский фронт в армии К.Н. Леселидзе, А.А. Гречко, а также в корпус А.А. Лучинского. Войска этого фронта вели напряжённые сражения с целью ликвидации таманской группировки противника.
Наступление 56-й армии Гречко на станицу Крымская началось 29 апреля… Войска армии захватили станицу, важный железнодорожный узел. Дальнейшее наступление 56-й армии, как и других армий фронта, из-за отсутствия возможностей было приостановлено.
Подготавливая Красную Армию к летней кампании пересматривались и совершенствовались организационные формы фронтов и армий. В их состав дополнительно включались артиллерийские, истребительно-противотанковые и миномётные части. Войска усиливались средствами связи.
Стрелковые войска оснащались более современным автоматическим, противотанковым вооружением и объединялись в стрелковые корпуса, с тем чтобы улучшить управление в общевойсковых армиях и сделать эти армии более мощными. Формировались новые артиллерийские, миномётные и реактивные части, вооружённые более качественными системами. В распоряжение фронтов и ПВО страны начали поступать зенитные дивизии. Это резко усилило противовоздушную оборону.
К лету 1943 года кроме девяти отдельных механизированных и танковых корпусов, были сформированы и хорошо укомплектованы пять танковых армий новой организации, имевших в своём составе, как правило, два танковых и один механизированный корпуса. Кроме того, для обеспечения прорыва обороны противника и усиления армий было создано 18 тяжёлых танковых полков.
По количеству авиации наши ВВС уже превосходили немецкие ВС. Каждый фронт имел свою воздушную армию численностью в 700-800 самолётов. Эти самолёты по своим ТТД тогда превосходили немецкие самолёты.
Большое количество артиллерии было переведено на моторизованную тягу. Машинами отечественного производства и «студебеккерами» были обеспечены инженерные части и войска связи. В распоряжении Управления тылом Красной Армии поступили десятки новых автомобильных батальонов и полков, что резко повысило маневренность и работоспособность всей службы тыла.
Много внимания уделялось подготовке людских резервов. В 1943 году в различных учебных центрах обучались и переподготавливались до двух миллионов человек…
На 1 июля 1943 года в резерве Ставки было несколько общевойсковых, две танковые и одна воздушная армии.
К июлю 1943 года в составе нашей действующей армии было свыше 6,6 миллиона человек, 105 тысяч орудий и миномётов, около 2200 установок полевой реактивной артиллерии, более 10 тысяч танков и САУ, почти 10300 боевых самолётов.[29]
К концу 1943 года в Советских ВС насчитывалось уже 2,7 миллиона коммунистов и примерно столько же воинов-комсомольцев. В тылу врага активно действовали более 120 тысяч партизан. Наибольшее количество партизанских отрядов действовало в Белоруссии (около 650 отрядов). В целом перед Курской битвой наши вооружённые силы, как в количественном, так и в качественном отношении превосходили немецко-фашистские войска.
Для проведения задуманной операции против Курского выступа германское командование сосредоточило 50 лучших своих дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, 11 танковых батальонов и дивизионов штурмовых орудий, в которых насчитывалось до 2700 танков и штурмовых орудий и свыше 2000 самолётов (почти 65% всех боевых самолётов, находившихся на Востоке). Были готовы к боевым действиям свыше 900 тысяч человек.
Верховный Главнокомандующий потребовал предупредить чтобы войска фронтов были в полной готовности встретить наступление. Для срыва ожидаемого наступления готовилась авиационная и артиллерийская контрподготовка.
Несколько иначе смотрел на складывавшуюся ситуацию генерал Ватутин. Не отрицая обязательных мероприятий, он предлагал Верховному нанести противнику упреждающий удар по его белгородско-харьковской группировке.
В этом его полностью поддерживал член Военного совета Хрущёв. Начальник Генштаба Василевский, Антонов и другие работники Генштаба не разделяли это предложение Военного совета Воронежского фронта. Я полностью был согласен с мнением Генштаба, о чём и доложил Сталину. Верховный сам всё ещё колебался.
После многократных обсуждений Верховный наконец решил встретить наступление немцев огнём всех видов глубоко эшелонированной обороны, мощными ударами авиации и контрударами оперативных и стратегических резервов.
К предстоящим сражениям в районе Курска наши войска готовились в мае, июне. Лично мне пришлось оба эти месяца провести в войсках Воронежского и Центрального фронтов, изучая обстановку и ход подготовки войск к предстоящим действиям.
Так Ставка и Генштаб считали, что наиболее сильную группировку противник создаёт в районе Орла для действий против Центрального фронта. На самом деле более сильной оказалась группировка против Воронежского фронта, где действовали 8 танковых, одна моторизованная дивизии, 2 отдельных батальона тяжёлых танков и дивизион штурмовых орудий. В них было до 1500 танков и штурмовых орудий. Танковая группировка противника, действовавшая против Центрального фронта насчитывала лишь 1200 танков и штурмовых орудий.
Этим в значительной степени и объясняется то, что Центральный фронт легче справится с отражением наступления противника, чем Воронежский фронт.
На рубеже Ливны-Старый Оскол были сосредоточены войска Степного фронта, которые предназначались для парирования случайностей и в качестве мощной фронтовой группировки для перехода в общее контрнаступление.
Фронтом командовал генерал-полковник Конев, членом Военного совета был генерал-лейтенант И.З. Сусайков, начальником штаба фронта – генерал-лейтенант М.В. Захаров.
30 июня мне позвонил Сталин. Он сказал, чтобы я оставался на Орловском направлении для координации действий Центрального, Брянского и Западного фронтов.
— На Воронежский фронт, — сказал Верховный, – командируется Василевский.
Глубина инженерного оборудования фронтов достигла свыше 150 километров, а с учётом Степного фронта общая глубина составила 250-300 километров.
2 июля Ставка предупредила командующих фронтами о возможном переходе противника в наступление в период с 3 по 6 июля. Вечером 4 июля я был в штабе Рокоссовского. После разговора по ВЧ с Василевским, который находился в штабе Ватутина, я уже знал о результатах боя с передовыми отрядами противника в районе Белгорода. Стало известно, что сведения, полученные в тот день от захваченного пленного солдата 168-й пехотной дивизии, о переходе противника в наступление на рассвете 5 июля подтверждаются и что, как это было предусмотрено планом Ставки, Воронежским фронтом будет проведена артиллерийская и авиационная контрподготовка. Эти сведения я тут же передал Рокоссовскому и Малинину.
В третьем часу утра Рокоссовскому позвонил командующий 13-й армией генерал Н.П. Пухов и доложил, что захваченный пленный сапёр 6-й пехотной дивизии сообщил о готовности немецких войск к переходу в наступление. Ориентировочно время называлось – 3 часа утра 5 июля.
Рокоссовский спросил меня: — Что будем делать? Докладывать в Ставку или дадим приказ на проведение контрподготовки?
— Время терять не будем, Константин Константинович. Отдавай приказ, как предусмотрено планом фронта и Ставки, а я сейчас позвоню Сталину и доложу о принятом решении.
Меня тут же соединили с Верховным. Он был в Ставке и только что кончил говорить с Василевским. Я доложил о полученных данных и принятом решении провести контрподготовку. Сталин одобрил решение и приказал чаще его информировать.
— Буду в Ставке ждать развития событий, — сказал он.
В 2 часа 20 минут был отдан приказ о начале контрподготовки. В 2 часа 30 минут, когда уже вовсю шла контрподготовка, позвонил Верховный и спросил:
— Ну как? Начали?
— Начали.
— Как ведёт себя противник?
Я доложил, что противник пытался отвечать на нашу контрподготовку отдельными батареями, но быстро замолк.
— Хорошо. Я ещё позвоню.
Начатое противником в 5 часов 30 минут недостаточно организованное и не везде одновременное наступление говорило о серьёзных потерях, которые она нанесла противнику.
Ещё в ходе сражений под утро 9 июля на КП Центрального фронта мне позвонил Сталин и, ознакомившись с обстановкой, сказал: — Не пора ли вводить в дело Брянский фронт и левое крыло Западного фронта, как это было предусмотрено планом?
— Здесь на участке Центрального фронта, противник уже не располагает силой, способной прорвать оборону наших войск, — ответил я.
— Следует немедленно переходить в наступление всеми силами Брянского фронта и левым крылом Западного фронта, без которых Центральный фронт не может успешно провести запланированное контрнаступление.
— Согласен. Выезжайте к Попову и вводите в дело Брянский фронт. Когда можно будет начать наступление Брянского фронта?
— Двенадцатого.
— Согласен.
Из анализа действий противника чувствовалось, что в районе Белгорода его войсками руководят более инициативные и опытные генералы. Это действительно было так. Во главе группировки стоял генерал-фельдмаршал Манштейн, один из способнейших и волевых полководцев немецко-фашистских войск.
12 июля Брянский фронт и усиленная 11-я ГА Западного фронта (И.Х. Баграмян) перешли в наступление…, прорвали оборону и начали продвижение вперёд в общем направлении на Орёл. Центральный фронт 15 июля перешёл в контрнаступление.
В течение 12 июля на Воронежском фронте шла величайшая битва танкистов, артиллеристов, стрелков и лётчиков, особенно на прохоровском направлении, где наиболее успешно действовала 5-я гвардейская танковая армия под командованием генерала П.А. Ротмистрова.
В тот же день на КП Брянского фронта мне позвонил Верховный и приказал срочно вылететь в район Прохоровки и принять на себя координацию действий Воронежского и Степного фронтов. 13 июля я прибыл в штаб 69-й армии Воронежского фронта, где находился также командующий Степным фронтом генерал Конев.
Там уже узнали, что мне поручено руководство войсками обоих фронтов. Вечером того же дня встретился на КП 69-й армии с Василевским. Главнокомандующий поручил ему выехать на Юго-Западный фронт и организовать там наступательные действия, которые должны были начаться с переходом в контрнаступление Воронежского и Степного фронтов.
16 июля противник окончательно прекратил атаки и начал отвод своих тылов на Белгород. 23 июля главные силы противника были отведены на белгородский оборонительный рубеж. Войска Воронежского и Степного фронтов, выйдя 23 июля к переднему краю немецкой обороны, не смогли сразу перейти в контрнаступление, хотя этого и требовал Верховный Главнокомандующий.
Нужно было пополнить запасы горючего, боеприпасов и другие виды материально-технического обеспечения, организовать взаимодействие всех родов войск, тщательную разведку, произвести некоторую перегруппировку войск, особенно артиллерии и танков. По самым жестким подсчётам, на всё это необходимо было минимум восемь суток. Скрепя сердце после многократных переговоров Верховный утвердил наше решение, так как иного выхода тогда не было.
В районе Белгорода контрнаступление началось 3 августа, спустя 20 дней после перехода в контрнаступление Центрального, Брянского и Западного фронтов.
В 6 часов утра 5 августа в Белгород ворвались войска 8-й, 305-й и 375-й стрелковых дивизий. Очистив город от противника, войска армий Степного фронта, взаимодействуя с войсками Воронежского фронта, быстро устремились вперёд.
Вечером 5 августа 1943 года столица нашей Родины Москва салютовала в честь доблестных войск Брянского, Западного, Центрального фронтов, занявших Орёл, и войск Степного и Воронежского фронтов, занявших Белгород. Это был первый артиллерийский салют в ходе Великой Отечественной войны в честь боевой доблести советских войск.
18 августа противник нанёс контрудар (войскам Воронежского фронта) из района Ахтырки.
Для его ликвидации в сражение была дополнительно введена 4-я гвардейская армия, прибывшая из резерва Ставки. Командовал ею генерал Г.И. Кулик. К сожалению, он плохо справлялся со своими обязанностями, и вскоре его пришлось освободить от командования.
17 августа армии Степного фронта подошли вплотную к Харькову, завязав сражение на его окраинах.
23 августа войска Степного фронта вошли в город Харьков, восторженно встреченные жителями.
Когда мы с А.И. Антоновым и Василевским докладывали Верховному о возможности окружения в районе Орла группировки противника, для чего надо было значительно усилить левое крыло Западного фронта, Сталин сказал:
— Наша задача скорее изгнать немцев с нашей территории, а окружать их мы будем, когда они станут послабее. Мы не настояли на своём предложении, а зря.
23 августа 1943 года взятием Харькова завершилось это крупнейшее сражение Великой Отечественной войны в районе Курска, Орла, Белгорода, Харькова, Богодухова и Ахтырки.
Общие потери вражеских войск за пятьдесят дней боёв составили около 500 тысяч человек, 1500 танков, в том числе большое количество «тигров» и «пантер», три тысячи орудий и свыше 3700 самолётов. Такие потери фашистское руководство уже не могло восполнить никакими тотальными мерами.
В битве под Курском войска Центрального и Воронежского фронтов по силам и средствам несколько превосходили противника. Конкретно это выражалось так: в людях – в 1,4, орудиях и миномётах – в 1,9, в танках – в 1,2 и в самолётах – в 1,4 раза.
Сюда были привлечены значительно большие силы, чем в предыдущих крупных наступательных операциях. Например, под Москвой принимали участие 17 малочисленных общевойсковых армий без танковых соединений, в районе Сталинграда 14 общевойсковых армий, 1 танковая армия и несколько механизированных корпусов. В контрнаступлении под Курском участвовало 22 мощные общевойсковые, 5 танковых, 6 воздушных армий и крупные силы АДД.
Попытка Гитлера вырвать стратегическую инициативу из рук советского командования кончилась полным провалом, и с тех пор до конца войны немецкие войска вынуждены были вести только оборонительные сражения. Это свидетельствовало об истощении Германии. Никакие силы уже не могли её спасти. Вопрос был лишь во времени.
25 августа 1943 года я был вызван в Ставку для обсуждения обстановки и дальнейших задач общего наступления.
В сражениях за Украину
Итак 25 августа я прибыл в Ставку. Верховный только что закончил совещание с членами ГКО, на котором был заслушан доклад о плане производства самолётов и танков во втором полугодии 1943 года.
В 1943 году было произведено 35 тысяч превосходных самолётов всех видов, более 24 тысячи танков и САУ. Тут и по количеству, и по качеству мы уже намного опередили Германию. Гитлеровское командование специально предписало войскам избегать встречных боёв с нашими тяжёлыми танками.
Поинтересовавшись делами на Воронежском и Степном фронтах, Верховный спросил, получена ли директива о продолжении наступления на Днепр, и как расценивают фронты свои возможности. Я доложил, что войска фронтов имеют большие потери, их нужно серьёзно подкреплять личным составом и боевой техникой, особенно танками.
— Хорошо, — сказал Сталин, — об этом мы поговорим позже, а сейчас давайте послушаем Антонова о ходе наступления на других направлениях. Было ясно: немцы принимают все меры, чтобы остановить начавшееся наступление Калининского, Западного, Брянского и Юго-Западного фронтов. По всем данным, их оборона готовилась на линии река Нарва-Псков-Витебск-Орша-рекаСож-река Днепр-река Молочная. Гитлеровцы называли этот рубеж «восточным валом», о который разобьётся Красная Армия.
— Какие задачи выполняют партизанские отряды? – спросил Сталин.
— Главным образом по дезорганизации железнодорожных перевозок на участках Полоцк-Двинск, Могилёв-Жлобин, Могилёв-Кричёв, – доложил Антонов.
Сейчас я уже не помню всех деталей этого совещания, но основным было указание Верховного Главнокомандующего принять все меры к быстрому захвату Днепра и реки Молочной, с тем, чтобы противник не успел превратить Донбасс и Левобережную Украину в пустынный район.
Это было правильное требование, так как фашисты, отступая, в звериной злобе предавали всё ценное огню и разрушениям. Они взрывали фабрики, заводы, превращали в руины города и сёла, уничтожали электростанции, доменные и мартеновские печи, жгли школы, больницы. Гибли тысячи детей, женщин, стариков.
Дав соответствующие указания Антонову, Сталин приказал мне вместе с маршалом Я.Н. Федоренко, генералом Смородиновым и маршалом Н.Д. Яковлевым рассмотреть, что можно выделить для Воронежского и Степного фронтов.
Учитывая важность задач, поставленных перед фронтами, я доложил в тот же вечер Верховному о количестве людей, танков, артиллерии и боеприпасов, которые следовало бы сейчас же им передать.
Верховный Главнокомандующий долго рассматривал свою таблицу наличия вооружения и то, что мной намечалось для фронтов. Затем, взяв как обычно, синий карандаш, он сократил всё почти на 30-40 процентов.
— Остальное, — сказал он, — Ставка даст, когда фронты подойдут к Днепру.
В тот же день я вылетел в район боевых действий фронтов. Несколько позже, 6 сентября, из Ставки прибыла директива, фронты, действия которых я координировал, получили задачу продолжать наступление с выходом на среднее течение Днепра и захватить там плацдармы.
Воронежский фронт под командованием Ватутина должен был нанести удар на Ромны-Прилуки-Киев.
Степной фронт под командованием Конева – наступать на полтавско-кременчугском направлении.
Я по-прежнему поддерживал связь с Василевским, который координировал действия войск Юго-Западного и Южного фронтов. Начавшееся наступление подопечных мне фронтов развивалось крайне медленно. В первой половине сентября, понеся значительные потери, противник начал отвод войск из Донбасса и района Полтавы. Введённая в сражение на участке Воронежского фронта 3-я ГТА Рыбалко, прибывшая из резерва Ставки, развернула решительное преследование противника в направлении Днепра. Кроме того, с 5 октября 1943 года Воронежский фронт был усилен войсками 13-й и 60-й армий под командованием генералов Пухова и И.Д. Черняховского.
Степной фронт получил от Воронежского фронта 52-ю и 5-ю гвардейскую армию генералов К.А. Коротеева и А.С. Жадова.
Не имея сил сдержать усилившийся натиск наших войск, немецкие войска начали отход на Днепр. Фронты приняли все меры к тому, чтобы на плечах отходящих войск противника захватить плацдармы на реке Днепр и начать с ходу форсирование этой крупнейшей водной преграды.
Чтобы ещё выше поднять морально-политический дух войск при форсировании крупных водяных рубежей, Ставка 9 сентября 1943 года приказала за форсирование Десны представить начальствующий состав к награждению орденами Суворова, а за форсирование Днепра – к присвоению звания Героя Советского Союза.
Степной фронт, освободив Полтаву, 23 сентября подходил передовыми частями своей левофланговой группировки к Днепру.
Механизированные части 3-й ГТА и часть сил 40-й и 47-й армий захватили плацдарм на Днепре в районе Великого Букрина. Они должны были быстро расширить его для обеспечения ввода главной группировки Воронежского фронта в обход Киева с юга и юго-запада.
Севернее Киева, в район Лютежа, с ходу форсировали Днепр части армии генерала Н.Е. Чибисова.
Войска, форсировавшие Днепр, проявили величайшее упорство, храбрость и мужество. Ожесточённые бои, завершившиеся крупным успехом, развернулись и на участке Степного фронта при форсировании Днепра.
К концу сентября, сбив оборону вражеских войск, наши войска форсировали Днепр на участке 700 километров, от Лоева до Запорожья, и захватили ряд важнейших плацдармов. За успешное форсирование Днепра и проявленные при этом героизм, мужество и высокое мастерство, за штурм обороны на Днепре около двух с половиной тысяч солдат, сержантов, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза.
В период с 12 октября по 23 декабря войска Воронежского фронта[30] провели Киевскую операцию. Вначале предполагалось разгромить киевскую группировку и захватить Киев, нанося удар с букринского плацдарма. Затем от этого плана пришлось отказаться, так как противник стянул сюда крупные силы киевской группировки. Оставив это направление для вспомогательных действий, мы перенесли главный удар севернее Киева с лютежского плацдарма, поскольку там немецко-фашистские войска ослабили свой северный участок.
Новый план освобождения Киева и развития наступления на Коростень-Житомир-Фастов был представлен на утверждение Верховному. После рассмотрения в Генштабе и увязки с Центральным фронтом план был утверждён.
25 октября начала осуществляться перегруппировка 3-й гвардейской танковой армии с букринского плацдарма. Ей предстояло совершить путь около двухсот километров вдоль Днепра, а это значило – вдоль фронта противника.
В общей сложности к операции готовилось около двух тысяч орудий и миномётов, пятьсот «катюш».
Утром 3 ноября неожиданно для фашистских войск началось наступление на Киев с лютежского плацдарма, которое поддерживалось 2-й воздушной армией.
Но надо было ещё сковать противника и в районе букринского плацдарма. С этой целью 1 ноября перешли в наступление 27-я и 40-я армии фронта. Немецкое командование приняло этот удар за главный и срочно перебросило сюда дополнительные силы, в том числе танковую дивизию СС «Райх», находившуюся в резерве генерал-фельдмаршала Манштейна. Нам только это и нужно было.
Однако 3 и 4 ноября наступление 38-й армии на Киев развивалось медленно. Чтобы решительно повлиять на ход операции, решили ввести в дело 3-ю ГТА Рыбалко. К утру 5 ноября она перерезала дорогу Киев-Житомир, создав этим благоприятные условия для войск, наступавших непосредственно на Киев. 38-я армия генерала К.С. Москаленко к исходу 5 ноября была уже на окраинах Киева, а в 4 часа утра 6 ноября вместе с танковым корпусом генерала Кравченко освободила столицу Украины. Большая заслуга в успешном выполнении этой операции принадлежит командующему фронтом генералу армии Н.Ф. Ватутину…
В боях за Киев активную роль сыграла чехословацкая бригада под командованием полковника Людвика Слободы. 139 солдат и офицеров этой героической бригады были удостоены высоких советских наград.
После освобождения Киева войска фронта, отбрасывая противника на запад, овладели Фастовом, Житомиром и рядом других городов… До конца декабря шли напряжённые бои. Противник вновь рвался к Киеву, однако все его попытки были безрезультативными. В конце декабря — начале января обе стороны перешли к обороне. Теперь линия фронта наших войск проходила в 150 километрах к западу и 50 километрах к югу от Киева.
Гитлеровцы понимали, что с потерей Украины окончательно рухнет их фронт на юге нашей страны, будет потерян Крым и советские войска могут в скором времени выйти к своим государственным границам.
Несмотря на жёсткие требования Гитлера и генерал-фельдмаршала Манштейна, битва за Днепр была проиграна. Не помогла и ещё одна попытка восстановить оборону в районе Кременчуга, Днепропетровска и Запорожья. В ходе ожесточённых сражений запорожский плацдарм противника был ликвидирован войсками 3-го Украинского фронта. Наши войска освободили Днепропетровск.
Из телефонных переговоров с Верховным, Генштабом и Василевским мне было известно, что 4-й Украинский фронт, разгромив противника на реке Молочной успешно продвинулся вперёд и захватил плацдарм на Перекопском перешейке, заперев в Крыму немецкие войска.
В середине декабря я был вызван в Ставку. Прибыл и Василевский, с которым мы встретились в Генштабе и сразу же обменялись мнениями об итогах 1943 года и перспективах на ближайший период.
Совещание было довольно длительным. В обсуждении итогов и опыта борьбы на фронтах, а также оценки обстановки и перспектив войны приняли участие Василевский и А.И. Антонов. По вопросам экономики и военной промышленности докладывал Н.А. Вознесенский. О проблемах международного характера и о возможности открытия второго фронта говорил Сталин.
По данным Генштаба, к концу 1943 года советские войска освободили более половины территории, которую захватили немецкие войска в 1941-1942 годах. Начиная с контрнаступления в районе Сталинграда, советскими войсками было полностью уничтожено или пленено 56 дивизий, 162 дивизии понесли тяжелейшие потери. За этот период было уничтожено до 7 тысяч танков, более 14 тысяч самолётов и до 50 тысяч орудий и миномётов. Немецкие войска безвозвратно потеряли опытнейшие кадры генералов, офицеров, унтер-офицеров и солдат.
Даже на 1 июля 1943 года к началу больших операций, у нас в запасе находилось более 100 тысяч офицеров, имевших большой боевой опыт и необходимую военно-техническую подготовку. Вдвое увеличился генеральский состав СВС.
С целью укрепления своего сильно потрёпанного фронта главное командование немецких войск к концу 1943 года перебросило с запада ещё 75 дивизий и большое количество боевой техники, вооружения и материально-технических средств.
Наши вооружённые силы продолжали наращивать свою боевую мощь. За 1943 год было сформировано 78 новых дивизий. К концу года у нас образовалось 5 танковых армий, 37 танковых и механизированных корпусов, 80 отдельных танковых бригад, 149 отдельных танковых и самоходно-артиллерийских полков. Было сформировано 6 артиллерийских корпусов, 26 артиллерийских дивизий, 7 гвардейских реактивных миномётных дивизий и многие десятки других артиллерийских частей. Страна наша развернулась во всю свою богатырскую мощь.
Само Верховное Главнокомандование поднялось на более высокую ступень понимания способов и методов ведения современной войны. Всем нам стало легче работать и понимать друг друга. Этого раньше не хватало, отчего порой страдало общее дело.
По данным Центрального штаба партизанского движения, в 1943 году количество партизанских сил увеличилось в 2 раза. За 1943 год партизаны подорвали 11 тысяч поездов, повредили и вывели из строя 6 тысяч паровозов, около 40 тысяч вагонов и платформ, уничтожили свыше 22 тысяч машин и более 900 железнодорожных мостов.
В августе 1943 года партия и правительство приняли ряд важнейших решений о восстановлении народного хозяйства в освобождённых районах. В последнем квартале 1943 года там уже было добыто 6,5 миллиона тонн угля, 15 тысяч тонн нефти, выработано 172 миллиона квт-часов электроэнергии.
Мы получили несколько большую материально-техническую помощь от Америки, чем в 1942 году, но всё же она была далека от обещанной, а к концу года даже снизилась.
К концу 1943 года мы уже не так нуждались, как в предыдущие два года, в открытии второго фронта в Европе.
Несомненно, нас радовали победы в Италии, у Эль-Аламейна, в районе Туниса и других местах. Но всё же это было не то, чего мы так долго ждали от союзников, чтобы почувствовать их достойный вклад в войну.
Возвратившись с Тегеранской конференции, Сталин сказал:
— Рузвельт дал твёрдое слово открыть широкие действия во Франции в 1944 году. Думаю, что он слово сдержит. Ну а если не сдержит, у нас хватит и своих сил добить гитлеровскую Германию.
Что касается западного и северо-западного направлений, ими в 1943 году занимались Сталин и Генштаб, а мы лишь изредка высказывали свои соображения и свои предложения тогда, когда нас спрашивал Верховный Главнокомандующий.
К концу 1943 года на западном и северо-западном направлении были достигнуты важные результаты. Советские войска очистили от врага последнюю часть Калининской области, освободили Смоленскую область и значительную часть Белоруссии. К концу года линия фронта на северо-западном и западном направлении проходила через озеро Ильмень, Великие Луки, Витебск, Мозырь. На юго-западном и южном направлениях в это время линия фронта шла от Полесья через Житомир-Фастов-Кировоград (исключительно)-Запорожье-Херсон. Крым был ещё в руках немецких войск. В районе Ленинграда и на севере обстановка значительно улучшилась. Ленинградцы теперь свободно дышали.
Отсутствие второго фронта в Европе давало гитлеровцам возможность вести в 1944 году оборонительную войну.
К началу 1944 года Германия с учётом войск своих сателлитов имела на советско-германском фронте около 5 миллионов человек, 54,5 тысячи орудий и миномётов, 5400 танков и штурмовых орудий и несколько более 3 тысяч самолётов.
СВС превосходили противника в людях в 1,3 раза, по артиллерии – в 1,7 раза, по танкам – в 1,4 раза, по самолётам в 3,3 раза.
В результате глубокого и всестороннего анализа обстановки Ставка решила в зимнюю кампанию 1944 года развернуть наступление от Ленинграда до Крыма включительно.
Планируя действия советских войск на зиму 1944 года, имелось в виду главные силы и средства сосредоточить на 1,2,3-м и 4-м Украинских фронтах, чтобы создать там более значительное превосходство над противником и в короткие сроки разгромить войска групп армий «Юг» и «А».
После совещания в Ставке мы с Василевским дней пять ещё поработали с Генштабом по уточнению задач фронтам. Несколько раз Верховный приглашал нас к себе в кремлёвскую квартиру.
Однажды дома у Верховного я попытался ещё раз поднять вопрос о проведении операций на окружение. Сталин сказал:
— Теперь мы стали сильнее, наши войска опытнее. Мы не только можем, но и должны проводить операции на окружение. Мы были довольны тем, что Верховный наконец правильно понял значение наступательных операций с целью окружения.
В другой раз на обеде, где мне довелось быть, присутствовали Жданов, Щербаков и другие члены Политбюро. Андрей Александрович Жданов рассказал о героических делах и величайшем мужестве рабочих Ленинграда, которые пренебрегая опасностью, полуголодные, стояли у станков на фабриках и заводах по 14-15 часов в сутки, оказывая всемерную помощь войскам фронта. Жданов попросил увеличить продовольственные фонды для ленинградцев. Верховный тут же дал указание удовлетворить эту просьбу, а затем сказал: — Предлагаю тост за ленинградцев. Это подлинные герои нашего народа.
Мы с Василевским отправились на подопечные фронты. Я поехал координировать действия фронтов Ватутина и Конева, а Василевский – Малиновского и Толбухина.
Беспокойным человеком был Н.Ф. Ватутин. Чувство ответственности за порученное дело было у него развито чрезвычайно остро.
Ставка Верховного Главнокомандования потребовала от 1-го Украинского фронта подготовить и провести Житомирско-Бердичевскую операцию по разгрому противостоящей 4-й танковой армии противника и отбросить её к Южному Бугу. Поддержку войск фронта с воздуха осуществляла 2-я воздушная армия генерала Красовского.
Утром 29 декабря после 50-минутной артиллерийской и авиационной подготовки войска главной группировки фронта перешли в наступление. К исходу 30 декабря фронт прорыва расширился до 300 километров, а глубина его достигла 100 километров. Были освобождены Коростень, Брусилов, Казатин, Сквира и много других городов и населённых пунктов. 31 декабря был вновь освобождён Житомир. 5 января – Бердичев.
В итоге Житомирско-Бердичевской операции войска 1-го Украинского фронта продвинулись на глубину до 200 километров, полностью освободив Киевскую и Житомирскую области, а также ряд районов Винницкой и Ровенской областей.
Левое крыло фронта охватило всю группировку противника, занимавшего крупный плацдарм в районе Канева и Корсунь-Шевченковского. Таким образом была создана благоприятная обстановка для Корсунь-Шевченковской операции.
2-й Украинский фронт имел задачу подготовить и провести операцию, нанося главный удар на Первомайск через Кировоград. К утру 8 января Кировоград был освобождён. Наступление войск фронта было приостановлено на всех направлениях.
По данным немецкой трофейной карты за 24 января 1944 года в районе Корсунь-Шевченковского выступа, который доходил своей вершиной до самого Днепра, находилось девять пехотных, одна танковая и одна моторизированная дивизии, входившие в состав 1-й танковой и 8-й армий немецких войск.
11 января я доложил наши соображения Верховному о плане отсечения, окружения и разгрома всей Корсунь-Шевченковской группировки. Верховный утвердил предположения и 12 января подтвердил своё решение директивой Ставки.
Перед началом операции Ставка по моей просьбе усилила 1-й Украинский фронт 2-й танковой армией.[31]
В количественном отношении наши войска здесь превосходили противника по пехоте в 1,7 раза, по орудиям и миномётам – в 2,4 раза, по танкам и САУ – в 2,6 раза.
Корсунь-Шевченковская операция началась 24 января ударом 2-го Украинского фронта в общем направлении на Звенигородку. 1-й Украинский фронт начал атаку на сутки позже. 28 января было сомкнуто кольцо вокруг гитлеровских оккупантов. В 12 часов 9 февраля штаб генерала Штеммермана сообщил об отклонении нашего ультиматума. Тотчас же на внутреннем фронте окружения и со стороны внешнего фронта немцы начали ожесточённые атаки.
Расстояние между окружённой группой и деблокирующей группой немецких войск сократилось до 12 километров, но чувствовалось что для соединения у противника сил не хватит.
Утром 12 февраля я заболел гриппом и с высокой температурой меня уложили в постель. Звонил товарищ Сталин, вскочив с постели взял трубку.
— Мне сейчас звонил Конев, — сказал Верховный, — и доложил, что у Ватутина ночью прорвался противник из района Шандеровки в Хилки и Новую Буду. Вы знаете об этом?
— Нет не знаю. Думаю это не соответствует действительности.
— Проверьте и доложите.
Я тут же позвонил Ватутину и выяснил, что противник действительно пытался, пользуясь пургой, вырваться из окружения и уже успел продвинуться километра на два-три и занял Хилки, но был остановлен.
Сведения о попытках прорыва как-то раньше попали к Коневу. Вместо того, чтобы срочно доложить мне и известить Ватутина, он позвонил Сталину, дав понять, что операция по ликвидации противника, может провалиться, если не будет поручена ему её завершение.
Переговорив с Ватутиным о принятии дополнительных мер, я позвонил Верховному и доложил ему то, что мне стало известно из сообщения командующего 1-м Украинским фронтом.
Сталин крепко выругал меня и Ватутина, а затем сказал:
— Конев предлагает передать ему руководство войсками внутреннего фронта по ликвидации Корсунь-Шевченковской группы противника, а руководство войсками на внешнем фронте сосредоточить в руках Ватутина.
— Окончательное уничтожение группы противника, находящейся в котле, дело трёх-четырёх дней. Главную роль в Корсунь-Шевченковской операции сыграл 1-й Украинский фронт. Ватутину и возглавляемым им войскам будет обидно, если они не будут отмечены за их ратные труды. Передача управления войсками 27-й армии 2-му Украинскому фронту может затянуть ход операции.
Сталин в раздражённом тоне сказал:
— Хорошо. Пусть Ватутин лично займётся операцией 13-й и 60-й армий в районе Ровно-Луцк-Дубно, а вы возьмите на себя ответственность не допустить прорыва противника из района Лисянки. Всё.
Однако через пару часов была поручена директива, пункт 1 гласит: 1. Возложить руководство всеми войсками, действующими против Корсуньской группировки противника, на командующего 2-м Украинским фронтом с задачей в кратчайший срок уничтожить Корсуньскую группировку немцев.
Н.Ф. Ватутин был очень впечатлительный человек. Получив директиву, он тотчас же позвонил мне и, полагая, что всё это дело моих рук, с обидой сказал:
— Товарищ маршал, кому-кому, а вам-то известно, что я, не смыкая глаз несколько суток подряд напрягал все силы для осуществления Корсунь-Шевченковской операции. Почему же сейчас меня отстраняют и не дают довести эту операцию до конца? Я тоже патриот войск своего фронта и хочу, чтобы столица нашей Родины Москва отсалютовала бойцам 1-го Украинского фронта.
— Николай Фёдорович, это приказ Верховного, мы с вами солдаты, давайте безоговорочно выполнять приказ.
Ватутин ответил: — Слушаюсь, приказ будет выполнен.
Сталин был умный человек и должен был спокойно разобраться со сложившейся обстановкой и, предвидя, чем она в конце концов кончится, решить вопрос без излишней нервозности, которая так без оснований ранила душу замечательного полководца Ватутина.
Как мы и предполагали, 17 февраля с окружённой группировкой всё было покончено. По данным 2-го Украинского фронта, в плен взято 18 тысяч человек и боевая техника этой группировки. Столица нашей Родины 18 февраля салютовала войскам 2-го Украинского фронта. А о войсках 1-го Украинского фронта не было сказано ни одного слова.
Как бывший заместитель Верховного Главнокомандующего, которому одинаково были близки и дороги войска 1-го и 2-го Украинских фронтов, должен сказать, что Сталин был глубоко не прав, не отметив в своём приказе войска 1-го Украинского фронта, которые, как и воины 2-го Украинского фронта не щадя жизни героически бились с вражескими войсками там, куда направляло их командование фронта и Ставка.
Независимо от того, кто и что докладывал Сталину, он должен был быть объективным в оценке действий обоих фронтов. Почему Сталин допустил такую несправедливость, мне и по сей день неясно. Эта замечательная операция была организована и проведена войсками двух фронтов. Я думаю, что это была непростительная ошибка Верховного.
29 февраля на северной окраине села Милятын бандеровцами был тяжело ранен Ватутин, он потерял много крови. Н.Ф. Ватутин был доставлен в Ровно и помещён в военный госпиталь, откуда был переправлен в Киев. В Киев были вызваны лучшие врачи, в том числе известный хирург Н.Н. Бурденко, но спасти Ватутина не удалось. Он умер 15 апреля. 17 апреля Николая Фёдоровича Ватутина похоронили в Киеве. Москва двадцатью артиллерийскими залпами отдала последнюю воинскую почесть верному сыну Родины и талантливому полководцу.
Я взял на себя командование фронтом и тут же доложил Сталину о ранении и эвакуации Ватутина. Верховный Главнокомандующий утвердил моё решение встать во главе войск фронта на время проведения предстоящей важной и сложной операции. 1 марта директивой Ставки я был назначен командующим 1-м Украинским фронтом. Управление 2-м Украинским фронтом Ставка взяла на себя.
4 марта 1944 года началось наступление войск 1-го Украинского фронта. 29 марта был освобождён от немецких оккупантов город Черновцы. 14 апреля город Тернополь был освобождён 15-м, 94-м стрелковыми и 4-м гвардейским танковым корпусами. За время операции, войска фронта продвинулись вперёд до 350 километров. Фронт обороны противника был разбит до основания. От Тернополя до Черновиц образовалась громаднейшая брешь. Чтобы закрыть её, немецкому командованию пришлось срочно перебросить значительные силы с других фронтов – из Югославии, Франции, Дании и из Германии. Сюда же была передвинута 1-я венгерская армия.
Войска фронта освободили 57 городов, 11 железнодорожных узлов, многие сотни населённых пунктов и вышли к предгорьям Карпат, разрезав на две части весь стратегический фронт южной группировки войск противника. С тех пор у этой группировки не стало иных коммуникаций, кроме как через Румынию.
За особо выдающиеся заслуги перед Родиной многие тысячи солдат, сержантов, офицеров и генералов были удостоены высоких правительственных наград. Я был награждён орденом Победы № 1.
* * *
22 апреля я был вызван в Москву, в Ставку ВГК, для обсуждения летне-осенней кампании 1944 года.
Прибыв в Москву, прежде всего зашёл в Генштаб к Антонову. Он сообщил мне сведения о ходе ликвидации противника в Крыму и создании новых резервных войск и материальных запасов к летней кампании. Но он просил не говорить Верховному о том, что познакомил меня с наличием созданных запасов. Сталин запретил кому бы то ни было давать эти сведения, чтобы мы преждевременно не просили резервы у Ставки.
Сталин пригласил меня к себе на 17 часов. Когда я вошёл в кабинет Верховного, там уже были Антонов, командующий бронетанковыми войсками маршал Я.Н. Федоренко, и командующий ВВС генерал-полковник А.А. Новиков, а также заместитель Председателя Совнаркома В.А. Малышев.
Поздоровавшись, Верховный спросил, был ли я у Николая Михайловича Шверника. Я ответил, что нет.
— Надо зайти и получить орден Победы.
Я поблагодарил Верховного Главнокомандующего за высокую награду.
После краткого обзора по всем стратегическим направлениям Антонов высказал соображения Генштаба о возможных действиях немецких войск в летней кампании 1944 года.
После ответов Новикова, которые были весьма оптимистичны, Верховный предложил маршалу Федоренко доложить о состоянии бронетанковых войск и возможностях их укомплектования к началу летней кампании.
Сталин, видимо, хотел, чтобы те кто непосредственно занимался этими вопросами, сами проинформировали присутствовавших, прежде чем мы выскажем свои соображения.
Затем Сталин не спеша набил свою трубку, раскурил её и, также не спеша затянувшись, разом выпустил дым.
— Ну а теперь послушаем Жукова, — сказал он, подойдя к карте, по которой докладывал Антонов.
Я, тоже не спеша, развернул свою карту, которая по размерам была, правда несколько меньше карты Генштаба, но отработана не хуже. Верховный подошёл к моей карте и стал внимательно её рассматривать.
Свой доклад я начал с того, что согласился с основными соображениями Антонова о предполагаемых действиях немецких войск и о тех трудностях, которые они будут испытывать в 1944 году на советско-германском фронте.
Тут Сталин остановил меня и сказал:
— И не только это. В июне союзники собираются всё же осуществить высадку крупных сил во Франции. Спешат наши союзники! – усмехнулся Сталин. – Опасаются, как бы мы сами, без их участия не завершили разгром фашистской Германии. Конечно, мы заинтересованы, чтобы немцы начали наконец воевать на два фронта. Это ещё больше ухудшит их положение, с которым они не в состоянии будут справиться.
…Я обратил особое внимание Верховного на группировку противника в Белоруссии, с разгромом которой рухнет устойчивость обороны противника на всём его западном стратегическом направлении.
— А как думает Генштаб? – обратился Сталин к Антонову.
— Согласен, — ответил тот.
Я не заметил, когда Верховный нажал кнопку звонка к Поскрёбышеву. Тот вошёл и остановился в ожидании.
— Соедини с Василевским, — сказал Сталин
— Здравствуйте, — начал Сталин. – У меня находятся Жуков и Антонов. Вы не могли бы прилететь посоветоваться о плане на лето? …А что у вас под Севастополем? Ну хорошо, оставайтесь тогда пришлите лично мне свои предложения на летний период.
Положив трубку, Верховный сказал:
— Через 8-10 дней Василевский обещает покончить с Крымской группировкой противника. А не лучше ли начать наши операции с 1-го Украинского фронта, чтобы ещё глубже охватить белорусскую группировку и оттянуть туда резервы противника с центрального направления?
Антонов заметил, что в таком случае противник легко может осуществлять маневрирование между соседними фронтами. Лучше начать с севера, а затем провести операцию против группы армий «Центр», чтобы освободить Белоруссию.
— Посмотрим, что предложит Василевский, — сказал Верховный.
— Позвоните командующим фронтами пусть они доложат соображения о действиях фронтов в ближайшее время…
И, обращаясь ко мне продолжал:
— Займитесь с Антоновым наметкой плана на летний период. Когда будете готовы обсудим ещё раз.
Через два-три дня Верховный снова вызвал нас с Антоновым. После обсуждения плана было решено: первую наступательную операцию провести в июне на Карельском перешейке и петрозаводском направлении, а затем на белорусском стратегическом направлении.
После дополнительной работы с Генштабом 28 апреля я возвратился на 1-й Украинский фронт. В начале мая, когда освобождение Крыма подходило к концу, я послал Верховному предложение передать командование 1-м Украинским фронтом Коневу, чтобы я мог без задержки выехать в Ставку и начать подготовку к операции по освобождению Белоруссии.
Верховный согласился, но предупредил, что 1-й Украинский фронт остаётся у меня подопечным.
— Вслед за Белорусской операцией будем проводить операцию на участке 1-го Украинского фронта, — сказал он.
Возвратившись в Ставку, встретился с Василевским. Естественно, нам пришлось, как говорится, вновь сесть за общий стол.
Освобождение Белоруссии и Украины
Гитлеровцы разграбили все общественное достояние белорусского народа, опустошили города, сожгли 1200 тысяч строений в сёлах, превратили в развалины 7 тысяч школ. Более 2200 тысяч мирных жителей и советских военнопленных было уничтожено.
К лету 1944 года в Белоруссии действовало свыше 143 тысяч хорошо вооружённых партизан, объединённых в крупные отряды, части и соединения.
За несколько дней до начала действий Красной Армии по освобождению Белоруссии партизанские отряды провели ряд крупных операций по разрушению железнодорожных и шоссейных магистралей и уничтожению мостов. Это парализовало вражеский тыл в самый ответственный момент.
В июле 1944 года германская промышленность достигла высшей точки развития за годы войны. За первое полугодие заводы выпустили более 16 тысяч самолётов, 8,3 тысячи тяжёлых, средних танков и штурмовых орудий.[32] В составе армий фашистской Германии насчитывалось 324 дивизии и 5 бригад. На советско-германском фронте нам противостояло 179 хорошо укомплектованных немецких дивизий и 5 бригад, а также 49 дивизий и 12 бригад сателлитов. В этих войсках было 4,3 миллиона человек, 59 тысяч орудий и миномётов, 7.8 тысяч танков и штурмовых орудий, около 3,2 тысячи боевых самолётов.
В рядах действующей Красной Армии было около 6,6 миллиона солдат и офицеров, фронты имели 98,1 тысячи орудий и миномётов, 7,1 тысячи танков и САУ, около 12,9 тысячи боевых самолётов.[33]
22 мая Верховный Главнокомандующий в моём присутствии принял Василевского, Антонова, Рокоссовского, а 23 мая Баграмяна и И.Д. Черняховского. Василевскому поручались 1-й Прибалтийский и 3-й Белорусский, мне 1-й и 2-Белорусские фронты. В помощь мне Ставка посылала на 2-й Белорусский фронт Начальника оперативного управления Генштаба генерала С.М. Штеменко с группой офицеров.
4 июня Василевский выехал в войска, чтобы на месте готовить операцию «Багратион», а я на сутки позже, 5 июня в 8.00, прибыл на КП 1-го Белорусского фронта.
Существующая в некоторых военных кругах версия о «двух главных ударах» на белорусском направлении силами 1-го Белорусского фронта, на которых якобы настаивал Рокоссовский перед Верховным, лишена основания. Оба эти удара проектируемые фронтом, были предварительно утверждены Сталиным ещё 20 мая по проекту Генштаба, то есть до приезда Рокоссовского.
Планом Ставки предусматривалось нанесение трёх мощных ударов:
— 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов в общем направлении на Вильнюс;
— 1-го Белорусского фронта на Барановичи;
— 2-го Белорусского во взаимодействии с левофланговой группировкой 3-го Белорусского фронта и правофланговой группировкой 1-го Белорусского фронта в общем направлении на Минск.
По предварительным расчётам Генштаба для обеспечения операции «Багратион» в войска надлежало направить до 400 тысяч тонн боеприпасов, 300 тысяч тонн ГСМ, до 500 тысяч тонн продовольствия и фуража. Нужно было сосредоточить в заданных районах 5 общевойсковых армий, 2 танковые и одну воздушную армии, а также соединения 1-й армии Войска Польского.
Кроме того, Ставка передала фронтам из своего резерва 4 общевойсковые армии, 2 танковые армии, 52 стрелковые и кавалерийские дивизии, 6 отдельных танковых и механизированных корпусов, 33 авиационные дивизии, более 210 тысяч человек маршевого пополнения, 2849 орудий и миномётов.
Предложил Сталину также в предстоящей операции использовать всю авиацию дальнего действия (АДД), отнеся на более поздние сроки её налёты на объекты, расположенные на территории Германии. Верховный согласился с этим и тут же приказал послать ко мне маршала авиации Новикова и маршала авиации, командующего АДД Голованова, с которыми мне лично приходилось работать во всех важнейших предыдущих операциях.
22 июня оба фронта провели разведку боем. В результате удалось уточнить расположение огневой системы противника непосредственно на его переднем крае и расположение некоторых батарей, которые раньше не были известны.
Всего Белорусская операция должна была охватить огромную территорию – более 1200 километров по фронту, от озера Нещердо до Припяти, и до 600 километров в глубину от Днепра до Вислы и Нарева.
Предстояло в ожесточённом сражении столкнуться с 1 миллионом 200 тысячами солдат и офицеров врага, на вооружении которого было 9,5 тысячи орудий и миномётов, 900 танков и штурмовых орудий, 1350 самолётов, преодолеть подготовленную оборону глубиной до 250-270 километров.[34]
Союзники 6 июля 1944 года высадились в Нормандии и открыли наконец второй фронт в Европе.
Генеральное наступление было начато 23 июня войсками 1-го Прибалтийского фронта (командующий генерал-полковник И.Х. Баграмян), войсками 3-го Белорусского фронта (командующий генерал-полковник И.Д. Черняховский) и войсками 2-го Белорусского фронта под командованием генерал-полковника Захарова.
На другой день перешли в наступление войска 1-го Белорусского фронта под командованием генерала армии Рокоссовского. Город Осиповичи был освобождён 28 июня, 29 июня окончательно был очищен от противника и город Бобруйск.
По данным белорусских партизан, действовавших в районе Минска нам стало известно, что сохранившиеся в Минске Дом правительства, здание ЦК партии Белоруссии и окружной Дом офицеров спешно минируются и готовятся к взрыву.
Чтобы спасти эти крупнейшие здания, было решено ускорить движение на Минск танковых частей и послать вместе с ними отряды разминирования. Задача была блестяще выполнена. Здания были разминированы и сохранены.
К исходу дня 3 июля Минск был полностью очищен от врага. К 11 июля, несмотря на оказанное сопротивление, окружённые немецкие войска были разбиты, взяты в плен или уничтожены. В числе 35 тысяч пленных оказались 12 генералов, из них 3 командира корпусов и 9 командиров дивизий.
4 июля Ставка ВГК приказала продолжить наступление. Фронтам была поставлена следующая задача:
— 1-му Прибалтийскому наступать в общем направлении на Шауляй, правым крылом продвигаясь на Даугавпилс, левым на Каунас;
— 3-му Белорусскому – на Вильнюс, частью сил на Лиду;
— 2-му Белорусскому – на Новогрудок, Гродно, Белосток;
— 1-му Белорусскому – на Барановичи, Брест и захватить плацдарм на Западном Буге.
7 июля мне позвонил Сталин и приказал прилететь в Ставку. 8 июля ровно в 14 часов мы прибыли на дачу.
Сталин был в хорошем расположении духа, шутил, что редко с ним случалось. Приехал Молотов и вслед за ним Маленков.
Обсуждая возможность Германии продолжать вооружённую борьбу, все мы сошлись на том, что она уже истощена и в людских и в материальных ресурсах, тогда как Советский Союз в связи с освобождением Украины, Белоруссии, Литвы и других районов получит значительное пополнение за счёт партизанских частей, за счёт людей, оставшихся на оккупированной территории. А открытие второго фронта заставит наконец Германию несколько усилить свои силы на Западе.
Возникал вопрос: на что могло надеяться гитлеровское руководство в данной ситуации?
На этот вопрос Верховный ответил так:
— На то же, на что надеется азартный игрок, ставя на карту последнюю монету. Вся надежда гитлеровцев была на англичан и американцев. Гитлер, решаясь на войну с Советским Союзом, считал империалистические круги Великобритании и США своими идейными единомышленниками. И не без основания: они сделали всё, чтобы направить военные действия вермахта против Советского Союза.
— Гитлер, вероятно, сделает попытку пойти любой ценой на сепаратное соглашение с американскими и английскими правительственными кругами, – добавил Молотов.
— Это верно, — сказал Сталин, – но Рузвельт и Черчилль не пойдут на сделку с Гитлером. Свои политические интересы в Германии они будут стремиться обеспечить, не вступая на путь сговора с гитлеровцами, а изыскивая возможности образования в Германии послушного им правительства.
Затем Верховный спросил меня:
— Могут ли наши войска безостановочно дойти до Вислы и начать освобождение Польши и на каком участке можно будет ввести в дело 1-ю Польскую армию, которая уже приобрела все необходимые боевые качества?
— Наши войска не только могут дойти до Вислы, – сказал я,- но и должны захватить хорошие плацдармы на ней, чтобы обеспечить дальнейшие наступательные операции на берлинском стратегическом направлении. Что касается 1-й Польской армии, то её надо нацелить на Варшаву. Антонов целиком поддержал меня. Немецкое командование ослабило свою группировку на участке 1-го Украинского фронта.
— Вам придётся теперь взять на себя координацию действий и 1-го Украинского фронта, – сказал мне Верховный. -Главное своё внимание обратите на левое крыло 1-го Белорусского фронта и на 1-й Украинский фронт. Общий план и задачи 1-го Украинского фронта вам известны.
* * *
Потом началось обсуждение возможностей войск, координируемых Василевским. Я сказал Василевскому, что было бы правильнее, если бы мы значительно усилили группу фронтов Василевского и 2-й Белорусский фронт и поставили задачу Василевскому отсечь немецкую группу армий «Север» и захватить Восточную Пруссию.
— Вы что, сговорились с Василевским? – спросил Верховный.
— Он тоже просит усилить его.
— Нет не сговорились. Но если он так думает, то думает правильно.
— Немцы будут до последнего драться за Восточную Пруссию, — сказал Сталин. – Мы можем там застрять. Надо в первую очередь освободить Львовскую область и восточную часть Польши. Завтра вы встретитесь у меня с Берутом, Осубко-Моравским и Роля-Жимерским. Они представляют Польский комитет национального освобождения. В двадцатых числах они собираются обратиться к польскому народу с манифестом. В качестве нашего представителя к полякам мы пошлём Булганина, а членом Военного совета у Рокоссовского оставим Телегина.
Вечером 9 июля я был приглашён к Сталину на дачу, где уже были поляки. Польские товарищи рассказывали о тяжёлом положении своего народа, пятый год находившегося под оккупацией.
В совместном обсуждении было решено, что первым городом, где развернёт свою организующую деятельность Крайова Рада Народова станет Люблин.
После того, как уехали польские товарищи я вновь пытался убедить Сталина о целесообразности нанести в ближайшее время более мощные удары на восточно-прусском направлении, с тем чтобы заранее выиграть фланг на западном стратегическом направлении.
По моему мнению, для этого надо было усилить 2-й Белорусский фронт одной танковой армией за счёт 1-го Украинского фронта, где сил имелось больше, чем требовалось, и одной армией за счёт резерва Ставки.
На этот раз Сталин ответил, что посоветуется с Василевским и Генштабом. Я чувствовал, что он по каким-то соображениям хочет быстрее выйти на Вислу, оставляя Восточную Пруссию для последующей операции. Думаю, это было его ошибкой, что впоследствии подтвердилось: когда в 1945 году началась Висло-Одерская операция, Восточная Пруссия нависла над флангом нашей группировки, нацеленной на берлинском направлении, причинив нам много хлопот.
9 июля Верховный ещё раз рассмотрел план Ковельской наступательной операции. Он предусматривал:
— разгром ковельско-люблинской группировки;
— овладение Брестом во взаимодействии с войсками правого крыла фронта;
— выход широким фронтом на Вислу с захватом плацдарма на её западном берегу.
10 июля я уже был опять в войсках, где мне пришлось с Рокоссовским и Новиковым работать над планом операции левого крыла 1-го Белорусского фронта.
11 июля я вылетел на 1-й Украинский фронт, где мне пришлось заняться планом командования фронта и его готовности к проведению операции.
1-му Украинскому фронту предстояло нанести два мощных удара: один на львовском направлении, другой на рава-русском и частью сил на станиславском. Глубина операции равнялась приблизительно 220-240 километров. Участок, где развёртывались удары фронта, охватывал 100-120 километров.
Здесь было сосредоточено 80 дивизий, 10 танковых и механизированных корпусов, 4 отдельные танковые и самоходно-артиллерийские бригады, 16100 орудий и миномётов, 2050 танков и САУ и 3250 самолётов. Общее количество войск достигло 1 миллиона 110 тысяч человек.
Такого количества войск было более чем достаточно для проведения этой операции, и я считал, что разумнее было бы за счёт 1-го Украинского фронта выделить часть сил для удара по Восточной Пруссии. Однако Верховный почему-то не хотел этого делать.
Наступление 1-го Украинского фронта, начатое 13 июля на рава-русском направлении развивалось согласно плану. На львовском направлении наступление началось 14 июля. 18 июля начали наступление войска левого крыла 1-го Белорусского фронта из района Ковеля на Люблин.
В результате мощных ударов четырёх фронтов по группе армий «Центр» были разгромлены 3-я танковая армия, 4-я и 9-я общевойсковые немецкие армии. В стратегическом фронте противника была пробита брешь до 400 километров по фронту и до 500 километров в глубину.
На данном этапе развития Белорусской операции значительной помехой явился восточно-прусский бастион немецкой обороны. Эффективность нашего наступления на берлинском направлении требовала сломить оборону противника в Восточной Пруссии с ходу, не приостанавливая наступления фронтов.
Подробно наметив возможные направления нашего наступления и необходимые для него группировки сил, в ночь на 19 июля я доложил свои соображения в Ставку. Вскоре последовал вызов в Москву на совещание у Сталина.
Однако Верховный не принял мой план и не согласился усилить фронты на восточно-прусском направлении, а резервы Белорусским фронтам Ставка дать не смогла.
Думаю, что это была серьёзная ошибка Верховного, в последующем повлёкшая за собой необходимость проведения чрезвычайно сложной и кровопролитной Восточно-Прусской операции.
22 июля войска 1-го Белорусского фронта освободили Хелм, 24 июля – крупный административный центр Польши – Люблин, 25 июля вышли к Висле в районе Демблина.
Здесь наши войска освободили узников лагеря смерти Майданека. Как известно, фашисты истребили в этом лагере около полутора миллиона человек, в том числе стариков, женщин и детей.
28 июля войска 1-го Белорусского фронта, разгромив брестскую группировку противника, освободили город Брест и героическую Брестскую крепость, защитники которой первыми приняли на себя в 1941 году удары врага и на века прославились массовым героизмом.
Войска 1-го Белорусского фронта, 27 июля вышли на реку Висла и начали её энергичное форсирование в районах Магнушева и Пулавы, впоследствии сыгравших историческую роль при освобождении Польши в Висло-Одерской операции. Успешные действия ковельской ударной группировки и быстрый выход её на Вислу оказали большое влияние на ход Львовско-Сандомирской операции.
22 июля в разговоре с Коневым мы согласились, что захват 3-й танковой армией тыловых путей на реке Сан заставит противника оставить Львов. По существу, мы пришли к выводу, что сдача немцами Львова дело почти решённое, вопрос лишь во времени – днём раньше, днём позже.
Однако на рассвете 23 июля мне позвонил Конев и сказал:
— Мне только что звонил Сталин. Что, говорит, вы там с Жуковым затеяли с Сандомиром. Надо прежде взять Львов, а потом думать о Сандомире.
— Ну а вы, Иван Степанович, как отреагировали на этот звонок?
— Я доложил, что 3-я танковая армия брошена нами для удара с тыла по львовской группировке и Львов скоро будет взят.
Мы договорились с Коневым, что днём я позвоню Верховному, а войскам фронта надо продолжать действовать в заданных направлениях.
Получив данные об освобождении Люблина 2-й танковой армией 1-го Белорусского фронта, я позвонил Верховному. Он был ещё у себя в квартире и уже знал об этом. Выслушав мой доклад о действиях 1-го Украинского фронта, Верховный спросил:
— Когда по вашим расчётам, будет взят Львов?
— Думаю, не позже, чем через два-три дня, — ответил я.
Сталин сказал:
— Звонил Хрущёв, он не согласен с рейдом армии Рыбалко. Армия отвлеклась от участия в наступлении на Львов, и это, по его мнению, может затянуть дело. Вы с Коневым стремитесь захватить раньше Вислу. Она от нас никогда не уйдёт. Кончайте скорее дело со Львовом. Мне ничего не оставалось делать как доложить Верховному о том, что Львов будет освобождён раньше, чем войска выйдут на Вислу. Конева я не стал расстраивать подробностями этого разговора.
В результате блестящего обходного 120-километрового марш-манёвра танковой армии генерала Рыбалко, нажима с востока 38-й, 60-й армий и с юга 4-й танковой армии противник отошёл от Львова на Самбор. 27 июля Львов был освобождён советскими войсками. 27 июля был освобождён и город Белосток. Войска Конева твёрдо встали на сандомирском плацдарме.
Днём 29 июля мне позвонил Верховный и поздравил с награждением второй медалью «Золотая звезда Героя Советского Союза. Затем позвонил М.И. Калинин и тоже поздравил с награждением.
— Вчера ГКО по инициативе Верховного Главнокомандующего принял решение наградить вас за Белорусскую операцию и за операцию по изгнанию врага с Украины, — сказал он.
В итоге двухмесячных боёв советские войска разгромили две крупнейшие стратегические группировки немецких войск, освободили Белоруссию, завершили освобождение Украины, очистили значительную часть Литвы и восточную часть Польши.
1,2,3-й Белорусские и 1-Прибалтийский фронты в этих сражениях в общей сложности разбили около 70 дивизий противника, из которых 30 дивизий были окружены, пленены и уничтожены. В ходе наступления войск 1-го Украинского фронта на львовско-сандомирском направлении было разгромлено более 30 дивизий.
Разгром ясско-кишинёвской группировки 2-м и 3-м Украинскими фронтами и освобождение Молдавии создали предпосылки выхода из войны Румынии и Венгрии.
Разгром группы армий «Центр» противника, захват трёх крупных плацдармов на реке Висле и выход к Варшаве приблизили наши ударные фронты к Берлину, до которого теперь оставалось около 60 километров.
Видимо, Гитлер всё ещё надеялся на сговор с реакционными силами Запада, с тем, чтобы в дальнейшем вести совместную борьбу против «коммунистической угрозы».
Нельзя вместе с тем не отметить тех трудностей, с которыми тылы фронтов встретились при выходе наших войск на территорию Польши, Словакии и Румынии, где железные дороги, кроме больших разрушений, имели узкую западноевропейскую колею. Это потребовало создания перевалочных баз на стыках общесоюзной и европейской колеи.
В летней кампании 1944 года в наступательных операциях приняли участие все 12 фронтов, Северный, Балтийский и Черноморский флоты, все озёрные и речные флотилии.
22 августа мне позвонил Антонов и передал приказ Верховного Главнокомандующего немедленно прибыть в Ставку. Предварительно он сообщил, что мне предстоит выполнить особое задание ГКО.
23 августа я вылетел в Москву. Прибыв в столицу вечером того же дня, я сразу направился в штаб. Особое задание ГКО состояло в следующем. Когда советские войска вступят в пределы Румынии, мне надлежало вылететь в штаб 3-го Украинского фронта, с тем чтобы подготовить фронт к войне с Болгарией, царское правительство которой всё ещё продолжало сотрудничество с фашистской Германией.
Верховный посоветовал мне перед вылетом обязательно встретиться с Георгием Димитровым, чтобы лучше ознакомиться с общеполитической обстановкой в Болгарии, деятельностью Болгарской рабочей партии и вооружёнными действиями антифашистских сил болгарского народа.
Болгарский народ с нетерпением ждёт подхода Красной Армии, чтобы с её помощью свергнуть царское правительство Багрянова и установить власть Народно-освободительного фронта, войны наверняка не будет, — сказал Димитров.
В то время болгарская армия насчитывала в своих рядах более 510 тысяч человек. Часть этих сил противостояла войскам 3-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ф.И. Толбухна. В оперативном отношении Толбухину были подчинены Черноморский флот и Дунайская флотилия. Общую координацию действий 2-го и 3-го Украинских фронтов в это время осуществлял Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко.
На Чёрном море полное господство было за Черноморским флотом, а в воздухе – за советской авиацией.
Советское правительство 5 сентября объявило Болгарии войну. 6 сентября Ставка ВГК дала приказ командованию 3-го Украинского фронта начать военные действия против Болгарии.
Утром 8 сентября всё было готово, чтобы открыть огонь, но мы со своих НП не видели целей, по которым надо было вести этот огонь… Присутствия воинских частей обнаружено не было.
Маршал Толбухин приказал войскам двинуть вперёд передовые отряды. Не прошло и получаса, как командующий 57-й армии доложил, что одна из пехотных дивизий болгарской армии, построившись у дороги, встретила наши части с развёрнутыми красными знамёнами и торжественной музыкой. Через некоторое время такие же события произошли и на других направлениях. Командармы доложили, что идёт стихийное братание советских воинов с болгарским народом.
Я тотчас же позвонил в Ставку. Сталин сказал:
— Всё оружие болгарских войск оставьте при них, пусть они занимаются своими обычными делами и ждут приказа своего правительства.
Этим простым актом со стороны Верховного Главнокомандующего было выражено полное доверие болгарскому народу и болгарской армии, которые по братски встретили Красную Армию, видя в ней свою освободительницу от немецких оккупантов и царского профашистского режима.
Продвигаясь в глубь страны, советские войска везде и всюду встречали самое тёплое отношение. Вскоре мы встретились с партизанскими отрядами, которые были хорошо вооружены и уже заняли ряд городов и военных объектов.
В связи с нависшей угрозой удара немецких войск из района южнее Ниш в сторону Софии, а также незаконным прибытием в Софию англо-американской военной миссии и явными происками англо-американских правительственных кругов, Ставка приказала расположить в столице Болгарии усиленный стрелковый корпус.
8 сентября мы вошли в Варну, а 9 сентября в Бургас и другие города.
Болгарский народ, руководимый своей Рабочей партией 9 сентября сверг профашистское правительство и образовал демократическое правительство Отечественного фронта, которое обратилось к Советскому правительству с предложением о перемирии. ГКО незамедлительно дал указание Ставке приостановить продвижение наших войск в Болгарии.
В 21 час 9 сентября мы закончили движение войск.
От Вислы до Одера
В конце сентября 1944 года я вернулся из Болгарии в Ставку. Через несколько дней Верховный поручил мне срочно выехать в район Варшавы на участки 1-го и 2-го Белорусских фронтов.
Необходимо было выяснить обстановку в самой Варшаве, где жителями города незадолго до этого было поднято восстание против фашистских захватчиков. Немецкое командование с особой жестокостью расправлялось с восставшими, подвергало зверским репрессиям и мирное население.
Город был разрушен до основания. Под обломками погибли тысячи мирных жителей.
Было установлено, что командование фронта, командование 1-й армии Войска Польского заранее не были предупреждены руководителем восстания Бур-Комаровским о готовящемся выступлении варшавян… Командование советских войск узнало о восстании постфактум от местных жителей, перебравшихся через Вислу. Не была предупреждена об этом заранее и Ставка ВГК.
По заданию Верховного Рокоссовским были посланы к Бур-Комаровскому два парашютиста-офицера для связи и согласования действий, но он не пожелал их принять, и нам осталась неизвестной их дальнейшая судьба.
Чтобы оказать помощь восставшим варшавянам, советские и польские войска были переправлены через Вислу и захватили в Варшаве Набережную. Однако со стороны Бур-Комаровского вновь не было предпринято никаких попыток установить с нами взаимодействие. Примерно через день немцы, подтянув к Набережной значительные силы, начали теснить наши части. Мы несли большие потери. Обсудив создавшееся положение и не имея возможности овладеть Варшавой, командование фронта решило отвести войска с Набережной на свой берег.
Я установил, что нашими войсками было сделано всё, что было в их силах, чтобы помочь восставшим, хотя, повторяю, восстание ни какой степени не было согласовано с Советским командованием. Всё время –до и после вынужденного отвода наших войск – 1-й Белорусский фронт продолжал оказывать помощь восставшим, сбрасывая с самолётов продовольствие, медикаменты и боеприпасы.
В западной прессе, я помню, по этому поводу было немало ложных сообщений, которые вводили в заблуждение общественное мнение.
В первых числах октября…, позвонив Сталину и доложив обстановку, я просил его разрешения прекратить наступательные бои на участке 1-го Белорусского фронта, поскольку они были бесперспективны, и дать приказ о переходе войск правого крыла фронта и левого крыла 2-Белорусского фронта к обороне, чтобы предоставить им отдых и произвести пополнение.
— Вылетайте завтра с Рокоссовским в Ставку, поговорим на месте. – ответил Верховный. – До свидания. Не успел я ответить, как он положил трубку.
Во второй половине следующего дня мы с Рокоссовским были в Ставке. Кроме Верховного, там находились Антонов, Молотов, Берия и Маленков. Поздоровавшись, Сталин сказал:
— Ну, докладывайте!
Я развернул карту и начал докладывать. Вижу, Сталин нервничает: то к карте подойдёт, то отойдёт, то опять подойдёт, пристально всматриваясь своим колючим взглядом то в меня, то в карту, то в Рокоссовского. Даже трубку отложил в сторону, что бывало всегда, когда он начинал терять хладнокровие и контроль над собой.
— Товарищ Жуков, — перебил меня Молотов, — вы предлагаете остановить наступление тогда, когда разбитый противник не в состоянии сдержать напор наших войск. Разумно ли ваше предложение?
— Противник уже успел создать оборону и подтянуть необходимые резервы, — возразил я. – Он сейчас успешно отбивает атаки наших войск. А мы несём ничем не оправданные потери.
— Жуков считает, что все мы здесь витаем в облаках и не знаем, что делается на фронтах, — иронически усмехнувшись, вставил Берия.
— Вы поддерживаете мнение Жукова? – спросил Сталин, обращаясь к Рокоссовскому.
— Да, я считаю, надо дать войскам передышку и привести их после длительного напряжения в порядок.
— Думаю, что передышку противник не хуже вас использует, — сказал Верховный. – Ну а если поддержать 47 армию авиацией и усилить её танками и артиллерией, сумеет ли, она выйти на Вислу между Модлином и Варшавой.
— Трудно сказать товарищ Сталин, — ответил Рокоссовский. – Противник также может усилить это направление.
— А вы как думаете? – обращаясь ко мне, спросил Верховный.
— Считаю, что это наступление нам не даёт ничего, кроме жертв, – снова повторил я. – А с оперативной точки зрения нам не особенно нужен район северо-западнее Варшавы. Город надо брать обходом с юго-запада, одновременно нанося мощный рассекающий удар в общем направлении на Лодзь-Познань. Сил для этого сейчас у фронта нет, но их следует сосредоточить. Одновременно нужно основательно подготовить к совместным действиям и соседние фронты на берлинском направлении.
— Идите и ещё раз подумайте, а мы здесь посоветуемся, — неожиданно прервал меня Сталин.
Мы с Рокоссовским вышли в библиотечную комнату и опять разложили карту. Я спросил Рокоссовского, почему он не отверг предложение Сталина в более категорической форме. Ведь ему-то было ясно, что наступление 47-й армии ни при каких обстоятельствах не могло дать положительных результатов.
— А ты разве не заметил, как зло принимались твои соображения, — ответил Рокоссовский. – Ты что, не чувствовал, как Берия подогревает Сталина? Это, брат, может плохо кончиться. Уж я-то знаю, на что способен Берия, побывал в его застенках.
Через 15-20 минут к нам в комнату вошли Берия, Молотов и Маленков.
— Ну как, что надумали? – спросил Маленков.
— Мы ничего нового не придумали. Будем отстаивать своё мнение, — ответил я.
— Правильно, — сказал Маленков. – Мы вас поддержим.
Но не успели мы как следует расположиться, как нас снова вызвали в кабинет Верховного.
Войдя в кабинет, мы остановились, чтобы выслушать решение Верховного.
— Мы тут посоветовались и решили согласиться на переход к обороне наших войск, — сказал Верховный. – Что касается дальнейших планов, мы их обсудим позже. Можете идти.
Всё это было сказано далеко не дружелюбным тоном. Сталин почти не смотрел на нас, а я знал, что это нехороший признак.
С Рокоссовским мы расстались молча. Я отправился в Наркомат обороны, а, Константин Константинович – готовиться к отлёту в войска фронта.
На другой день Верховный позвонил мне и сухо спросил:
— Как вы смотрите на то, чтобы руководство всеми фронтами в дальнейшем передать в руки Ставки?
Я понял, что он имеет в виду упразднить представителей Ставки для координации фронтами, и чувствовал, что это идея возникла не только в результате вчерашнего нашего спора. Война подходила к концу, осталось провести несколько завершающих операций, и Сталин наверняка хотел, чтобы во главе этих операций стоял только он один.
— Да количество фронтов уменьшилось, — ответил я. – Протяжение общего фронта также сократилось, руководство фронтами упростилось, и имеется полная возможность управлять фронтами непосредственно из Ставки.
— Вы это без обиды говорите?
— А на что же обижаться? Думаю, что мы с Василевским не останемся безработными, – пошутил я.
В тот же день вечером Верховный вызвал меня к себе и сказал: — 1-й Белорусский фронт находится на берлинском направлении. Мы думаем поставить вас на это направление, а Рокоссовского назначим на другой фронт.
Я ответил, что готов командовать любым фронтом, но заметил, что Рокоссовскому вряд ли будет приятно, что он будет освобождён с 1-го Белорусского фронта.
— Вы и впредь останетесь моим заместителем, – сказал Сталин.
— Что касается обид – мы не красные девицы. Я сейчас поговорю с Рокоссовским.
Сталин в моём присутствии объявил о своём решении и спросил его, не возражает ли он перейти на 2-й Белорусский фронт. Рокоссовский спросил, за что такая немилость. И попросил оставить его на 1-м Белорусском фронте.
— На главное берлинское направление мы решили поставить Жукова, — сказал Сталин, — а вам придётся принять 2-й Белорусский фронт.
— Слушаюсь, товарищ Сталин, — ответил Рокоссовский.
Мне кажется, что после этого разговора между Константином Константиновичем и мною не стало тех тёплых товарищеских отношений, которые были между нами долгие годы. Видимо, он считал, что я в какой-то степени сам напросился встать во главе войск 1-го Белорусского фронта. Если так, то это его глубокое заблуждение. В конце октября 1944 года в Ставке при участии некоторых членов ГКО и начальника Генштаба рассматривался вопрос о завершающих операциях Великой Отечественной войны.
В 1944 году танков и САУ произведено 29 тысяч, самолётов более 40 тысяч. В два-три раза возрастало поступление на фронт тяжёлых танков ИС-2 со 122-мм. пушкой, модернизированных средних танков Т-34, истребителей ЯК-3, штурмовиков Ил-10, скоростных бомбардировщиков ТУ-2.
Войску Польскому Советский Союз за время Великой Отечественной войны передал 8340 орудий и миномётов, 630 самолётов, 670 танков и САУ, свыше 406 тысяч винтовок и автоматов, большое количество транспортных машин, средств связи и различного имущества.
Войска Югославии получили за это время 5800 орудий и миномётов, около 500 самолётов, 69 танков, более 193 тысяч винтовок, карабинов и автоматов, свыше 15,5 тысячи пулемётов[35].
Войска США, Англии и Франции, освободив Францию, Бельгию и часть Голландии, вышли на линию от устья реки Маас в Голландии и далее к границам Германии до Швейцарии, вплотную подойдя к укреплённому району так называемой линии Зигфрида.
Советские войска… восстановили Государственную границу СССР (за исключением Курляндии) и частично перенесли боевые действия на территорию Германии и восточноевропейских государств.
Германия оказалась зажатой с востока, юго-востока и запада. Однако Гитлер проводил одну тотальную мобилизацию за другой. Фашисты беспощадно подавляли малейшее недоверие к своему режиму и всякое инакомыслие. Особенно жестокие расправы проводило гестапо после покушения на Гитлера 20 июля 1944 года.
18 октября 1944 года был введён в действие указ германского правительства об образовании фольксштурма (народного ополчения), в который призывались лица в возрасте от 18 до 60 лет. Гитлеровцы создали даже женский вспомогательный корпус. В вооружённых Силах противника всё ещё насчитывалось свыше 9,4 миллиона человек, при этом в действующей армии – 5,4 миллиона.
Как и раньше, гитлеровское командование и теперь, на завершающем этапе, держало на восточном фронте большую часть своих сил: 3,7 миллиона человек, более 56 тысяч орудий и миномётов, свыше 8 тысяч танков и штурмовых орудий, 4,1 тысячи самолётов.
В это время наша боевая мощь усилилась польскими, чехословацкими, румынскими и болгарскими войсками, которые успешно громили фашистов. Их общая численность к началу 1945 года составляла 347 тысяч человек, они имели 4000 орудий и миномётов и около 200 танков. В составе 3-го Белорусского фронта сражались французские лётчики авиационного полка «Нормандия – Неман».
На Западе американские, английские и французские войска имели 76 хорошо укомплектованных и отлично вооружённых дивизий и 15 отдельных бригад, 16100 танков и САУ, более 16,7 тысячи боевых самолётов.
Этим силам немецкое командование противопоставило всего лишь 74 крайне малочисленные и плохо подготовленные дивизии и три отдельные бригады, 3,5 тысячи танков и штурмовых орудий, до 2700 боевых самолётов.
Следовательно, союзники уже вскоре после открытия второго фронта превосходили противника по числу войск в 2 раза, по танкам – в 4 раза, по самолётам – в 6 раз.
* * *
Ставка ВГК решила подготовить и провести в начале 1945 года на всех стратегических направлениях мощные наступательные операции со следующими основными задачами:
— разгромить восточно-прусскую группировку и овладеть Восточной Пруссией;
— разгромить противника в Польше, Чехословакии, Венгрии, Австрии;
— выйти на рубеж: устье реки Вислы-Бромберг(Быгдощ)-Познань-Бреслау (Вроцлав)-Моравец-Острава-Вена.
Было решено главные усилия завершающей кампании сосредоточить на варшавско-берлинском направлении, там, где должен наступать 1-й Белорусский фронт.
Уничтожение курляндской группы противника возлагалось на 2-й и 1-й Прибалтийские фронты и Балтийский флот, которые должны были не допустить переброску сил, прижатых к Балтийскому морю, на другие фронты.
Здесь следует отметить одну существенную деталь. Берлин в это время находился от советского фронта и фронта союзников почти на одинаковом расстоянии. И не случайно У. Черчилль в своих мемуарах не раз упоминал о Берлине как желательном объекте для захвата союзническими войсками, хотя взятие Берлина¸ согласно договорённости между главами правительств, входило в функцию советских войск.
Я должен сказать, что Сталин в то время доверял информации Д. Эйзенхауэра.
Точно не помню, 1 или 2 ноября меня и Антонова вызвал Сталин для рассмотрения плана зимних операций. Докладывал проект Антонов, согласовав его предварительно со мной. И снова Верховный не счёл нужным согласиться с нашим предложением. Как уже говорилось, я не был согласен с фронтальным ударом на Варшаву через реку Вислу, о чём доложил Верховному Главнокомандующему. Верховный утвердил моё предложение.
15 ноября я выехал в Люблин, где мне был передан приказ о назначении командующим 1-м Белорусским фронтом, а Рокоссовский этим же приказом назначался командующим 2-м Белорусским фронтом.
* * *
Подготовка Висло-Одерской операции в значительной степени отличалась от подготовки предыдущих операций подобного масштаба, проводимых на нашей территории. Раньше мы получали хорошие разведывательные сведения от наших партизанских отрядов, действовавших в тылу врага. Здесь их у нас не было. Наши тыловые железнодорожные и грунтовые пути теперь проходили по территории Польши, где, кроме настоящих друзей и лояльных к нам жителей, имелась и враждебная агентура. Новые условия требовали от нас особой бдительности, скрытности сосредоточений и перегруппировки войск.
Уходя из Варшавы, враг подверг столицу Польши сплошному разрушению, а жителей – массовому уничтожению.
Наступление началось 13 января, 2-й Белорусский фронт (командующий Маршал Советского Союза Рокоссовский) частью сил перешёл в наступление одновременно с 3-м Белорусским фронтом (командующий генерал И.Д. Черняховский).
Левее 1-го Белорусского фронта с Сандомирского плацдарма 12 января начали наступление войска – 1-го Украинского фронта (командующий Маршал Советского Союза И.С. Конев). 1-й Белорусский фронт, перешедший в наступление 14 января, также успешно развивал операцию. 17 января в Варшаву вступили войска 1-й армии Войска Польского 1-го Белорусского фронта.
Осмотрев истерзанный город, Военный совет 1-го Белорусского фронта доложил Верховному:
«Фашистские варвары уничтожили столицу Польши – Варшаву. С ожесточённостью изощрённых садистов гитлеровцы разрушали квартал за кварталом. Крупнейшие промышленные предприятия стёрты с лица земли. Жилые дома взорваны или сожжены. Городское хозяйство разрушено. Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мёртв».[36]
19 января был взят город Лодзь, а войска правого крыла фронта 23 января захватили город Быдгощ. Утром 22 января войска 1-й гвардейской танковой армии завязали бои за Познань.
Днём 25 января мне позвонил Верховный. Выслушав мой доклад, он спросил, что мы намерены делать дальше.
Противник деморализован и не способен сейчас оказать серьёзное сопротивление, — ответил. – Мы решили продолжать наступление с целью выхода войск фронта на Одер. Основное направление на Кюстрин (Костшин), где попытаемся захватить плацдарм. Правое крыло фронта развёртывается в северном и северо-западном направлении против восточно-померанской группировки, которая не представляет пока серьёзной непосредственной опасности.
— С выходом на Одер вы оторвётесь от фланга 2-го Белорусского фронта больше чем на 150 километров, — сказал Сталин. – Это сейчас делать нельзя. Надо подождать пока 2-й Белорусский фронт закончит операцию в Восточной Пруссии и перегруппирует свои силы за Вислу.
— Сколько времени это займёт?
— Примерно дней десять. Учтите, — добавил Сталин, — 1-й Украинский фронт сейчас не сможет продвигаться дальше и обеспечивать вас слева так как будет занят некоторое время ликвидацией противника в районе Оппельн-Катовице.
— Я прошу не останавливать наступление войск фронта, так как потом будет труднее преодолеть мезерицкий укреплённый рубеж. Для обеспечения нашего правого фланга достаточно усилить фронт ещё одной армией.
Верховный обещал подумать, но ответа в тот день мы не получили.
26 января разведка 1-й гвардейской танковой армии достигла Мезерицкого укрепрайона и захватила большую группу пленных. Из их показаний было установлено, что этот укрепрайон на многих участках ещё не занят немецкими войсками, их части ещё только выдвигаются туда. Командование фронта приняло решение ускорить движение к Одеру главных сил фронта и попытаться с ходу захватить плацдарм на его западном берегу.
Чтобы оградить главные силы фронта, выдвигавшиеся к Одеру от возможных ударов противника со стороны Восточной Померании, было решено развернуть фронтом на север 3-ю ударную армию, 1-ю армию Войска Польского, 47-ю, 61-ю армии и 2-й гвардейский кавалерийский корпус.
Для уничтожения гарнизона в Познани оставлялась часть сил 8-й гвардейской, 69-й армий и 1-й ГТА. Взятие Познани поручалось лично командующему 8-й гвардейской армией генералу Чуйкову. В то время считалось, что там окружено не больше 20 тысяч войск, но в действительности их оказалось более 60 тысяч, и борьба с ними в укреплённом городе затянулась до 23 февраля.
После дополнительных переговоров Верховный согласился с предложением командования фронта. Главные силы фронта… к 1-4 февраля вышли на Одер и захватили на его западном берегу в районе Кюстрина (Костшин) очень важный плацдарм.
В итоге многодневных ожесточённых сражений плацдарм был расширен до 44 километров. С него и началось 16 апреля наступление ударной группировки 1-го Белорусского фронта на Берлин.
Уже 2 февраля 1-я ГТА получила приказ Военного совета фронта передать свои участки на Одере соседним войскам и форсированным маршем перегруппироваться на север в район Арнсвельде. Туда же перебрасывались 9-й танковый и 7-й гвардейский кавалерийский корпуса, большое количество артиллерийских, инженерных частей и материальных средств.
1 марта в наступление перешли войска 1-го Белорусского фронта, главной ударной силой которого были 1-я и 2-я ГТА. В связи с мощным ударом этой группы войск наступление 2-го Белорусского фронта резко возросло.
4-5 марта войска 1-го Белорусского фронта вышли на побережье Балтийского моря, а войска 2-го Белорусского фронта, выйдя на побережье… и захватив 4 марта Кёзлин (Кошалин), повернули на восток, на Гдыню, Данциг (Даньск), 1 ГТА 1-го Белорусского фронта, вышедшая в район Кольберга (Колобжег), распоряжением Ставки была временно передана в состав 2-го Белорусского фронта для разгрома противника в районе Гдыни.
Как известно, боевые действия двух фронтов (1-й и 2-й Белорусские фронты) по разгрому восточно-померанской группировки завершились лишь к концу марта. Вот какой это был крепкий орешек.
Таким образом, в феврале 1945 года ни 1-й Украинский, ни 1-й Белорусский фронты проводить Берлинскую операцию не могли.
Наши войска к середине апреля полностью очистили от немецко-фашистских войск Венгрию и значительную часть Чехословакии, вступили в Австрию, освободили Вену и открыли путь в центральные районы Чехословакии. Германия окончательно лишилась нефтяных источников Венгрии, Австрии и многих предприятий по производству вооружений и боевой техники.
На Западном фронте вооружённые силы наших союзников в феврале-марте форсировав Рейн, окружили значительную группировку немецко-фашистских войск в Руре. 17 апреля окружённая рурская группировка капитулировала.
Прежняя медлительность в действиях американо-английского командования сменилась крайней поспешностью. Правительства Англии и США торопили командование экспедиционных сил в Европе, требуя быстрейшего продвижения в центральные районы Германии, чтобы овладеть ими раньше, чем выйдут туда советские войска. 1 апреля Черчилль писал Рузвельту:
«Русские армии, несомненно захватят всю Австрию и войдут в Вену. Если они захватят также Берлин, то не создастся ли у них слишком преувеличенное представление о том, будто они внесли подавляющий вклад в нашу общую победу, и не может ли это привести их к такому умонастроению, которое вызовет серьёзные и весьма значительные трудности в будущем? Поэтому я считаю, что с политической точки зрения нам следует продвигаться в Германии как можно дальше на восток, и в том случае, если Берлин окажется в пределах нашей досягаемости, мы, несомненно, должны его взять».
Вопреки договорённости между главами правительств американские войска захватили Тюрингию и 25 апреля передовыми частями вышли на Эльбу.
В ходе Восточно-Померанской операции, кажется 7 или 8 марта, мне пришлось срочно вылететь в Ставку по вызову Верховного Главнокомандующего. Прямо с аэродрома я отправился на дачу Сталина, где он находился, будучи не совсем здоровым.
Задав мне несколько вопросов об обстановке в Померании и на Одере и выслушав моё сообщение, Верховный сказал:
— Идёмте, разомнёмся немного, а то я что-то закис.
* * *
Во всём его облике, в движениях и разговоре чувствовалось большая физическая усталость. За четырёхлетний период войны Сталин основательно переутомился. Работал он всю войну очень напряжённо, систематически недосыпал, болезненно переживал неудачи, особенно 1941-1942 годов. Всё это не могло не отразиться на его нервной системе и здоровье.
Во время прогулки Сталин неожиданно начал рассказывать мне о своём детстве. Он сказал, что рос очень хилым ребёнком. Мать почти до шестилетнего возраста не отпускала от себя и очень его любила. По желанию матери он учился в духовной семинарии, чтобы стать служителем культа. Но, имея с детства «ершистый» характер, не ладил с администрацией и был изгнан из семинарии.
Так за разговором прошло не менее часа. Потом он сказал:
— Идёмте пить чай, нам нужно кое о чём поговорить.
На обратном пути я спросил: — Товарищ Сталин, давно хотел узнать о вашем сыне Якове. Нет ли сведений о его судьбе?
На этот вопрос он ответил не сразу. Пройдя добрую сотню шагов, сказал каким-то приглушённым голосом:
— Не выбраться Якову из плена. Расстреляют его душегубы. По наведённым справкам держат они его изолированно от других военнопленных и агитируют за измену Родине. Помолчав минуту, твёрдо добавил:
— Нет, Яков предпочтёт любую смерть измене Родине.
Сидя за столом, Сталин долго молчал, не притрагиваясь к еде. Чувствовалось, он переживает за сына. Потом, как бы продолжая свои размышления, с горечью произнёс:
— Какая тяжёлая война. Сколько она унесла жизней наших людей. Видимо, у нас мало останется семей, у которых не погибли близкие. Такие испытания смогли стойко перенести только советские люди, закалённые в борьбе, сильные духом, воспитанные Коммунистической партией.
Сталин рассказал мне о Ялтинской конференции. Я понял, что он остался доволен её результатами и очень хорошо отзывался о Рузвельте. Сталин сказал, что он по-прежнему добивался от союзников перехода их войск в наступление, чтобы скорее добить фашистскую Германию.
Верховный настаивал на наступлении союзных войск, которые находились в 500 километрах от Берлина. Соглашение было достигнуто, и с этого времени значительно улучшилась координация действий сторон. В немногих словах он рассказал о разногласиях с Черчиллем, возникших при обсуждении польской проблемы. Относительно будущих государственных границ Польши на западе была достигнута полная договорённость. – эти границы должны были проходить по рекам Одеру и Нейсе. Но возникли большие разногласия о составе будущего польского правительства.
— Черчилль хочет, чтобы с Советским Союзом граничила буржуазная Польша, чуждая нам, а мы этого допустить не можем, — сказал Сталин. – Мы хотим, раз и навсегда, иметь дружественную нам Польшу, этого хочет и польский народ.
Несколько позже он заметил:
— Черчилль изо всех сил подталкивает Миколайчика, который более четырёх лет отсиживался в Англии. Поляки не примут Миколайчика. Они уже сделали свой выбор.
Верховный сказал мне:
— Поезжайте в Генштаб и вместе с Антоновым посмотрите расчёты по Берлинской операции, а завтра в 13 часов встретимся здесь же.
Остаток дня и добрую половину ночи мы с Антоновым просидели у меня в кабинете. Мы ещё раз рассмотрели основные намётки плана и расчёты на проведение Берлинской стратегической операции, в которой должны были участвовать три фронта. На следующий день встреча состоялась не в 13, а в 20 часов.
Вечером при обсуждении вопроса о Берлинской операции присутствовали Маленков, Молотов и другие члены ГКО. Докладывал Антонов. Сталин утвердил все предложения и приказал дать необходимые указания о всесторонней подготовке операции на берлинском стратегическом направлении.
Берлинская операция
Главной нашей целью на этом этапе войны была полная ликвидация фашизма в общественном и государственном строе Германии и привлечение к строжайшей ответственности всех главных нацистских преступников за их зверства, массовые убийства, разрушения и надругательства над народами в оккупированных странах, особенно на нашей многострадальной земле.
Верховное командование союзных войск планировало выдвижение американских и английских войск на Эльбу на берлинском направлении. Одновременно развёртывались операции американских и французских войск в южном направлении с целью овладения районами Штутгарта, Мюнхена и выхода в центральные районы Австрии и Чехословакии.
Английское командование всё ещё продолжало лелеять мечту о захвате Берлина раньше, чем туда придёт Красная Армия. Так, 7 апреля 1945 года, информируя объединённый штаб союзников о своём решении относительно завершающих операций Д. Эйзенхауэр заявил:
— Если после взятия Лейпцига окажется, что можно без больших потерь продвигаться на Берлин, я хочу это сделать. Я первый согласен с тем, что война ведётся в интересах достижения политических целей, и если объединённый штаб решит, что усилия союзников по захвату Берлина перевешивают на этом театре чисто военные соображения, я с радостью исправлю свои планы и своё мышление так, чтобы осуществить такую операцию.[37]
Сталин знал, что гитлеровское руководство за последнее время развило активную деятельность в поисках сепаратных соглашений с английскими и американскими правительственными кругами. Учитывая безнадёжность положения германских войск, можно было ожидать, что немцы прекратят сопротивление на западе и откроют американским и английским войскам дорогу на Берлин, чтобы не сдать его Красной Армии.
27 марта 1945 года корреспондент агентства Рейтер при 21-й армейской группе Кэмпбелл сообщал о наступлении англо-американских войск: «Не встречая на своём пути сопротивления, они устремляются к сердцу Германии».
В середине апреля 1945 года американский радиообозреватель Джон Гровер констатировал: «Западный фронт фактически уже не существует».
Особое преимущество союзники имели в авиации. Своими авиационными ударами они практически могли в любом районе осуществить полное подавление всякого сопротивления как на земле, так и в воздухе.
Вопрос о захвате Берлина союзными войсками был окончательно снят лишь тогда, когда на Одере и Нейсе мощный удар артиллерии, миномётов, авиации и дружная атака танков и пехоты советских войск потрясли до основания оборону немецких войск.
Когда в Ставке было получено сообщение генерала Эйзенхауэра… о том, что американские войска остановятся на согласованной линии на берлинском направлении, Сталин с уважением отозвался об Эйзенхауэре как о человеке, верном взятым на себя обязательствам. Однако мнение это оказалось преждевременным.
По мере приближения конца войны мы стали получать сведения от своих союзников, весьма далёкие от действительного положения дел.
29 марта по вызову Ставки я вновь прибыл в Москву, имея при себе план 1-го Белорусского фронта по Берлинской операции.
Поздно вечером того же дня Сталин вызвал меня в кремлёвский кабинет. Он был один. Только что закончилось совещание с членами ГКО. Молча протянув руку, он, как всегда, будто продолжая недавно прерванный разговор, сказал:
— Немецкий фронт на западе окончательно рухнул, и, видимо, гитлеровцы не хотят принимать мер, чтобы остановить продвижение союзных войск. Между тем на всех важнейших направлениях против нас они усиливают свои группировки. Вот карта, смотрите последние данные о немецких войсках.
Раскурив трубку, Верховный продолжал:
— Думаю, что драка предстоит серьёзная. Потом он спросил, как я расцениваю противника на берлинском направлении.
По нашим данным немцы имели здесь четыре армии, в составе которых было не меньше 90 дивизий, в том числе 14 танковых и моторизованных, 37 отдельных полков и 98 отдельных батальонов.
Впоследствии было установлено, что на берлинском направлении находилось не менее миллиона человек, 10,4 тысячи орудий и миномётов, 1500 танков и штурмовых орудий, 3300 боевых самолётов, а в самом Берлине, кроме того, ещё формировался двухсоттысячный гарнизон.
Раскуривая трубку, Сталин вновь подошёл к своей карте и долго рассматривал её, а затем спросил:
— Когда наши войска могут начать наступление на берлинском направлении?
Я доложил:
— Через две недели 1-й Белорусский фронт сможет начать наступление, 1-й Украинский фронт, видимо, также будет готов к этому сроку, 2-й Белорусский фронт, по всем данным, задержится с окончательной ликвидацией противника в Дайоне, Данциге и Гдыни до середины апреля и не сможет начать наступление с Одера одновременно с 1-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами.
— Ну что ж, — сказал Сталин, — придётся начать операцию, не ожидая действий фронта Рокоссовского. Если он и запоздает на несколько дней – не беда.
Затем он подошёл к письменному столу, перелистал какие-то бумаги и достал письмо.
— Вот прочтите.
Письмо было от одного из иностранных доброжелателей. В нём сообщалось о закулисных переговорах гитлеровских агентов с официальными представителями союзников, из которых становилось ясно, что немцы предлагали союзникам прекратить борьбу против них, если они согласятся на сепаратный мир на любых условиях. В этом сообщении говорилось также, что союзники якобы отклонили домогательства немцев. Но всё же не исключалась возможность открытия немцами путей союзным войскам на Берлин.
— Ну что вы об этом скажете? – спросил Сталин. И, не дожидаясь ответа, тут же заметил: — Думаю Рузвельт не нарушит Ялтинской договорённости, но вот Черчилль, этот может пойти на всё.
Вновь подойдя к письменному столу, он позвонил Антонову и приказал ему тотчас прибыть.
Верховный сказал: — Позвоните Коневу и прикажите 1 апреля прибыть в Ставку с планом операции 1-го Украинского фронта, а эти два дня поработайте с Жуковым над общим планом.
1 апреля 1945 года Верховный Главнокомандующий заслушал доклад Антонова об общем плане Берлинской операции, затем мой доклад о плане наступления войск 1-го Белорусского и доклад Конева о плане наступления войск 1-го Украинского фронта.
Верховный не согласился с разграничительной линией между 1-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами, обозначенной на карте Генштаба от Нейсе до Потсдама. Он заштриховал границу от Нейсе до Потсдама и прочертил линию только до Люббена (60 километров юго-восточнее Берлина). Тут же он указал маршалу Коневу:
— В случае упорного сопротивления противника на восточных подступах к Берлину, что наверняка произойдёт, и возможной задержки наступления 1-го Белорусского фронта, 1-му Украинскому фронту быть готовым нанести удар танковыми армиями с юга на Берлин.
Приведу слова маршала Конева:
«Когда около 24 часов 16 апреля я доложил, что дело наступления идёт успешно, товарищ Сталин дал следующее указание: «У Жукова идёт туго, поверните Рыбалко и Лелюшенко на Целендорф, как договорились в Ставке. Поэтому манёвр, который совершили Рыбалко и Лелюшенко, является прямым указанием товарища Сталина».[38]
В ночь на 2 апреля в Ставке в моём присутствии Верховный подписал директиву 1-му Белорусскому фронту о подготовке и проведении операции с целью овладения Берлином и указание в течение 12-15 дней выйти на Эльбу.
Чтобы гарантировать фронт от всяких случайностей, мы приняли решение поставить 1-ю ГТА генерала Катукова в исходное положение за 8-й гвардейской армией Чуйкова, с тем, чтобы в случае необходимости немедленно ввести её в дело в полосе 8-й гвардейской армии.
Взяв на себя ответственность за изменение задачи, изложенной в директиве Ставки, я всё же посчитал своим долгом доложить об этом Верховному Главнокомандующему. Выслушав мои доводы, Сталин сказал: — Действуйте, как считаете нужным, вам на месте виднее.
Оборону непосредственных подступов к Берлину первоначально возглавил Гиммлер, и все руководящие посты здесь были переданы эсэсовским генералам. Для того чтобы обеспечить необходимое пополнение частей Восточного фронта к началу предстоящего решительного наступления русских, — показал на допросе во время Нюрнбергского процесса бывший начальник штаба оперативного руководства ставки немецкого верховного командования генерал-полковник Йодль, — нам пришлось расформировать всю резервную армию, то есть все пехотные, танковые, артиллерийские и специальные запасные части, военные училища и военно-учебные заведения и бросить их личный состав на пополнение войск.[39] На оборонные работы в Берлине было привлечено свыше четырёхсот тысяч человек.
На сравнительно узком участке 1-го Белорусского фронта за короткое время было сосредоточено 77 стрелковых дивизий, 3155 танков и САУ, 14628 орудий и миномётов и 1531 установка реактивной артиллерии.
Впоследствии на Нюрнбергском процессе генерал Йодль показал: — Для Генерального штаба было понятно, что битва за Берлин будет решаться на Одере, поэтому основная масса войск 9-й армии, оборонявшей Берлин, была введена на передний край. Срочно формировавшиеся резервы предполагалось сосредоточить севернее Берлина, чтобы впоследствии нанести контрудар во фланг войскам маршала Жукова.
В течение первых суток сражения (16 апреля) было произведено свыше 6550 самолёто-вылетов. Фактически за первый день было произведено миллион двести тридцать шесть тысяч выстрелов только для одной артиллерии. 2450 вагонов снарядов, то есть почти 98 тысяч тонн металла обрушилось на голову врага.
Утром 16 апреля на всех участках фронта советские войска успешно продвигались вперёд. Однако противник, придя в себя, начал оказывать противодействие со стороны Зееловских высот.
В 15 часов я позвонил в Ставку. Сталин внимательно выслушал и сказал: — Выходит, вы недооценили врага на берлинском направлении. Я считал, что вы уже на подходе к Берлину, а вы всё ещё на Зееловских высотах.
У Конева дела начались успешнее. Не изменить ли границы между фронтами и не повернуть ли главные силы Конева и Рокоссовского на Берлин.
— У Конева оборона противника оказалась слабой, — продолжал Сталин. – Он без труда форсировал Нейсе и продвигается вперёд без особого сопротивления. Поддержите удар своих танковых армий бомбардировочной авиацией. Вечером позвоните, как у вас сложатся дела.
Вечером я вновь доложил Верховному о затруднениях на подступах к Зееловским высотам и сказал, что раньше завтрашнего дня этот рубеж взять не удастся. На этот раз Сталин говорил со мной не так спокойно, как днём.
— Вы напрасно ввели в дело 1-ю ГТА на участке 8-й гвардейской армии, а не там, где требовала Ставка, — сказал он резко и добавил: — Есть ли у вас уверенность, что завтра возьмёте зееловский рубеж?
Стараясь быть спокойным, я ответил:
— Завтра, 17 апреля, к исходу дня оборона на зееловском рубеже будет прорвана. Считаю, что, чем больше противник будет бросать своих войск навстречу нашим войскам здесь, тем легче и быстрее мы возьмём затем Берлин, так как войска противника легче разбить в открытом поле, чем в укреплённом городе.
— Мы думаем приказать Коневу двинуть танковые армии Рыбалко и Лелюшенко на Берлин с юга, а Рокоссовскому ускорить форсирование и тоже ударить в обход Берлина с севера, — сказал Сталин.
— Танковые армии Конева имеют полную возможность быстро продвигаться, и их следует направить на Берлин, а Рокоссовский не сможет начать наступление ранее 23 апреля, так как задержится с форсированием Одера.
— До свидания, — довольно сухо сказал Сталин и вместо ответа положил трубку.
Настроение у меня было неважным. Но я знал Сталина: даже когда не ладились мелочи, он очень раздражался.
Утром 18 апреля Зееловские высоты были взяты. Только 19 апреля, понеся большие потери, немцы не выдержали мощного напора наших танковых и общевойсковых армий и стали отходить на внешний обвод Берлинского района обороны. За эти три дня Сталин мне не звонил. Не звонил и я ему.
20 апреля в 13 часов 50 минут, на пятый день операции дальнобойная артиллерия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии открыла огонь по Берлину.
21 апреля части 3-й ударной, 2-й гвардейской танковой, 47-й и 5-й ударной армий ворвались на окраины Берлина и завязали там бои.
61-я армия, 1-я армия Войска Польского и другие соединения 1-го Белорусского фронта быстро двигались обойдя Берлин, на Эльбу, где предполагалась встреча с войсками союзников.
25 апреля части 1-го Белорусского фронта соединились в районе Кетцина с 6-м гвардейским механизированным корпусом 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. Наше наступление не прекращалось ни днём ни ночью.
На третий день боёв в Берлине по специально расширенной колее к Силезскому вокзалу были поданы крепостные орудия, открывшие огонь по центру города. Вес каждого снаряда составлял полтонны. Оборона Берлина разлеталась в пух и прах.
Учитывая наиболее успешное продвижение 5-й ударной армии а также особо выдающиеся личные качества её командарма Героя Советского Союза генерал-полковника Н.Э. Берзарина, 24 апреля командование назначило его первым советским комендантом и начальником Советского гарнизона Берлина. 29 апреля в центре города развернулись наиболее ожесточённые сражения.
В 21 час 50 минут 30 апреля сержант М.А. Егоров и младший сержант М.В. Кантария батальона капитана С.А. Неустроева 150-й стрелковой Идрицкой дивизии 79 стрелкового корпуса С.Н. Перевёрткина, 3-й ударной армии генерала В.И. Кузнецова водрузили вручённое им Военным советом армии Красное знамя над главным Куполом рейхстага. Командующий 3-й ударной армией генерал Кузнецов около 15 часов 30 минут позвонил мне на КП и радостно сообщил: — На рейхстаге наше Красное знамя! Ура, товарищ маршал!
— Дорогой Василий Иванович, сердечно поздравляю тебя и всех твоих солдат с замечательной победой. Этот исторический подвиг вверенных вам войск никогда не будет забыт советским народом. А как дела с рейхстагом?
— В некоторых отсеках верхних этажей и в подвалах здания всё ещё идёт бой, – сказал В.И. Кузнецов.
К концу дня 1 мая гитлеровцы, находившиеся в рейхстаге в количестве около 1500 человек, не выдержав борьбы сдались.
1 мая в руках немцев остались только Тиргартен и правительственный квартал. Здесь располагалась имперская канцелярия, во дворе которой находился бункер ставки Гитлера. В этот день Мартин Борман записал в дневнике: «Наша имперская канцелярия превращается в развалины».
Комендантом рейхстага был назначен командир полка 150-й стрелковой дивизии полковник Фёдор Матвеевич Зинченко (уроженец Томской области, ему на привокзальной площади станции Томск-1 в апреле 2015 года был открыт памятник. – А.М).
Зинченко Фёдор Матвеевич (1902-1991)
Благодарные потомки водрузили величественный памятник Зинченко Ф.М. в сквере перед железнодорожным вокзалом станции Томск-1. На памятнике наш Герой стоит на постаменте в рост в полевой офицерской форме, с биноклем и планшеткой, пистолетом в кобуре.
На постаменте отлиты в бронзе краткий боевой путь нашего земляка и посвящение томичам: Дорогие земляки томичи и особенно молодёжь. Любите и возвеличивайте в трудовой славе мой родной город юности моей. Здоровья, успехов и счастья Вам желаю.
Герой Советского Союза Зинченко Фёдор Матвеевич.
Внизу расположена Золотая Звезда.
Родился 19 сентября 1902 года в деревне Ставское Кривошеинского района Томской губернии. Трудовую жизнь начинал на железнодорожных станциях Межениновка и Тайга. В годы Великой Отечественной войны командир стрелкового полка. Участвовал в освобождении Псковщины, Прибалтики, Польши, Восточной Померании. За личную отвагу и героизм, выполнение боевых заданий командования был награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова и Кутузова III степени и двумя знаками отличия.
В апреле 1945 года воины 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии под руководством полковника Зинченко Ф.М. первыми ворвались на окраину Берлина. Сломив сопротивление противника, они овладели центральным кварталом города и в ночь с 30-го апреля на 1-ое мая 1945 года водрузили над рейхстагом Знамя Победы. Зинченко Ф.М. был назначен первым советским комендантом рейхстага.
За умелое командование полком в боях за Берлин удостоен звания Героя Советского Союза.
Безоговорочная капитуляция фашистской Германии
В 3 часа 50 минут 1 мая на КП 8-й Гвардейской армии был доставлен начальник генерального штаба германских сухопутных сил генерал пехоты Кребс. Он заявил, что уполномочен установить непосредственный контакт с Верховным Главнокомандующим Красной Армии для переговоров о перемирии.
В 4 часа В.И. Чуйков доложил мне по телефону, что генерал Кребс сообщил ему о самоубийстве Гитлера. По словам Кребса это произошло 30 апреля в 15 часов 50 минут. Василий Иванович зачитал мне содержание письма Геббельса и Бормана к Советскому Верховному Главнокомандованию. В нём говорилось:
«Согласно завещанию ушедшего от нас фюрера мы уполномочиваем генерала Кребса в следующем. Мы сообщаем вождю Советского народа, что сегодня в 15 часов 50 минут добровольно ушёл из жизни фюрер. На основании его законного права фюрер всю власть в оставленном им завещании передал Дёницу, мне и Борману. Я уполномочил Бормана установить связь с вождём Советского народа. Эта связь необходима для мирных переговоров между державами, у которых наибольшие потери. Геббельс.
К письму Геббельса было приложено завещание Гитлера со списком нового имперского правительства. Завещание было подписано Гитлером и скреплено свидетелями. (Оно датировалось 4 часами 30 апреля 1945 года).
Ввиду важности сообщения я немедленно направил моего заместителя генерал-полковника В.Д. Соколовского на КП В.И. Чуйкова для переговоров с немецким генералом. Соколовский должен был потребовать от Кребса безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
Тут же соединившись с Москвой, я позвонил Сталину. Он был на даче. К телефону подошёл начальник управления охраны генерал Власик, который сказал:
— Товарищ Сталин только что лёг спать.
— Прошу разбудить его. Дело срочное и до утра ждать не может.
Очень скоро Сталин подошёл к телефону. Я доложил о самоубийстве Гитлера, о появлении Кребса и решении поручить переговоры с ним генералу Соколовскому и просил его указаний.
Сталин ответил:
— Доигрался, подлец. Жаль, что не удалось взять его живым. Где труп Гитлера?
— По сообщению генерала Кребса, труп Гитлера сожжён на костре.
— Передайте Соколовскому, — сказал Сталин, — никаких переговоров, кроме безоговорочной капитуляции, ни с Кребсом, ни с другими гитлеровцами не вести. Если ничего не будет чрезвычайного не звоните до утра, хочу немного отдохнуть перед парадом.
Около 5 часов утра мне позвонил Соколовский и доложил о первом разговоре с генералом Кребсом.
— Что-то хитрят они, — сказал Соколовский. – Кребс заявляет, что он не уполномочен решать вопрос о безоговорочной капитуляции… Думаю, нам следует послать их к чёртовой бабушке, если они сейчас же не согласятся на безоговорочную капитуляцию.
— Правильно, Василий Дмитриевич, — ответил я. – Передай, что, если до 10 часов не будет дано согласие Геббельса и Бормана на безоговорочную капитуляцию, мы нанесём такой удар, от которого в Берлине не останется ничего, кроме развалин.
В назначенное время ответа от Геббельса и Бормана не последовало. В 10 часов 40 минут наши войска открыли ураганный огонь по остаткам особого сектора обороны центра города. В 18 часов Соколовский доложил…, что Геббельс и Борман отклонили требование о безоговорочной капитуляции. В ответ на это в 18 часов 30 минут с небывалой силой начался последний штурм центральной части города, где находилась имперская канцелярия и засели остатки гитлеровцев.
В 6 часов 30 минут утра 2 мая было доложено: на участке 47-й гвардейской стрелковой дивизии сдался в плен командир 56-го танкового корпуса генерал Вейдлинг. Вместе с ним сдались офицеры его штаба. На предварительном допросе он сообщил, что несколько дней назад он был лично Гитлером назначен командующим обороной Берлина. Генерал Вейдлинг сразу же согласился дать приказ своим войскам о прекращении сопротивления.
В тот же день около 14 часов мне сообщили, что сдавшийся в плен заместитель министра пропаганды доктор Фриче предложил выступить по радио с обращением к немецким войскам берлинского гарнизона о прекращении всякого сопротивления.
Чтобы всемерно ускорить окончание борьбы, мы согласились предоставить ему радиостанцию. К 15 часам 2 мая с врагом было полностью покончено. Остатки берлинского гарнизона сдались в плен общим количеством более 134 тысячи человек.
В приказе Верховного Главнокомандующего говорилось: «Войска 1-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Украинского фронта после упорных боёв завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 1 мая полностью овладели столицей Германии городом Берлином – центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии».
О том, как велось расследование с исчерпывающей полнотой описано Еленой Ржевской в книге «Конец Гитлера – без мифа и детектива» (Издательство АПН, Москва, 1965 год). К тому, что написала Ржевская, я ничего добавить не могу. Лично я склонен считать, что для сомнений в самоубийстве Гитлера оснований нет.
Большинство фашистских главарей Геринг, Гиммлер, Кейтель и Йодль, заблаговременно бежали из Берлина в разных направлениях.7 мая мне в Берлин позвонил Сталин и сообщил:
— Сегодня в городе Реймсе немцы подписали акт безоговорочной капитуляции. Главную тяжесть войны, — продолжил он, — на своих плечах вынес советский народ, а не союзники, поэтому капитуляция должна быть подписана перед Верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции, а не только перед Верховным командованием союзных войск.
— Я не согласился и с тем, — продолжал Сталин, — что акт капитуляции подписан не в Берлине, центре фашистской агрессии. Мы договорились с союзниками считать подписание акта в Реймсе предварительным протоколом капитуляции. Завтра в Берлин прибудут представители немецкого главного командования и представители Верховного командования союзных войск. Представителем Верховного Главнокомандования советских войск назначаетесь вы. Завтра к вам прибудет Вышинский. После подписания акта он останется в Берлине в качестве вашего помощника по политической части. Вы же назначаетесь Главноначальствующим в Советской зоне оккупации Германии, одновременно будете и Главнокомандующим советскими оккупационными войсками в Германии, — сказал Сталин.
В середине дня на аэродром Темпельгоф прибыли представители Верховного командования союзных войск: маршал авиации Великобритании Артур В. Теддер, командующий стратегическими воздушными силами США генерал Карл Спаатс и главнокомандующий французской армией генерал Ж. Латр де Тассиньи. На аэродроме их встречали мой заместитель генерал армии В.Д. Соколовский, первый комендант Берлина генерал-полковник Н.Э. Берзарин, член Военного совета 5-й армии генерал-лейтенант Ф.Е. Боков и другие представители Красной Армии. С аэродрома союзники прибыли в Карлсхорст, где было решено принять от немецкого командования безоговорочную капитуляцию.
На тот же аэродром из города Фленсбурга прибыли под охраной английских офицеров генерал-фельдмаршал Кейтель, адмирал флота Фридебург и генерал-полковник авиации Штумпф, имевшие полномочия от Деница подписать акт безоговорочной капитуляции Германии.
Немного отдохнув с дороги все представители командования союзных войск прибыли ко мне, чтобы договориться по процедурным вопросам столь волнующего события. Не успели мы войти в помещение, отведённое для беседы, как туда буквально хлынул поток американских и английских журналистов и с места в карьер начали штурмовать меня вопросами. От союзных войск они преподнесли мне флаг дружбы, на котором золотыми буквами были вышиты слова приветствия Красной Армии от американских войск.
По словам наших офицеров, Кейтель и другие члены немецкой делегации очень нервничали. Обращаясь к окружающим, Кейтель сказал:
— Проезжая по улицам Берлина, я был потрясён степенью его разрушения.
Кто-то из наших офицеров ему ответил:
— Господин фельдмаршал, а вы не были потрясены, когда по вашему приказу стирались с лица земли тысячи советских городов и сёл, под обломками которых были задавлены миллионы наших людей, в том числе тысячи детей?
Кейтель побледнел, нервно пожал плечами и ничего не ответил.
Как мы условились заранее, в 23 часа 45 минут Тэддер, Спаатс и Латр де Тассиньи, представители от союзного командования, Вышинский, Телегин, Соколовский и другие собрались у меня в кабинете, находившемся рядом с залом, где должно было состояться подписание немцами акта безоговорочной капитуляции.
Ровно в 24 часа мы вошли в зал. Начиналось 9 мая 1945 года. Мы сели за стол. Он стоял у стены, на которой были прикреплены государственные флаги Советского Союза, США, Англии, Франции.
В зале, за длинными столами, покрытыми зелёным сукном, расположились генералы Красной Армии, войска которых в самый короткий срок разгромили оборону Берлина и вынудили противника сложить оружие. Здесь же присутствовали многочисленные советские и иностранные журналисты, фоторепортёры.
Мы, представители Верховного Главнокомандования Советских Вооружённых Сил и Верховного Командования Союзных войск, — заявил я, открывая заседание, — уполномочены правительствами стран антигитлеровской коалиции принять безоговорочную капитуляцию Германии от немецкого военного командования. Пригласите в зал представителей немецкого главного командования.
Первым, не спеша и стараясь сохранить видимое спокойствие, переступил порог генерал-фельдмаршал Кейтель, ближайший сподвижник Гитлера. Выше среднего роста, в парадной форме, подтянут. Он поднял руку со своим фельдмаршальским жезлом вверх, приветствуя представителей Верховного командования советских и союзных войск. За Кейтелем появился генерал-полковник Штумпф. Невысокий, глаза полны злобы и бессилия. Одновременно вошёл адмирал флота Фридебург, казавшийся преждевременно состарившимся. Немцам было предложено сесть за отдельный стол, который специально для них был поставлен недалеко от входа.
Я обратился к немецкой делегации:
— Имеете ли вы на руках акт безоговорочной капитуляции Германии. Изучили ли его и имеете ли полномочия подписать этот акт?
Вопрос мой на английском повторил главный маршал авиации Теддер.
-Да, изучили и готовы подписать его, — приглушённым голосом ответил генерал-фельдмаршал Кейтель, передавая нам документ, подписанный гросс-адмиралом Дёницем. В документе значилось, что Кейтель, фон Фридебург и Штумпф уполномочены подписать акт безоговорочной капитуляции.
Встав, я сказал:
— Предлагаю немецкой делегации подойти сюда, к столу. Здесь вы подпишите акт безоговорочной капитуляции Германии.
Кейтель быстро поднялся, устремив на нас недобрый взгляд, а затем опустил глаза и медленно взяв со столика фельдмаршальский жезл, неуверенным шагом направился к нашему столу. Монокль его упал и повис на шнурке. Лицо покрылось красными пятнами. Вместе с ним к столу подошли Штумпф, Фридебург и немецкие офицеры, сопровождающие их. Поправив монокль, Кейтель сел на край стула и слегка дрожавшей рукой подписал 5 экземпляров акта. Тут же поставили подписи Штумпф и Фридебург.
В 0 часов 43 минуты 9 мая 1945 года подписание акта безоговорочной капитуляции Германии было закончено. Я предложил немецкой делегации покинуть зал.
От имени Советского Верховного Главнокомандования я сердечно поздравил всех присутствовавших с долгожданной победой. Все друг друга поздравляли, жали руки. У многих на глазах были слёзы радости.
— Дорогие товарищи, — сказал я товарищам по оружию, — нам с вами выпала великая честь. В заключительном сражении нам было оказано доверие народа, партии и правительства вести доблестные советские войска на штурм Берлина. Это доверие советские войска, в том числе и вы, возглавлявшие войска в сражениях за Берлин, с честью оправдали. Жаль, что многих нет среди нас. Как бы они порадовались долгожданной победе, за которую, не дрогнув, отдали свою жизнь.
В 0 часов 50 минут 9 мая 1945 года заседание, на котором была принята безоговорочная капитуляция немецких вооружённых сил закрылась.
Потом состоялся приём, который прошёл с большим подъёмом. Обед удался на славу. Открыв банкет, я предложил тост за победу стран антигитлеровской коалиции над фашистской Германией. Затем выступал маршал Теддер, за ним Ж.Латр де Тассиньи и генерал Спаатс.
Праздничный ужин закончился утром песнями и плясками. Подписанный акт безоговорочной капитуляции утром того же дня был доставлен в Ставку Верховного Главнокомандующего. Первый пункт акта гласил:
«1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского военного командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооружённых сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находившихся в настоящее время под немецким командованием, Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных экспедиционных сил».
Днём 9 мая мне позвонили из Москвы и сообщили что вся документация о капитуляции немецко-фашистской Германии получена и вручена Верховному Главнокомандующему.
… Хочу привести слова Отто Гротеволя:
«Где можно найти в истории такую оккупационную армию, – писал он, – которая пять недель спустя после окончания войны дала бы возможность населению оккупированного государства создавать партии, издавать газеты, предоставила бы свободу собраний и выступлений?»
(Отто Гротеволь – руководитель левой группы социал-демократической партии Германии, явно тяготевший к коммунистам.Вскоре между Вильгельмом Пиком, Вальтером Ульбрихтом и Гротеволем начались активные переговоры об образовании из числа коммунистов и левых социал-демократов, которые через год, 21 апреля 1946 года, закончились образованием Социалистической единой партии Германии – СЕПГ).
5 мая Ставке стало известно о восстании чехов в Праге и боях с немецкими войсками. Ставка приказала 1,2 и 4-му Украинским фронтам ускорить движение наших войск в район Праги, чтобы поддержать восставших и не дать гитлеровцам подавить восстание.
Выполняя приказ Ставки, фронты бросили туда свои подвижные войска. В ночь на 9 мая они вышли в район Праги, а утром вошли в город, приветствуемые населением. С этого времени организованное сопротивление немецких войск в Чехословакии, Австрии и на юге Германии прекратилось.
Немецкие войска поспешно отходили на запад, стремясь сдаться в плен американским войскам. Там, где советские войска преграждали им путь отхода, они пытались пробиться силой оружия, неся при этом большие потери.
Командование американских войск, нарушив свои союзнические обязательства, не преградило немецко-фашистским войскам отход в их зону, а даже содействовало этому. Те же явления мы наблюдали и на участках английских войск. Советское командование заявило протест союзникам, но из этого ничего не получилось, наши требования остались без ответа.
В расположение американских войск спешила отойти и дивизия власовцев, изменников Родины. В дивизии находился сам Власов. Было решено взять Власова в плен живым, чтобы воздать полностью за измену Родине. Власова захватили в легковой машине отходящей колонны. Спрятавшись под грудой вещей и укрывшись одеялом, он притворился больным солдатом, но был разоблачён своими солдатами. Позднее Власов и его единомышленники были осуждены Военным трибуналом и казнены.
Итак, окончательно рухнуло чудовищное фашистское государство. Советские Вооружённые Силы и войска союзников при содействии народно-освободительных сил Франции, Югославии, Польши, Чехословакии и других стран завершили разгром фашизма в Европе.
В настоящее время кое-кто на Западе пытается преуменьшить трудности, с которыми пришлось столкнуться Советским войскам в завершающих операциях 1945 года, и при взятии Берлина в частности. Как участник Берлинской операции должен сказать, что это была одна из труднейших операций Второй мировой войны. Группировка противника общим количеством около миллиона человек, оборонявшаяся на Берлинском направлении дралась ожесточённо.
Советские войска в этой завершающей операции понесли большие потери – около трёхсот тысяч убитыми и ранеными.
Из разговоров с Эйзенхауэром, Монтгомери, офицерами и генералами союзных войск мне тогда было известно, что после форсирования Рейна союзные войска серьёзных боёв с немцами не вели. Немецкие части быстро отходили и без особого сопротивления сдавались в плен американцам и англичанам. Эти данные подтверждаются крайне ничтожными потерями союзных войск в завершающих операциях.
Какие потери понесла трёхмиллионная американская армия, двигаясь от Рейна на восток, юго-восток и северо-восток? Оказывается, американцы потеряли всего лишь 8351 человека, в то время как число пленных исчислялось сотнями тысяч солдат, офицеров и генералов. Многие руководящие военные деятели Запада, в том числе и бывшее Верховное командование экспедиционных союзных войск в Европе, продолжают делать неверные выводы о том, что после сражения в Арденнах и выхода союзных войск на Рейн германская военная машина была разбита и вообще не было надобности проводить весеннюю кампанию 1945 года. Даже бывший президент США Д. Эйзенхауэр в своём интервью, которое он дал в 1965 году в Чикаго вашингтонскому корреспонденту Фольянцу заявил: «Германия потерпела полное поражение после битвы в Арденнах. К 16 января всё было кончено и всякий разумный человек понял, что это конец. От всякой весенней кампании следовало отказаться. Война кончилась бы на 60 или 90 дней раньше.
Не могу с этим согласиться. Красная Армия, как мы уже знаем, в середине января 1945 года только развернула наступление с рубежа Тильзит-Варшава-Сандомир, имея целью разгромить противника в Восточной Пруссии и Польше. В последующем планировалось наступление в центре Германии для овладения Берлином и выхода на Эльбу, а на южном крыле готовилось окончательное освобождение Чехословакии и Австрии.
Согласно рассуждениям Эйзенхауэра выходит, что советские войска должны были в январе 1945 года тоже отказаться от весенней кампании. Это значило закончить войну, не достигнув ни основной военно-политической цели, ни даже границ фашистской Германии, не говоря уже о взятии Берлина. Короче говоря, сделать то, о чём мечтал Гитлер и его окружение, сидя в подземельях имперской канцелярии, сделать то, о чём печалятся сегодня все те, кому не по душе великие прогрессивные перемены наших дней, кто проповедует политику в духе возрождения фашизма. Ни одна страна, ни один народ антигитлеровской коалиции не понесли таких тяжёлых жертв, как Советский Союз, и никто не приложил столько сил, чтобы разбить врага, угрожавшего всему человечеству.
В войне с Германией и Японией Америка потеряла убитыми 405 тысяч человек, Англия – 375 тысяч человек. Тогда как, например, Польша – 6 миллионов человек, Югославия – 1 миллион 706 тысяч человек, СССР свыше 20 миллионов человек (по уточнённым данным около 27,5 миллиона человек – А.М).Никто из нас тогда не предполагал, что вскоре последуют годы «холодной войны».
Война, развязанная гитлеровскими правителями обошлась очень дорого и немецкому народу – 7 миллионов только убитыми потеряла Германия в этой войне. Погибли и те, кто самоотверженно боролся против фашизма. Более трёхсот тысяч коммунистов было уничтожено в фашистских застенках. Немало погибло и борцов из числа левого крыла социал-демократии.
Советское военное руководство сумело на втором этапе войны вырвать у врага инициативу и организовать ряд крупнейших стратегических наступательных операций. Важнейшими факторами успеха наступательных операций 1943-1945 годов являлись новый метод артиллерийского и авиационного наступления; массированное применение танковых и авиационных объединений.
Гитлер и его окружение не сумели правильно оценить обороноспособность Советского Союза и те силы, которые были заключены в недрах Советского общественного и государственного строя, в основах Советской экономики и высоком патриотизме советских людей.
В оккупированных областях РСФСР, по далеко не полным данным, в организованных отрядах партизан находилось 260 тысяч народных мстителей, на Украине – 220тысяч, в Белоруссии – 374 тысячи. Командованию вражеских войск пришлось у себя в тылу практически создавать второй фронт для борьбы с партизанами.
В середине мая 1945 года Сталин приказал мне прибыть в Москву. По приезде я направился прямо в Генштаб к Антонову, от которого узнал, что ГКО рассматривает сейчас вопросы, связанные с выполнением наших новых обязательств перед США и Англией о вступлении Советского Союза в войну с Японией.
Из Генштаба я позвонил Сталину и доложил о своём прибытии. Тут же получил указание явиться в восемь часов вечера в Кремль.
После беседы с М.И. Калининым я пошёл к Верховному. В кабинете были, кроме членов ГКО, нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов, А.И. Антонов, начальник тыла Красной Армии А.В. Хрулёв, несколько генералов, ведавших в Генштабе организационными вопросами. Антонов докладывал расчёты Генштаба по переброске войск и материальных средств на Дальний Восток и сосредоточению их по будущим фронтам. По намёткам Генштаба выходило, что на всю подготовку к боевым действиям с Японией потребуется около трёх месяцев. Затем Сталин спросил:
— Не следует ли нам в ознаменование победы над фашистской Германией провести в Москве Парад Победы и пригласить наиболее отличившихся героев – солдат, сержантов, старшин, офицеров и генералов?
Эту идею все горячо поддержали и начали тут же вносить ряд практических предложений. Вопрос о том, кто будет принимать Парад Победы и кто будет командовать, тогда не обсуждался. Однако каждый из нас считал, что Парад Победы должен принимать Верховный Главнокомандующий. Тут же Антонову было дано задание подготовить все необходимые расчёты по параду и проект директивы. На другой день все документы были доложены Сталину и утверждены им. На парад предусматривалось пригласить по одному сводному полку от Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 1,2,3-го Белорусских, 1,2,3,4-го Украинских фронтов, сводные полки ВМФ и ВВС.
В состав полков включались Герои Советского Союза, кавалеры орденов Славы, прославленные снайперы и наиболее отличившиеся орденоносцы – солдаты, сержанты, старшины и офицеры. Сводные фронтовые полки должны были возглавлять командующие фронтами.
Решено было привезти из Берлина Красное знамя, которое было водружено над рейхстагом, а также боевые знамёна немецко-фашистских войск, захваченные в сражениях советскими войсками.
В конце мая и начале июня шла усиленная подготовка к параду. В десятых числах июня весь состав участников был одет в новую парадную форму и приступил к тренировке.
12 июня Калинин вручил мне третью «Золотую Звезду» Героя Советского Союза. Точно не помню, кажется 18-19 июня меня вызвал к себе на дачу Верховный. Он спросил, не разучился ли я ездить на коне.
— Нет, не разучился, да и сейчас продолжаю упражняться в езде.
— Вот, что. – сказал Сталин, — вам придётся принимать Парад Победы. Командовать парадом будет Рокоссовский.
Я ответил:
— Спасибо за такую честь, но не лучше ли парад принимать вам? Вы Верховный Главнокомандующий, по праву и обязанности парад следует принимать вам.
Сталин сказал:
— Я уже стар принимать парады. Принимайте вы, вы помоложе.
Прощаясь, он заметил, как мне показалось, не без намёка:
— Советую принимать парад на белом коне, которого вам покажет Будённый.
Построение Парада Победы было определено Сталиным в порядке общей линии действующих фронтов, справа налево. На правом фланге был построен полк Карельского, затем Ленинградского, 1-го Прибалтийского и так далее. На левом фланге строй замыкали 4-й Украинский фронт, полк ВМФ и части Московского военного округа.
Для каждого сводного полка были специально выбраны военные марши, которые были особенно ими любимы. 22 июня в газетах был опубликован следующий приказ Верховного Главнокомандующего:
«В ознаменовании победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск действующей армии, Военно-Морского флота и Московского гарнизона – Парад Победы… Парад принять моему заместителю Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову, командовать парадом Маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому.
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза
И. Сталин
Москва, 22 июня 1945 года»
24 июня 1945 года я встал раньше обычного… Над Москвой было пасмурное небо и моросил дождь. Позвонил командующему военно-воздушными силами, который сказал, что на большей части аэродромов погода нелётная. Казалось Парад Победы не пройдёт так торжественно, как всем нам хотелось. Но нет! Москвичи в приподнятом настроении шли с оркестрами к району Красной площади.
Без трёх минут десять я был на коне у Спасских ворот. Отчётливо слышу команду: «Парад смирно!»
Вслед за командой прокатился гул аплодисментов руководителям партии и правительства, появившимся на Мавзолее. Часы отбивают 10.00. Что тут говорить, сердце билось учащённо.
Но с выездом на Красную площадь, когда грянули мощные и торжественные звуки столь дорогой для каждой русской души мелодии «Славься!» Глинки, а затем сразу воцарилась тишина, раздались чёткие слова командующего парадом Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, который, конечно, волновался не меньше моего. Его рапорт поглотил всё моё внимание, и я стал спокоен.
Во время объезда и приветствия я видел, как с козырьков фуражек струйками сбегала вода от дождя, но душевный подъём был настолько велик, что никто этого не замечал.
Особенный восторг охватил всех, когда торжественным маршем двинулись полки героев мимо Мавзолея В.И. Ленина. Во главе их шли прославившиеся в сражениях с фашистскими войсками генералы, маршалы родов войск и Маршалы Советского Союза.
Ни с чем не сравнимым был момент, когда двести бойцов – ветеранов войны под барабанный бой бросили к подножию Мавзолея В.И. Ленина двести знамён немецко-фашистской армии.
Пусть помнят этот исторический акт реваншисты, любители военных авантюр.
После Парада Победы состоялся правительственный приём в честь участников парада. На приёме присутствовали руководители партии и правительства, члены Президиума Верховного Совета СССР, члены ЦК партии, наркомы, видные деятели Красной Армии и Флота, науки, искусства, литературы, промышленности и сельского хозяйства. Было произнесено много тёплых речей.
По возвращении в Берлин мы предложили американцам, англичанам и французам провести парад войск в честь победы над фашистской Германией в самом Берлине. Через некоторое время был получен их положительный ответ. Парад советских войск и войск союзников было решено провести в сентябре в районе рейхстага и Бранденбургских ворот, где проходили завершающие бои при взятии Советскими войсками Берлина 1-2 мая 1945 года.
Согласно договорённости парад войск должны были принимать главнокомандующие войсками Советского Союза, США, Англии и Франции. В берлинском параде участвовали все рода сухопутных войск. ВВС и ВМФ решено было не привлекать…
Но накануне парада мы были неожиданно предупреждены о том, что по ряду причин главнокомандующие союзными войсками не могут прибыть в Берлин на парад и уполномочили своих генералов принять в нём участие.
Я тотчас же позвонил Сталину. Выслушав мой доклад, он сказал:
— Они хотят принизить политическое значение парада войск стран антигитлеровской коалиции. Подождите, они ещё не такие будут выкидывать фокусы. Не обращайте внимание на отказ главкомов и принимайте парад сами, тем более, что вы имеете на это прав больше, чем они.
Парад войск в Берлине состоялся 7 сентября 1945 года в точно назначенное время. В нём приняли участие советские войска, штурмовавшие Берлин, американские, английские и французские войска, которые находились в Берлине для несения оккупационной службы в отведённых им секторах западной части города.
Объехав войска, построенные для прохождения торжественным маршем, я произнёс речь, в которой были отмечены исторические заслуги Советских войск и экспедиционных сил союзников.
Наша пехота, танкисты и артиллеристы прошли в безукоризненном строе. Особо внушительное впечатление произвели танки и самоходная артиллерия.
Потсдамская конференция
Контрольный совет по управлению Германией
В мае 1945 года, примерно в двадцатых числах, поздно вечером мне домой позвонил Поскрёбышев и передал, чтобы я приехал в Кремль к Сталину. В кабинете Верховного, кроме него, находились Молотов и Ворошилов. После взаимных приветствий Сталин сказал:
— В то время как мы всех солдат и офицеров немецкой армии разоружили и направили в лагеря для военнопленных, англичане сохраняют немецкие войска в полной боевой готовности и устанавливают с ними сотрудничество.
До сих пор штабы немецких войск во главе с их бывшими командующими пользуются свободой и по указанию Монтгомери собирают и приводят в порядок оружие и боевую технику своих войск.
— Я думаю, — продолжал Сталин, — англичане стремятся сохранить немецкие войска, чтобы их можно было использовать позже. А это – прямое нарушение договорённости между главами правительств о немедленном роспуске немецких войск.
Обращаясь к Молотову, Сталин сказал:
— Надо ускорить отправку нашей делегации в Контрольную комиссию, которая должна решительно потребовать от союзников ареста всех членов правительства Дёница, немецких генералов и офицеров.
— Советская делегация завтра выезжает во Фленсбург, – ответил Молотов.
— Теперь после смерти президента Рузвельта, Черчилль быстро столкуется с Трумэном, — заметил Сталин.
— Американские войска до сих пор находятся в Тюрингии и, как видно пока не собираются уходить в свою зону оккупации, — сказал я. — По имеющимся у нас сведениям, американцы охотятся за новейшими патентами, разыскивают и отправляют в Америку крупных немецких учёных. Такую же практику они проводят в других европейских странах. По этому поводу я уже писал Эйзенхауэру и просил его ускорить отвод американских войск из Тюрингии.
Он мне ответил, что собирается в ближайшие дни приехать в Берлин, чтобы установить личный контакт со мной и обсудить все вопросы. Думаю, что следует потребовать от Эйзенхауэра немедленного выполнения договорённости о расположении войск в предназначенных зонах оккупации. В противном случае нам следует воздержаться от допуска военного персонала союзников в зоны большого Берлина.
— Правильно, — одобрил Сталин. – Теперь послушайте зачем я вас вызвал. Военные миссии союзников сообщили, что в начале июня в Берлин прибудут Эйзенхауэр, Монтгомери и Латр де Тассиньи для подписания декларации о взятии Советским Союзом, США, Англией и Францией верховной власти по управлению Германией на период её оккупации. Вот текст, прочтите, — сказал Сталин, передавая мне сложенный лист бумаги. Там было сказано: «Правительство Советского Союза, США, Англии и Франции берут на себя верховную власть в Германии, включая всю власть, которой располагает германское правительство, верховное командование и любое областное, муниципальное или местное правительство или власть».
Декларация предусматривала:
— Полное разоружение всех германских вооружённых сил, включая сухопутные, воздушные, противовоздушные и военно-морские силы, СС, СА, гестапо и все другие силы или вспомогательные организации, имевшие оружие, с передачей оружия союзникам;
— арест всех главных фашистских лидеров и лиц, подозреваемых в военных преступлениях;
— принятие союзниками таких мер по разоружению и демилитаризации Германии, какие они сочтут необходимыми для будущего мира и безопасности.
Я вернул Верховному документ.
— В этой связи, — продолжал Сталин, — возникает вопрос об учреждении Контрольного совета по управлению Германией, куда войдут представители всех четырёх стран. Мы решили поручить вам должность Главноначальствующего по управлению Германией от Советского Союза.
Помимо штаба Главкома нужно создать советскую военную администрацию. Вам нужно иметь заместителя по военной администрации. Кого вы хотите иметь своим заместителем?
Я назвал В.Д. Соколовского, Сталин согласился.
Затем он ознакомил меня с основными вопросами организации Контрольного совета по Германии:
— В этот совет, кроме вас, назначаются от США генерал армии Эйзенхауэр, от Англии — фельдмаршал Монтгомери, от Франции – генерал Латр де Тассиньи.
У каждого из вас будет политический советник. У вас будет Вышинский, у Эйзенхауэра – Роберт Мэрфи, у Монтгомери – Стронг. Кто будет от Франции, пока неизвестно.
Все постановления Контрольного совета действительны при единогласном решении вопроса. Вероятно, в ряде вопросов вам придётся действовать одному против трёх.
Зажигая трубку, он добавил, улыбаясь:
— Ну, да нам не привыкать драться одним… Главнейшей целью Контрольного совета, — продолжал Сталин, — должно явиться быстрое налаживание мирной жизни германского народа, полное уничтожение фашизма и организация работы местных властей. В состав местных органов власти в Германии следует отбирать трудящихся, из тех, кто ненавидит фашизм. Нашу страну фашисты разорили и разграбили, поэтому вам, Соколовскому, Сабурову и Зорину нужно серьёзно поработать над тем, чтобы быстрее осуществить договор с союзниками о демонтаже военно-промышленных предприятий в счёт репараций.
Получив эти указания, я вскоре отправился в Берлин. На следующий же день по прибытии ко мне явился с визитом генерал Эйзенхауэр со своей многочисленной свитой, в которой был и командующий стратегической авиацией США генерал Спаатс. Генерала Эйзенхауэра мы принимали в штабе фронта. Вместе со мной был Вышинский. Встретились мы по-солдатски, можно сказать, дружески… Переходя к делу, он сказал:
— Нам придётся договориться по целому ряду вопросов, связанных с организацией Контрольного совета и обеспечением наземных коммуникаций через советскую зону в Берлин для персонала США, Англии и Франции.
— Видимо, нужно будет договориться не только о наземных коммуникациях, — ответил я Эйзенхауэру, — придётся решить вопросы о порядке полётов в Берлин американской и английской авиации через советскую зону.
На это генерал Спаатс, небрежно откинувшись на спинку стула, небрежно бросил:
— Американская авиация летала и летает без всяких ограничений.
— Через советскую зону ваша авиация летать без ограничения не будет, — ответил я Спаатсу. Будете летать только в установленных воздушных коридорах.
Тут быстро вмешался Эйзенхауэр и сказал Спаатсу:
— Я не поручал вам так ставить вопрос о полётах авиации. А затем, обратившись ко мне заметил:
— Сейчас я приехал к вам, господин маршал, только с тем, чтобы лично познакомиться, а деловые вопросы решим тогда, когда организуем Контрольный совет.
— Думаю, что мы с вами, как старые солдаты, найдём общий язык и будем дружно работать, — ответил я.
— А сейчас я хотел бы просить вас об одном: быстрее вывести американские войска из Тюрингии, которая, согласно договорённости на Крымской конференции между главами правительств союзников, должна оккупироваться только Советскими войсками.
— Я согласен с вами и буду на этом настаивать, — ответил Эйзенхауэр. Для меня было ясно, что этот вопрос упирается в большую политику, вернее – в Черчилля и Трумэна.
5 июня в Берлин прибыли Эйзенхауэр, Монтгомери, Латр де Тассиньи для подписания Декларации о поражении Германии и принятия верховной власти в Германии правительствами СССР, США, Англии и Франции.
Перед заседанием Эйзенхауэр приехал ко мне в штаб, чтобы вручить высший военный орден США – «Легион почёта» степени Главнокомандующего, которым я был награждён американским правительством.
Я позвонил Верховному и доложил об этом. Сталин сказал:
— Нам, в свою очередь нужно наградить Эйзенхауэра и Монтгомери орденами Победы, а Латр де Тассиньи орденом Суворова 1 степени.
— Могу ли я объявить им об этом?
— Да, конечно.
После подписания декларации Монтгомери, обратившись ко мне, сказал:
— Господин Маршал, мы решили в ближайшие дни занять в Берлине свою зону…
— Прежде чем решать вопрос о коммуникациях, по которым английские и американские войска войдут в Берлин, нужно, чтобы войска союзников расположились в тех районах Германии, которые были предусмотрены решениями Крымской конференции. Поэтому до тех пор, пока американские войска не уйдут из Тюрингии, а английские из района Виттенберга, я не могу согласиться на пропуск в Берлин военного персонала союзников, а также на размещение персонала административных органов Контрольного совета.
Монтгомери начал было возражать, но тут быстро вмешался Эйзенхауэр.
— Монти не спорь! Маршал Жуков прав. Тебе надо скорее убираться из Виттенберга, а нам из Тюрингии.
Я объявил командующим войсками союзников о решении Советского правительства наградить их высшими советскими военными орденами.
На мой вопрос, где и когда можно вручить им ордена, Эйзенхауэр и Монтгомери ответили, что просят прибыть к ним в Франкфурт-на Майне 10 июня.
Проводив своих будущих коллег по Контрольному совету, я позвонил Сталину и рассказал о претензии Монтгомери и позиции, занятой Эизенхауэром.
Сталин, рассмеявшись, сказал:
— Надо как-нибудь пригласить Эйзенхауэра в Москву. Я хочу познакомиться с ним.
10 июня, как было установлено, мы вылетели в штаб Эйзенхауэра. Состоялась церемония награждения советскими орденами Эйзенхауэра и Монтгомери, американских и английских генералов и офицеров.
Вскоре американцы и англичане отвели свои войска из районов, которые они заняли в нарушение договорённости. Вслед за этим в Берлин прибыли оккупационные части войск США, Англии и Франции и персонал административных органов Контрольного совета.
В назначенный день и час Рокоссовский, Соколовский, Малинин и я прибыли к Бранденбургским воротам, где были торжественно встречены почётным караулом английских гвардейских войск и большой группой генералов и офицеров.
Награждение состоялось около рейхстага, я был награждён орденом «Бани» 1 степени и Большим рыцарским крестом, Рокоссовский – орденом «Бани» II степени, Соколовский и Малинин – орденами «За заслуги».
Правящие круги США считали преждевременным и опасным раскрывать подлинные планы и намерения, предпочитали продолжать сотрудничество с Советским Союзом. К тому же, как и правящие круги Англии, они были заинтересованы в участии СССР в войне против Японии и с нетерпением ожидали нашего вступления в эту войну.
В начале работы Контрольного совета мы договорились с Эйзенхауэром послать группу советских офицеров разведотдела штаба фронта в американскую зону для допроса главных военных преступников, которых в американской зоне набралось больше, чем в какой-либо другой.
Там были Геринг, Риббентроп, Кальтенбрунер, генерал-фельдмаршал Кейтель, генерал-полковник Йодль и другие не менее важные персоны третьего рейха.
Однако американцы, имея соответствующие указания, не разрешили нашим офицерам допросить всех военных преступников. В своих показаниях гитлеровцы петляли как зайцы, стараясь во всех преступлениях перед человечеством обвинить одного Гитлера, и всячески уклонялись от признания своей личной вины.
Материалы допросов подтверждали наличие закулисных переговоров гитлеровцев с разведывательными органами США и Англии о возможности сепаратного мира с этими странами.
Вскоре мы получили достоверные сведения о том, что ещё в ходе заключительной кампании Черчилль направил фельдмаршалу Монтгомери секретную телеграмму с предписанием: «Тщательно собирать германское оружие и боевую технику и складывать её чтобы легко можно было бы снова раздать это вооружение германским частям, с которыми нам пришлось бы сотрудничать, если бы советское наступление продолжалось».
На очередном заседании Контрольного совета нам пришлось сделать резкое заявление по этому поводу, подчеркнув, что история знает мало примеров подобного вероломства и измены союзническим обязательствам и долгу.
Впоследствии Черчилль, выступая перед избирателями округа Вуддфорд, открыто заявил, что, когда немцы сдавались сотнями тысяч в плен, он действительно направил подобный секретный приказ фельдмаршалу Монтгомери. Некоторое время спустя и сам Монтгомери подтвердил получение этой телеграммы от Черчилля.
За годы войны гитлеровцы угнали миллионы советских людей в Германию на принудительные работы и в концлагеря. Всех освобождённых в восточной части Германии мы старались как можно скорее вернуть на Родину, по которой люди за тяжкие годы в неволе так истосковались.
Но значительная часть советских граждан и бывших в плену советских солдат и офицеров находилась в зонах союзников. Естественно, мы стали настойчиво добиваться передачи их в нашу зону для возвращения в Советский Союз. Я обратился к Эйзенхауэру, который с пониманием отнёсся к этой просьбе, и нам удалось значительную часть советских людей вывезти из американской, а затем и английской зон. Но потом нам стало известно, что среди советских граждан, солдат и офицеров, находившихся в лагерях военнопленных, американцы и англичане ведут усиленную агитацию за невозвращение на Родину.
Их убеждали остаться на Западе, обещая хорошо оплачиваемую работу и всяческие блага. При этом было пущена в ход обычная в таких случаях клевета на Советский Союз и всевозможные запугивания.
Эйзенхауэр и Клей вначале пытались прикрыться «гуманными целями», но затем разрешили нашим офицерам встретиться для разговора с задержанными советскими людьми в американских лагерях. После откровенных бесед и разъяснений советскими офицерами вопросов, волновавших этих людей, многие, поняв своё заблуждение и фальшь пропаганды американских разведчиков, заявили о своём решении вернуться и прибыли в советскую зону для отправки на Родину.
В конце мая 1945 года Сталин предупредил меня о том, что возвращаясь после посещения Москвы, проездом через Берлин, мне нанесёт визит Гарри Гопкинс, особо доверенное лицо президента США. Он, по мнению Сталина, был выдающейся личностью. Он много сделал для укрепления деловых связей США с Советским Союзом.
За завтраком Г. Гопкинс сказал, что был принят в Москве Сталиным. Во время этой встречи обсуждались вопросы предстоящей Конференции глав правительств. Черчилль настаивает собраться в Берлине 15 июня, — сказал Гопкинс, — но мы не будем готовы для участия в таком ответственном совещании к этому сроку. Наш президент предложил назначить конференцию на середину июля. Мы очень рады, что господин Сталин согласился с нашим предложением. Предстоят весьма сложные разговоры о будущем Германии и других стран Европы, а уже сейчас накопилось много «горючего материала». Гопкинс, сделав глоток кофе, сказал глубоко вздохнув: — Жаль, не дожил президент Рузвельт до этих дней, с ним легче дышалось.
Вскоре к нам прибыла группа ответственных работников Комитета Госбезопасности и Наркомата иностранных дел для подготовки предстоящей Конференции.
Для расквартирования глав делегаций, министров иностранных дел, основных советников и экспертов хорошо подходил пригород Потсдама – Бабельсберг, почти не пострадавший от бамбёжек. К 10 июля всё было закончено, подходило к концу и оборудование помещений.
13 и 14 июня прибыла группа советников и экспертов делегации Советского Союза. Среди них – начальник Генштаба Антонов, нарком ВМФ адмирал Кузнецов, начальник Главного военно-морского штаба Кучеров. Наркомат иностранных дел представляли Вышинский, Громыко, Кавтарадзе, Майский, Гусев, Новиков, Царапкин, Козырев, Фалалеев.
16 июня спецпоездом должны были прибыть Сталин, Молотов и сопровождающие их лица.
Накануне мне позвонил Сталин и сказал:
— Вы не вздумайте для встречи строить там почётные караулы с оркестрами. Приезжайте на вокзал сами и захватите с собой тех, кого считаете нужным. Об охране на вокзале позаботится генерал Власик.
Я встретил Сталина около вагона. Он был в хорошем расположении духа и, поздоровавшись, сказал:
— Чувствуется, наши войска со вкусом поработали над Берлином. Проездом я видел всего лишь десяток уцелевших домов. А затем добавил: — Так будет и впредь со всеми любителями военных авантюр.
Затем Сталин подошёл к группе встречавших и поздоровался коротким поднятием руки, как он всегда делал, здороваясь с теми, кому не подавал руки. Окинув взглядом привокзальную площадь, медленно сел в машину, а затем, вновь открыв дверцу, пригласил меня сесть рядом. В пути он интересовался, всё ли подготовлено к открытию конференции.
Сталин обошёл отведённую ему виллу и спросил, кому она принадлежала раньше, ему ответили, что это вилла генерала Людендорфа. Сталин не любил излишеств в обстановке. После обхода помещений он попросил убрать ковры, лишнюю мебель. Потом он поинтересовался, где будут находиться я, начальник Генштаба Антонов и другие военные, прибывшие из Москвы.
— Здесь же в Бабельсберге, — ответил я.
После завтрака я доложил основные вопросы по группе советских оккупированных войск в Германии и рассказал об очередном заседании Контрольного совета где по-прежнему наибольшие трудности мы испытывали при согласовании проблем с английской стороной.
В тот же день прибыли правительственные делегации Англии во главе с премьер-министром У. Черчиллем и США во главе с президентом Г. Трумэном.
Сразу же состоялись встречи министров иностранных дел, а Черчилль и Трумэн нанесли визит Сталину. На другой день утром Сталин нанёс им ответные встречи.
Советской делегации снова удалось опрокинуть расчёты реакционных сил и добиться в качестве важнейшего условия мира дальнейшей конкретизации планов демократизации и демилитаризации Германии. Вместе с тем в Потсдаме гораздо сильнее чем на предыдущих конференциях, проявилось стремление правительств США и Англии воспользоваться поражением Германии для усиления своих позиций в их борьбе за мировое господство.
Потсдамская конференция открылась во второй половине дня 17 июля 1945 года. Заседания её проходили в самой большой комнате дворца, посередине которой стоял круглый, хорошо отполированный стол. Достаточно большого круглого стола в Берлине мы не нашли. Пришлось срочно сделать его в Москве на фабрике «Люкс» и привезти в Потсдам.
Военные советники обсуждали основные предложения о разделе боевых кораблей ВМФ и крупных судов гражданского флота фашистской Германии. Американская и английская стороны всячески затягивали эти переговоры. Сталину пришлось в разговорах за круглым столом с Трумэном и Черчиллем высказать ряд довольно резких замечаний о различном объёме потерь понесённых в войне Советским Союзом и союзниками, и о праве нашей страны требовать соответствующую компенсацию.
Первое время конференция проходила очень напряжённо. Советской делегации пришлось столкнуться с единым фронтом и заранее согласованной политикой США и Англии.
В ходе Потсдамской конференции не все вопросы решались легко. Наиболее агрессивен был Черчилль. Однако Сталину в довольно спокойных тонах удавалось быстро убеждать его в неверном подходе к рассматриваемым вопросам:
Трумэн, видимо, в силу своего тогда ещё ограниченного дипломатического опыта реже вступал в острые политические дискуссии, предоставляя приоритет Черчиллю.
В Потсдаме глава Советского правительства вновь отклонил постановку вопроса о расчленении Германии. Сталин говорил:
— Мы не должны допускать по отношению к немецкому народу такую историческую несправедливость. Немецкий народ никогда не согласится с искусственным расчленением своей родины. Это предложение мы отвергаем, оно противоестественно: надо не расчленять Германию, а сделать её демократическим миролюбивым государством.
Были определены объёмы репараций и порядок их получения. Правда Трумэн и особенно Черчилль не хотели, чтобы в счёт репараций демонтировались предприятия тяжёлой индустрии западной части Германии. Однако в конце концов они согласились, хотя и с всевозможными оговорками, выделить часть оборудования военных заводов из западных зон. К сожалению, это решение было принято только на бумаге: как и некоторые другие постановления Потсдамской конференции, оно не было реализовано.
Конференция вынесла также решение о передаче Советскому Союзу Кёнигсберга и прилегающего к нему района.
В скором времени, зоны оккупации США, Англии и Франции превратились в Федеративную Республику Германии (ФРГ). Так союзники осуществили на практике свою идею расчленения Германии.
В принятом решении конференции сказано:
«Впредь до окончательного определения границ в мирном договоре передать Польше территории к востоку от линии, проходящей от Балтийского моря, чуть западнее Свинемюнде, и далее по Одеру и Нейсе до границы Чехословакии.
Английская сторона настаивала на том, чтобы народное польское правительство взяло на себя возмещение всех займов, субсидированных Англией эмигрантскому польскому правительству Т. Арцишевского, бежавшего в 1939 году из Польши в Лондон. Советская и польская делегации решительно отвергли подобные притязания Великобритании. Одновременно была достигнута договорённость о прекращении со стороны США и Англии дипломатических отношений с бывшим польским (эмигрантским) правительством, находившимся в Лондоне.
Разобрав и решив ряд других не менее важных вопросов, Потсдамская конференция закончила работу 2 августа.
Победа Советского Союза над фашистской Германией была столь убедительна, что правящие круги США и Англии в ту пору вынуждены были идти на согласованные решения. Это и обеспечило успех Потсдамской конференции.
В ходе конференции Трумэн очевидно с целью политического шантажа, пытался повести на Сталина психологическую атаку. После одного из заседаний глав правительств Трумэн сообщил Сталину о наличии у США бомбы необычайно большой силы, не назвав её атомной бомбой. Но это сообщение не удивило Сталина, так как из просочившихся сведений ему было известно о том, что американцы вели усиленную работу над атомной бомбой. В момент этой информации, как потом писали за рубежом, Черчилль впился глазами в лицо Сталина, наблюдая за его реакцией.
Но тот ничем не выдал своих чувств, сделав вид, будто ничего не нашёл в словах Трумэна. Черчилль, как и многие другие английские и американские авторы, утверждал потом, что, вероятно, Сталин не понял значения сделанного ему сообщения.
На самом деле, вернувшись с заседания Сталин в моём присутствии рассказал Молотову о состоявшемся разговоре с Трумэном. Молотов тут же сказал:
— Цену себе набивают.
Сталин рассмеялся: — Пусть набивают. Надо будет переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы.
Американцы без всякой к тому военной необходимости сбросили 6 и 9 августа две атомные бомбы на мирные густонаселённые японские города Хиросима и Нагасаки.
То, о чём я рассказал выше, в основном известно. Однако Потсдамская конференция явилась таким важным этапом в истории Второй мировой войны, что обойти её я, естественно не мог. Теперь я хотел бы остановиться на своих личных впечатлениях, как очевидец этого важного совещания.
* * *
Как и главнокомандующие американскими и английскими войсками, я не являлся официальным членом делегации, однако мне приходилось присутствовать при рассмотрении вопросов, обсуждавшихся на Потсдамской конференции.
Должен сказать, что Сталин был крайне щепетилен в отношении малейших попыток делегаций США и Англии решать вопросы в ущерб Польше, Чехословакии, Венгрии и германскому народу. Особенно острые разногласия у него бывали с Черчиллем как в ходе заседаний, так и в частных беседах. Следует подчеркнуть, что Черчилль с большим уважением относился к Сталину и, как мне показалось, опасался вступать с ним в острые дискуссии. Сталин в спорах с Черчиллем был всегда конкретен и лаконичен.
Незадолго до своего отъезда из Потсдама Черчилль устроил приём у себя на вилле. От Советского Союза были приглашены Сталин, Молотов, Антонов и я. От США – Трумэн, госсекретарь по иностранным делам Бирнс, начальник Генштаба генерал армии Маршалл. От англичан были фельдмаршал Александр, начальник Генштаба фельдмаршал Брук и другие.
На приёме Черчилль уделил мне много внимания, расспрашивал об отдельных сражениях. Надо сказать, что он довольно хорошо разбирался в военно-стратегических вопросах.
К его удовольствию я высоко оценил организацию десантной операции через Ла-Манш.
— Однако я должен вас огорчить мистер Черчилль, — сказал я тут же.
— А именно? – насторожился Черчилль.
— Я считаю, что после высадки союзных войск в Нормандии был допущен ряд серьёзных промахов. И если бы не ошибка в оценке обстановки со стороны германского командования, продвижение союзных войск после их высадки могло значительно задержаться.
Черчилль ничего мне на это не возразил. Видимо, не в его интересах было углубляться в эту тему.
Во время приёма первое слово взял Трумэн. Отметив выдающийся вклад Советского Союза в разгром фашистской Германии, Трумэн предложил первый тост за Верховного Главнокомандующего Вооружённых Силами Советского Союза Сталина. В свою очередь Сталин предложил тост за Черчилля, который в тяжёлые для Англии военные годы взял на свои плечи руководство борьбой с гитлеровской Германией и успешно справился со своими большими задачами. Совершенно неожиданно Черчилль предложил тост за меня. Мне ничего не оставалось делать, как предложить свой ответный тост.
Благодаря Черчиллю за проявленную ко мне любезность, я машинально назвал его «товарищем». Тут же заметил недоумённые взгляды Сталина и Молотова. Импровизируя, я предложил «тост за товарищей по оружию», наших союзников в этой войне.
На другой день, когда я был у Сталина, он и все присутствующие смеялись над тем, как быстро я приобрёл «товарища» в лице Черчилля.
С 28 июля главой английской делегации на Постдамской конференции стал лидер лейбористской партии К. Эттли, сменивший Черчилля на посту премьер-министра.
Вместе с Эттли прибыл и министр иностранных дел Э. Бевин. В отличие от Черчилля Эттли держался более сдержанно, но проводил ту же политическую линию, что и Черчилль, не внеся никаких корректив в политику прежнего консервативного правительства.
Во время конференции Сталин рассмотрел и решил ряд доложенных мною важнейших вопросов по Германии. Им было утверждено решение ГКО о сформировании железнодорожных вертушек для вывоза демонтируемого оборудования с военных объектов Германии в частичное погашение репарационных платежей Советскому Союзу и Польской Народной Республике, а также об организации на западной границе Советского Союза перевалочных баз и перевозке грузов из Германии морским и речным флотом.
Накануне отъезда в Москву Сталин обстоятельно познакомился с планом отправки войск в Советский Союз и ходом репатриации советских граждан из Германии.
Сталин требовал принять все меры, чтобы советские люди получили возможность скорее вернуться на Родину.
После закрытия Потсдамской конференции Сталин сразу же выехал в Москву, дав нам необходимые указания по реализации её решений в Контрольном совете.
Для выработки решения о разделе флота фашистской Германии была создана тройственная комиссия, в которую от Советского Союза был назначен адмирал Г.И. Левченко. Англичане уполномочили для этой цели Дж. Майлса и адмирала Барроу, американцы – адмирала Кинга.
В конце концов вопрос был решён, и Советский Союз получил в общей сложности 656 кораблей и различных транспортных судов, значительная часть которых не нуждалась в ремонте.
Серьёзным толчком к перемене курса явились разногласия на конференции Совета министров иностранных дел в Лондоне. Особенно этому способствовала антисоветская речь Черчилля, произнесённая в Фултоне. Когда Сталин узнал о двурушничестве Черчилля, он крепко выругался и сказал:
— Черчилль всегда был антисоветчиком номер один.
Он им и остался. Это было справедливое замечание в адрес Черчилля.
* * *
Во время Постдамской конференции Сталин вновь заговорил со мной о приглашении в Советский Союз Эйзенхауэра. Я предложил пригласить его в Москву на физкультурный праздник, который был назначен на 12 августа.
Предложение было принято. Сталин приказал направить в Вашингтон официальное приглашение. В приглашении было сказано, что во время пребывания в Москве Эйзенхауэр будет гостем маршала Жукова. Это означало, что генерал приглашался в Советский Союз не как государственный политический деятель, а как выдающийся военный деятель Второй мировой войны.
Поскольку он являлся моим официальным гостем, я должен был вместе с ним прибыть в Москву и сопровождать его в поездке в Ленинград и обратно в Берлин.
С Эйзенхауэром в Москву выехали его заместитель генерал Клей, генерал Дэвис, сын Эйзенхауэра – лейтенант Джон Эйзенхауэр и сержант Л. Драй. Во время этой поездки мы о многом переговорили, и мне казалось, что тогда в своих суждениях Д. Эйзенхауэр был откровенен.
— Летом 1941 года, — рассказывал Эйзенхауэр, — когда фашистская Германия напала на Советский Союз, а Япония проявляла агрессивные намерения в зоне Тихого океана, американские вооружённые силы были доведены до полутора миллиона человек. Военное нападение Японии в декабре 1941 года в Пирл-Харборе для большинства военного ведомства и правительственных кругов было неожиданным. В этом отношении японское правительство действовало таким же хитрым и коварным методом, как германское правительство по отношению к Советскому Союзу. – Наблюдая за развернувшейся борьбой Советского Союза с Германией, — говорил Эйзенхауэр, — мы затруднялись тогда определить, как долго продержится Россия и сможет ли она вообще сопротивляться натиску германской армии.
Деловые круги США вместе с англичанами в то время были серьёзно обеспокоены проблемами сырьевых ресурсов Индии, средневосточной нефти, судьбой Персидского залива и вообще Ближним и Средним Востоком.
Планами открытия второго фронта в Европе США и Англия начали теоретически заниматься с конца 1941 года, но практических решений не принимали вплоть до 1944 года.
— Мы отвергли требование Англии начать вторжение в Германию через Средиземное море по чисто военным соображениям, а не по каким-либо иным причинам, — говорил Эйзенхауэр.
План нападения через Ла-Манш был окончательно согласован с англичанами в апреле 1942 года, но и после этого Черчилль продолжал предпринимать серьёзные попытки уговорить Рузвельта произвести вторжение через Средиземное море.
Открыть фронт в 1942-1943 годах, по мнению Эйзенхауэра, союзники якобы не могли, так как не были готовы к этой большой комбинированной стратегической операции. Это, конечно, было далеко от истины.
Они могли в 1943 году открыть второй фронт, но сознательно не торопились, ожидая, с одной стороны, более значительного поражения вооружённых сил Германии, а с другой – большего истощения вооружённых сил СССР.
— Вторжение в Нормандию через Ла-Манш в июне 1944 года началось в лёгких условиях и проходило без особого сопротивления немецких войск на побережье, чего мы просто не ожидали, — говорил Эйзенхауэр. – Немцы не имели здесь той обороны, о которой они кричали на весь мир.
— А что собой фактически представлял этот «Атлантический вал?» — спросил я.
— Никакого «вала» вообще не оказалось. Это были обычные окопы, да и те несплошные. На протяжении всего этого «вала» не больше трёх тысяч орудий разных калибров. В среднем это немногим больше одного орудия на километр.
Кстати, слабость «вала» откровенно признал и бывший начальник генштаба немецких сухопутных войск генерал-полковник Гальдер. В своих воспоминаниях в 1949 году он писал: «Германия не имела никаких оборонительных средств против десантного флота, который был в распоряжении союзников и действовал под прикрытием авиации полностью и безраздельно господствовавшей в воздухе».[40]
Главные трудности при вторжении в Нормандию, по словам Эйзенхауэра состояли в переброске войск и их материальном снабжении через Ла-Манш. Сопротивление же немецких войск здесь было незначительным.
Меня очень интересовало контрнаступление немецких войск в Аргеннах в конце 1944 года и оборонительные мероприятия союзных войск в этом районе. Надо сказать, что Эйзенхауэр и его спутники без особого желания вступали в разговор на эту тему.
О том, насколько союзники были заинтересованы в быстрой реакции на это сообщение Советского Союза, говорит хотя бы тот факт, что письмо Черчилля (от 6 января 1945 года в котором он просит Сталина начать наступление как можно раньше) было направлено в Москву с главным маршалом авиации Англии Артуром Теддером.
Вспоминая об этом, Эйзенхауэр сказал:
— 12 января русские начали своё мощное наступление. Для нас это был долгожданный момент. У всех стало легче на душе, особенно когда мы получили сообщение о том, что наступление советских войск развивается с большим успехом. Мы были уверены, что немцы теперь уже не смогут усилить свой Западный фронт.
К сожалению, после войны, когда уцелевшие гитлеровские генералы, как, впрочем, и некоторые известные военные деятели из числа наших союзников в прошлой войне, стали наводнять книжный рынок своими материалами, подобная объективная оценка событий Второй мировой войны, данная Эйзенхауэром в 1945 году, стала появляться всё реже и реже, а извращение фактов и инсинуации всё чаще и чаще.
Не в меру ретивые стали договариваться даже до того, что якобы не Красная Армия своими активными действиями против немцев способствовала успеху американцев в период их сражений в районе Арденн, а американцы чуть ли не спасли этим Красную Армию.
Касались мы в разговоре с Эйзенхауэром вопроса о поставках по ленд-лизу. И здесь тогда всё было ясно. Однако в течение многих послевоенных лет буржуазная историография утверждала, как и продолжает утверждать до сих пор, что якобы решающую роль в достижении нашей победы над врагом сыграли поставки союзниками вооружения, материалов и продовольствия.
Из США и Англии было доставлено, например, более 400 тысяч автомобилей, большое количество паровозов, средств связи. Относительно вооружения могу сказать следующее.
Мы получили по ленд-лизу из США и Англии около 18 тысяч самолётов, более 11 тысяч танков. К общему числу вооружения, которым Советский народ оснастил свою армию за годы войны, поставки по ленд-лизу составили в среднем 4 процента.
Что касается танков и самолётов, которые английское и американское правительство нам поставляли, скажем прямо, они не отличались высокими боевыми качествами, особенно танки, которые, работая на бензине, горели как факелы.
По прибытии Эйзенхауэра в Москву Сталин приказал начальнику Генштаба Антонову познакомить его со всеми планами действий наших войск на Дальнем Востоке.
Из всего сказанного Эйзенхауэром можно было понять, что ему пришлось выдержать довольно серьёзный нажим Черчилля, настаивавшего на захвате союзными войсками Берлина. По словам Эйзенхауэра, его как Верховного главнокомандующего мало интересовал Берлин, так как советские войска стояли уже на Одере и находились от Берлина в четыре раза ближе, чем союзные войска.
— Мы стремились взять в первую очередь Бремен, Гамбург, Любек, чтобы захватить немецкие порты, а на юге Южную Баварию, Северную Италию, Западную Австрию и закрыть немцам доступ в горы Южной Баварии, где по нашим данным, гитлеровские войска намеревались укрепиться для дальнейшей борьбы, чтобы избежать безоговорочной капитуляции, — сказал Эйзенхауэр.
Черчилль настаивал перед Рузвельтом и Комитетом начальников штабов союзных войск, чтобы мы захватили Берлин раньше русских, с захватом которого имелось в виду осуществить своё политическое влияние на дальнейшую судьбу Германии. Однако все атаки Черчилля в этом направлении, — говорил Эйзенхауэр, — были отбиты Вашингтоном, и я действовал в духе ранее принятых решений.
Сталин много говорил с Эйзенхауэром о боевых действиях Советских войск и войск союзников против фашистской Германии и Японии, подчёркивал, что Вторая мировая война явилась результатом крайней ограниченности политических руководителей западных империалистических государств, попустительствовавших безудержной военной агрессии Гитлера.
— Война дорого обошлась народам всех воевавших стран, и особенно Советским людям, – сказал Сталин. – Мы обязаны сделать всё, чтобы не допустить подобного в будущем.
Эйзенхауэр с этим горячо согласился.
Тогда мне казалось, что Эйзенхауэр относился с пониманием к тяжёлым жертвам Советского народа. Он не раз повторял: «Всю гитлеровскую шайку надо всенародно повесить и достойно наказать фашистов, проявлявших зверское отношение к людям».
Последний раз с Эйзенхауэром мы встретились в Берлине на нашем приёме, устроенном по случаю годовщины Октябрьской революции в 1945 году.
Ещё раз я виделся с Эйзенхауэром на Женевской конференции глав правительств США, Англии, Франции и Советского Союза в 1955 году. Он был тогда уже президентом США. Мы с ним встречались несколько раз.
Эйзенхауэр говорил уже совсем по-другому, нежели в 1945 году. Теперь он твёрдо выражал и отстаивал политику империалистических кругов США.
Он мог бы сделать многое и для разрядки международной напряжённости в послевоенный период. И в первую очередь для предотвращения агрессии во Вьетнаме.
К сожалению, он в этом направлении ничего не предпринял и, более того, являлся её сторонником.
Д. Эйзенхауэр был на посту президента США два срока с 1953 по 1961 год, после президента Трумэна.
Вскоре после посещения Эйзенхауэром Советского Союза мне позвонил в Берлин Молотов.
— Получено приглашение для вас от американского правительства посетить США. Товарищ Сталин считает полезным подобный визит. Как ваше мнение?
— Я согласен.
К сожалению, перед полётом я заболел. Пришлось ещё раз звонить Сталину:
— В таком состоянии лететь нельзя. Соединитесь с американским послом Смитом и скажите ему, что полёт по состоянию здоровья не состоится.
Хорошо помню, с каким большим вниманием и конкретным знанием условий жизни немецких трудящихся следил за этими важнейшими процессами ЦК партии.
Много ценных советов по главным направлениям этой работы исходило лично от Сталина, который рассматривал эти вопросы под углом зрения интересов международного рабочего движения и борьбы за укрепление мира и безопасности в Европе.
Во всех городах и населённых пунктов немецкое командование оставило при отступлении тысячи раненых солдат и офицеров. В одном только Берлине и его пригородах раненых солдат немецкой армии оказалось более 200 тысяч человек.
При посещении мной госпиталя для немцев один из наших врачей заметил:
— Немцы добивали наших раненых, а мы вот ночи не спим, восстанавливая ваше здоровье.
— Это не простые немцы так поступали, — ответил раненый старик, — это немцы-фашисты.
В первые послевоенные дни и месяцы нам часто приходилось встречаться с руководителями немецких коммунистов Вильгельмом Пиком, Вальтером Ульбрихтом и их ближайшими соратниками.
По просьбе Компартии Германии и лично В. Ульбрихта Советское правительство установило для берлинцев повышенные нормы продовольствия. Так поступали советские люди в Германии после разгрома фашизма. А что замышлял Гитлер в отношении Советского народа?
— Готовясь к захвату Москвы, Гитлер дал директиву, которую я хочу напомнить ещё раз.
«Город должен быть окружён так, чтобы ни один русский солдат, ни один житель – будь то мужчина, женщина или ребёнок – не мог его покинуть. Всякую попытку выхода подавлять силой. Произвести необходимые приготовления, чтобы Москва и её окрестности с помощью огромных сооружений были заполнены водой. Там где стоит Москва, должно возникнуть море, которое навсегда скроет от цивилизованного мира столицу русского народа».
— Не лучшую участь готовили гитлеровцы и Ленинграду, который они предполагали сровнять с землёй.
«Для других городов, – говорил Гитлер, — должно действовать правило: перед их занятием они должны быть превращены в развалины артиллерийским огнём и воздушными налётами».[41]
Подобную варварскую дикость и жестокость трудно понять нормальному человеку.
В конце марта 1946 года, когда я вернулся после сессии Верховного Совета снова в Берлин, мне передали, чтобы я позвонил Сталину.
— Правительство США отозвало из Германии Эйзенхауэра, оставив вместо него генерала Клея. Английское правительство отозвало Монтгомери. Не следует ли вам также вернуться в Москву?
— Согласен. Что касается моего преемника предлагаю назначить Главкомом и Главноначальствующим в Советской зоне оккупации в Германии генерала армии Соколовского. Он лучше других знаком с работой Контрольного совета и хорошо знает войска.
— Хорошо, мы здесь подумаем. Ждите указаний.
Прошло два-три дня. Поздно вечером мне позвонил Сталин. Справившись, не разбудил ли меня своим звонком, сказал:
— Политбюро согласно назначить вместо вас Соколовского. После очередного совещания Контрольного совета выезжайте в Москву. Приказ о назначении Соколовского последует через несколько дней.
— Ещё один вопрос, – продолжал Сталин. – Мы решили ликвидировать должность первого заместителя наркома обороны, а вместо него иметь заместителя по общим вопросам. На эту должность будет назначен Булганин. Он представит мне проект послевоенного переустройства вооружённых сил. Вас нет в числе основных руководителей Наркомата обороны. Начальником Генштаба назначается Василевский. Главкомом ВМФ думаем назначить Кузнецова. Какую вы хотели бы занять должность?
— Я не думал над этим вопросом, но буду работать на любом посту, который Центральный комитет партии сочтёт для меня более целесообразным.
— По-моему, вам следует заняться сухопутными войсками. Мы думаем, во главе их надо иметь главнокомандующего. Не возражаете?
— Согласен, — ответил я.
— Хорошо. Вернётесь в Москву и вместе с Булганиным и Василевским поработайте над функциональными обязанностями и правами руководящего состава Наркомата обороны.
В апреле 1946 года я вернулся в Советский Союз и через несколько дней зашёл к Булганину. Он был явно смущён, видимо, зная о моём разговоре со Сталиным.
После рассмотрения Положения о Наркомате обороны у меня возникли разногласия о правовом положении главнокомандующих видами вооружённых сил и первого заместителя наркома. По его проекту так, что главкомы в практической работе имеют дело не с наркомом обороны, а с его первым заместителем.
Защищая свой проект, Булганин пытался обосновать его тем, что нарком обороны Сталин перегружен делами партии и государства.
— Это не довод, — сказал я Булганину и попытался отвести его аргументы. – Сегодня нарком Сталин, а завтра может быть другой. Не для отдельных лиц пишутся законы, а для конкретной должности.
Обо всём этом Булганин в извращённом виде доложил Сталину.
И через день Сталин сказал мне, что над Положением о наркоме обороны придётся ещё поработать.
Булганин очень плохо знал военное дело и, конечно, не смыслил в оперативно-стратегических вопросах. Но будучи человеком интуитивно развитым, хитрым, он сумел подойти и завоевать его доверие.[42]
Последний раз в Германской Демократической Республике (ГДР) мне довелось побывать в 1957 году. Осмотрев многие города, учреждения и предприятия убедился: всё то, что было сделано советским народом, партией и правительством, было сделано правильно и дало благие результаты как для немецких трудящихся, так и для дружбы наших народов и обороноспособности стран социализма.
Заключение
Наша победа в войне с фашизмом, говоря возвышенным языком, — звёздный час в жизни советского народа. В те годы мы ещё больше закалялись и скопили огромный моральный капитал. Оглядываясь назад, мы всегда будем помнить тех, кто не щадил себя для победы над врагом нашей Родины.
Великая Отечественная война явилась крупнейшим военным столкновением социализма с наиболее реакционной и агрессивной силой империализма – фашизмом. Это была всенародная битва против злобного классового врага, посягнувшего на самое дорогое, что только есть у советских людей, — на завоевания Великой Октябрьской социалистической революции, на Советскую власть.
Я посвятил свою книгу Советскому солдату. Его волей, его несгибаемым духом, его кровью добыта победа над сильным врагом. Советский солдат умел смотреть в глаза смертельной опасности, проявив при этом боевую доблесть и героизм. Нет границ величию его подвига во имя Родины, как нет границ и величию его трудового подвига после войны. Ведь едва успела кончиться война, как миллионы наших солдат снова оказались на фронте – фронте труда. Им пришлось восстанавливать разрушенное войной хозяйство, поднимать из руин города и сёла.
Я хотел бы, чтобы эту книгу особенно внимательно прочли молодые люди. Мы, старшее поколение, хорошо знаем, что помогло нам выдержать натиск колоссальной силы. А молодым это надо ещё постичь.
Моё слово к вам, молодые люди: будьте всегда бдительны! День промедления в минувшей войне обошёлся нам очень дорого. Теперь в случае кризиса счёт может идти на секунды.
«Никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне… узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, советскую власть – власть трудящихся, что отстаивают то дело, победа которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого труда».
Это сказано Лениным. Лучших слов для окончания книги я не нашёл.
Широко известная книга четырежды Героя Советского Союза Маршала Георгия Константиновича Жукова впервые вышла в 1969 году и с тех пор выдержала двенадцать изданий. Новое 13-е издание, исправленное и дополненное по рукописям автора, приурочено к 60-летию Битвы под Москвой и 105-годовщине со дня рождения Г.К. Жукова вышло в 2002 году в издательстве «Олма-пресс» Москва.
Война началась[43]
С самого начала войны Генштаб испытывал затруднения из-за постоянной потери каналов связи с фронтами и армиями. Трудно было и войскам без связи со Ставкой, Генштабом. Наркомат связи шёл нам навстречу, но он должен был обслуживать потребности всей страны, а поэтому бывало, что наши нужды не всегда немедленно удовлетворялись. Когда доложили об этом ЦК партии, Сталин сказал:
-Если нарком Пересыпкин плохо помогает вам, тогда есть смысл назначить его по совместительству начальником управления связи Наркомата обороны. Так и сделали. Это сразу позволило привлечь для руководства фронтами и армиями все возможные средства связи страны и значительную часть лучших специалистов наркомата для обслуживания линий связи Вооружённых Сил. Дело решительно изменилось и связь перестала быть у нас проблемой.
Тогда же было создано Главное управление формирования и укомплектования войск Красной Армии (Главупроформ).
В конце июля реорганизуется служба тыла. Было создано Главное управление тыла (штаб, Управление военных сообщений, автодорожное управление). Начальником тыла был назначен известный в Вооружённых Силах опытнейший хозяйственник генерал А.В. Хрулёв.
Ряд управлений Наркомата обороны преобразуются в главные. Восстанавливается должность начальника артиллерии Красной Армии, им был назначен генерал Воронов.
Освобождение Генштаба от непосредственного участия в укомплектовании и формировании войск Красной Армии, от управления тылом Вооружённых Сил (за ним оставалось лишь право контроля) позволило сосредоточить основное внимание на оказание Верховному Главнокомандованию (ВГК) всемерной помощи в решении оперативно-стратегических вопросов.
Надо заметить, что первоначальные неудачи Красной Армии показали некоторых командиров в невыгодном свете. Они оказались неспособными в той сложнейшей обстановке руководить войсками по-новому.
Сталин же исходил из того, что, если боевые действия развиваются не так как нужно, значит необходимо срочно произвести замену руководителя. Перемещения касались всего аппарата Наркомата обороны, Генштаба и руководства войсками. Первые два месяца войны я выполнял обязанности только в Генштабе. В разгар Смоленского сражения, 30 июля, чтобы надёжнее прикрыть направление на Москву и создать здесь глубокую оборону, Ставка образовала Резервный фронт. Его командующим стал Г.К. Жуков.
Начальником Генштаба в ночь на 30 июля был назначен Маршал Советского Союза Шапошников. Сталин предпочёл использовать командный опыт Жукова непосредственно в войсках.
1 августа я приступил к исполнению обязанностей начальника Оперативного управления и заместителя начальника Генштаба. С начала августа 1941 года я, сопровождая Шапошникова, ежедневно, а иногда по нескольку раз в сутки бывал у Верховного Главнокомандующего.
Достаточно указать на героическую защиту Брестской крепости, Либавы, Могилёва, Лужской оборонительной полосы и другие. Так что начало войны было не только периодом, когда наша армия переживала неудачи. Она в те дни проявила и волю к борьбе, стойкость, героизм.
К середине июля Красная Армия оставила Латвию, Литву, Молдавию, часть Эстонии, Белоруссии и Правобережной Украины.
К концу августа сухопутные войска вермахта потеряли свыше 441 тыс. человек. Немецкие войска потеряли половину своих танков и около 1300 самолётов. Уже к середине июля 1941года Смоленское сражение положило начало срыву «молниеносной войны» против Советского Союза, заставило врага вносить коррективы в пресловутый план «Барбаросса».
Директивой от 30 июля фашистское командование вынуждено было остановить наступление группы армий «Центр» на Москву. Несколько позже 2-я танковая группа и 2-я армия группы армий «Центр» были повёрнуты на Юг. Они хотели закрепиться на юге, высвободить значительные силы, а потом пойти на советскую столицу.
17 августа Шапошников и я решили при докладе Верховному поставить вопрос об отводе войск правого крыла Юго-Западного фронта на левый берег Днепра. Сталин был уверен, что если Ерёменко (командующий Брянским фронтом) и не разобьёт 2-ю танковую группу Гудериана, то во всяком случае задержит её, не выпустит на юг, и отклонил наше предложение.
Мы с Шапошниковым 7 сентября пошли к Верховному Главнокомандующему с твёрдым намерением убедить его в необходимости немедленно отвести все войска Юго-Западного фронта за Днепр и далее на Восток и оставить Киев.
Разговор был трудный и серьёзный. Сталин упрекал нас в том, что мы, как и Будённый, пошли по линии наименьшего сопротивления: вместо того, чтобы бить врага, стремимся уйти от него. При одном упоминании о жёстокой необходимости оставить Киев Сталин выходил из себя и на мгновение терял самообладание.
Нам же, видимо, не хватало необходимой твёрдости, чтобы выдержать эти вспышки неудержимого гнева, и должного понимания всей степени нашей ответственности за неминуемую катастрофу на Юго-Западном направлении.
Ухудшилось положение и под Ленинградом, Ставка приняла решение назначить командующим Ленинградским фронтом генерала армии Жукова.
Вместо освобождённого Будённого главкомом на Юго-Западное направление назначался Тимошенко, Западного фронта – командующий 19-й армией генерал-лейтенант Конев.
Только 17 сентября Верховный разрешил Юго-Западному фронту оставить Киев. Войска отходили с ожесточёнными боями. 5-я, 37-я, 26-я армии, часть сил 21-й и 38-й армий были окружены. 20 сентября погибли в бою командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник Кирпонос, член Военного совета, секретарь ЦК КП(б) Украины М.А. Бурмистенко и начальник штаба генерал-майор В.И. Тупиков.
Красная Армия в ожесточённых боях за Киев разгромила свыше 10 кадровых дивизий противника. Он потерял более 100 тысяч солдат и офицеров. Ставка вскоре расформировала Юго-Западное направление. Тимошенко стал командующим Юго-Западным фронтом, войска которого задержали врага. Там им было приказано перейти к жёсткой и упорной обороне.
Враг под Москвой
Против трёх наших фронтов – Западного, Резервного и Брянского – враг сосредоточил 74,5 дивизии численностью более миллиона человек, 1700 танков и штурмовых орудий, свыше 14 тыс. орудий и миномётов, 950 боевых самолётов. Дав этой операции кодовое название «Тайфун», правители «третьего рейха» не сомневались в том, что выделенные для неё столь значительные силы обеспечат им успех. 30 сентября-2 октября гитлеровцы нанесли сильные удары по советским войскам, прикрывавшим Московское направление. Все три наших фронта вступили в тяжёлое кровопролитное сражение. Началась великая Московская битва. Противнику удалось прорвать оборону советских войск и окружить наши – 19-ю, 20-ю, 24-ю и 32-ю армии в районе Вязьмы. Советские войска, оказавшиеся в окружении, ожесточённо сопротивлялись.
Неудача, постигшая нас под Вязьмой была следствием не только превосходства противника в силах и средствах, но и неправильного определения направления главного удара противника Ставкой и Генштабом, а стало быть, и неправильного построения обороны. 10 октября Ставка оформила решения ГКО об объединении войск Западного и Резервного фронтов, о назначении Жукова (отозванного из Ленинграда) командующим войсками объединённого Западного фронта, а Конева – его заместителем. 14 октября враг, возобновив наступление ворвался в Калинин. 17 октября Ставка создала новый, Калининский фронт под командованием генерал-полковника И.С. Конева.
Наступила вторая половина октября. Эвакуировался и Генштаб. Возглавлять Генштаб по месту новой дислокации должен быть Шапошников. Оставшийся в Москве первый эшелон Генштаба — оперативная группа для обслуживания Ставки не должна превышать десять человек. Возглавлять её было приказано мне. 16 октября должен был отбыть из Москвы Генштаб.
19 октября ГКО постановил ввести с 20 октября в Москве и прилегающих к ней районах осадное положение. Жители Москвы сутками не выходили с заводов, не покидали строительство оборонительных рубежей. Итоги октябрьских событий были очень тяжелы для нас. Армия понесла серьёзные потери. Враг продвинулся вперёд почти на 250 км. Однако достичь целей, поставленных планом «Тайфун», ему не удалось. Группа армий «Центр» была вынуждена временно прекратить наступление.
28 октября 1941 года постановлением СНК СССР четверым из нашей оперативной группы были присвоены очередные воинские звания: мне – генерал-лейтенанта, остальным – генерал-майора.
Уже говорилось, что Сталин бывал и вспыльчив, и несдержан в гневе, тем более поразительной была эта забота в условиях крайне тяжёлой обстановки. Это один из примеров противоречивости личности Сталина. В особо напряжённые дни он не раз говорил нам, ответственным работникам Генштаба, что мы обязаны изыскивать в сутки для себя и для своих подчинённых как минимум пять-шесть часов для отдыха, иначе, подчёркивал он, плодотворной работы получиться не может. В октябрьские дни битвы за Москву Сталин сам установил для меня отдых от 4 до 10 часов утра и проверял, выполняется ли это требование. Случаи нарушения вызывали крайне серьёзные и в высшей степени неприятные для меня разговоры.
Не могу не сказать о том огромном значении, которое имели для москвичей, для советского народа и Вооружённых Сил состоявшееся 6 ноября торжественное заседание Московского Совета депутатов трудящихся совместно с партийными и общественными организациями столицы, посвящённое 24 годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции, а 7 ноября – традиционный парад войск на Красной площади.
Доклад на торжественном заседании и выступление на Красной площади Сталина явились выражением спокойствия Советских руководителей за судьбу советской столицы.
Крупным мероприятием явилось завершение подготовки очередных и внеочередных резервных формирований. На рубеже Вытегра-Рыбинск-Горький-Саратов-Сталинград-Астрахань создавался новый стратегический эшелон для Красной Армии.
Здесь на основании решения ГКО, принятого ещё 5 октября, формировалось десять резервных армий. Гитлеровское командование 15-18 ноября двумя мощными группировками перешли в наступление, стремясь обойти Москву с севера через Клин и Солнечногорск, и с юга, через Тулу и Каширу. К концу ноября фашистским войскам удалось северо-западнее столицы продвинуться к каналу Москва-Волга и форсировать его у Яхромы, а на юго-востоке достичь района Каширы. Дальше враг не прошёл.
Соединения группы армий Центр в первых числах декабря всюду вынуждены были перейти к обороне. Этим завершился наиболее трудный для нас оборонительный период битвы под Москвой.
В течение 20-дневного второго наступления на Москву фашисты потеряли более 155 тыс. убитыми и ранеными, около 800 танков, не менее 300 орудий и большое количество самолётов. В составе нашей Действующей армии было около 4,2 млн. человек, до 22,6 тыс. орудий и миномётов, 583 установки реактивной артиллерии, 1954 танка и 2238 боевых самолётов (Правда, почти две трети наших танков и до половины самолётов были ещё старых типов).
Вражеская армия (без ВМФ), включая союзников Германии, имела в то время около 4 млн. человек, 26,8 тыс. орудий и миномётов, 1940 танков и штурмовых орудий и 3280 боевых самолётов.
В начале декабря 1941 года группа армий «Центр» вместе с ВВС имела под Москвой 1708 тыс. человек, около 13500 орудий и миномётов, 1170 танков и 615 самолётов, а мы к началу контрнаступления – 1100 тыс. человек, 7652 орудий и миномёта, 774 танка и 1000 самолётов.
Уверенность в успешности контрнаступления под Москвой у ГКО и Ставки была настолько велика, что 15 декабря, то есть через десять дней после его начала, было принято решение о возвращении в Москву аппарата ЦК и некоторых государственных учреждений.
Генштаб во главе с Шапошниковым возвратился ещё в 20-х числах ноября и тут же включился в работу по подготовке контрнаступления.
Разгром вражеских группировок под Тихвином и Ростовом, хотя он и потребовал от ВГК посылки туда части резервных сил, позволил решить не только эти локальные задачи, но и сковать противника на Северо-Западном и Южном направлениях. Тем самым фашисты были лишены возможности перебросить войска с этих направлений, на усиление своей центральной группировки.
30 ноября командующий Западным фронтом Жуков прислал в Генштаб план контрнаступления Западного фронта и попросил меня «срочно доложить его наркому обороны т. Сталину и дать директиву, чтобы можно было приступить к операции, иначе можно запоздать с подготовкой».[44]
1 декабря Ставка утвердила план Военного совета Западного фронта. Накануне были рассмотрены соображения Военного совета Юго-Западного фронта. В конце ноября заболел Шапошников, и обязанности начальника Генштаба были временно возложены Ставкой на меня. Поэтому директиву в адрес командующего Калининским фронтом в 3.30 1 декабря подписали Верховный Главнокомандующий и я.
Днём 4 декабря, будучи на очередном докладе в Кремле у Сталина я получил указание в ночь на 5 декабря отправиться в штаб Калининского фронта, чтобы лично передать командующему фронтом директиву на переход в контрнаступление и разъяснить ему все требования по ней.
Когда я покидал Сталина, получил и другое его указание – вечером того же дня быть у него для участия в приёме председателя Совета Министров Польской Республики – генерала Вл. Сикорского, причём было приказано быть в парадной форме и при орденах. Вечером в назначенный час я явился в кабинет Сталина, где застал Молотова, Маленкова и некоторых других членов Политбюро. Взглянув на меня и заметив на моём парадном мундире орден Красной Звезды и медаль «XX лет РККА», Сталин спросил, почему я не надел остальные ордена. Я ответил:
— Не надел потому, что других нет.
На вопрос, за что и когда получил Красную Звезду, ответил, что в декабре 1939 года за добросовестную работу в Генштабе во время советско-финляндской войны.
Сталин, как мне показалось, удивлённо покачал головой.
В ночь на 5 декабря прибыл в штаб Калининского фронта. Начало контрнаступления Ставка определила 5-6 декабря: войсками Калининского фронта 5 декабря, а войсками ударных группировок Западного и Юго-Западного фронтов – 6 декабря. Развернулось грандиозное сражение. Успех нарастал с каждым днём. Неожиданный удар советских войск произвёл ошеломляющее впечатление на фашистское командование.
Существенную помощь оказывали войскам Западного направления другие фронты. Было отбито второе наступление на Севастополь. Успешно была проведена Керченско-Феодосийская десантная операция, в результате в Восточном Крыму мы захватили крупный плацдарм.
К началу января 1942 года войска Калининского, Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов вышли на рубеж Селижарово-Ржев-Волоколамск, Руза, Мосальск, Белев, Мценск, Новосиль, где их контрнаступление и завершилось.
Это была первая в Великую Отечественную крупная наступательная операция стратегического значения, в итоге которой ударные группировки врага под Москвой были разгромлены и отброшены к западу на 100, а в ряде мест и до 250 км.
Под Москвой фашисты потеряли более 500 тыс. человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тысяч машин и много другой техники. Таких потерь фашистская армия ещё не знала.
Гитлеровские оккупанты были полностью изгнаны из Московской, Тульской, Рязанской, частично Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской, Курской, Сталинской, Харьковской областей, с Керченского полуострова.
Московская победа показала всему миру, что Советская страна способна сокрушить агрессора.
Особо отличившимся 110 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Москвы» награждено более миллиона человек. Когда я думаю о нашей победе под Москвой, неизменно вспоминаю слова бессмертного Ленина, который говорил: «Во всякой войне победа в конечном счёте обусловливается состоянием духа тех масс, которые на поле брани проливают свою кровь. Убеждение в справедливости войны, сознание необходимости пожертвовать своей жизнью для блага своих братьев поднимает дух солдат и заставляет их переносить неслыханные тяжести».[45]
Оборона Ленинграда
Мне не раз приходилось слышать, что Генштаб в предвоенные годы мало уделял внимания укреплению обороны Ленинграда от возможной агрессии. А было сделано, как известно, немало. Достаточно указать на то, что в итоге советско-финляндской войны на значительное расстояние была отодвинута государственная граница СССР от Ленинграда. Однако на советском северо-западе не был осуществлён ряд мер стратегического характера: строительство достаточного количества укреплений, аэродромов, создание сети шоссейных дорог и т.д.Но для таких мер, требующих огромных капиталовложений, наше государство не располагало возможностями.
Предвидел ли Генштаб возможность агрессии фашистской Германии по побережью Балтийского моря, через Прибалтику? Да, безусловно предвидел. С падением Ленинграда нацистские главари связывали своё безраздельное господство на Балтике, стремление ещё крепче затянуть петлю оккупационного режима в Скандинавских странах.
Уже на дальних подступах к Ленинграду, особенно на Лужской оборонительной полосе, простиравшейся на 250 километрах от Финского залива до озера Ильмень, развернулись исключительно яростные и затяжные бои.
Разящие удары по фашистским полчищам наносили артиллеристы кораблей Балтийского флота, Кронштадтских фортов и береговой обороны. Большую помощь непосредственным защитникам Ленинграда оказывали моряки-балтийцы, действовавшие на островах Моонзундского архипелага и полуострова Ханко; разгоралось пламя партизанской борьбы.
В связи с обострением обстановки под Ленинградом Ворошилов и Жданов были вызваны в Ставку. Верховный Главнокомандующий сурово обошёлся с ними и потребовал разработать оперативный план защиты Ленинграда.
На сокращённой производственной базе, оставшейся от эвакуации, ленинградские рабочие изготовляли танки, бронепоезда, пушки, миномёты, пулемёты, автоматы, боеприпасы, восстанавливали повреждённое вооружение. В числе первых они освоили выпуск реактивной артиллерии («катюши»). Они по собственной инициативе создавали экипажи боевых машин и орудийные расчёты, чтобы при необходимости вместе с воинами принять участие в отражении вражеских атак.
В памятной записке от 22 августа о дальнейшем ведении войны против Советского Союза Гитлер признал, что группа армий «Север» не в состоянии в ближайшее время обеспечить продвижение на Ленинград с целью окончательного окружения и ликвидации этого опорного пункта и обороняющих его русских сил. Теперь обстановка требует ускоренной переброски на этот фронт дополнительных сил».
Это и позволило вражеским войскам достичь района Чудова, выйти к Колпино, прорваться через Мгу на южное побережье Ладожского озера и взять Шлиссельбург.
Ленинград таким образом оказался отрезанным от страны с суши.
23 августа для удобства управления войсками Северный фронт был разделён на два фронта — Ленинградский и Карельский. 29 августа решением ГКО упраздняется Главнокомандование Северо-Западного направления. Входившие в состав направления фронты подчиняются непосредственно Ставке.
Не берусь судить, по каким причинам Ворошилов обратился к Сталину с просьбой освободить его от должности командующего Ленинградским фронтом (с 5 сентября) и назначить кого-либо помоложе. Серьёзный разговор на эту тему по телефону состоялся в моём присутствии, причём Сталин сначала не был согласен с этим. Но поскольку фронтовая обстановка вокруг Ленинграда продолжала осложняться, телефонный разговор с Ворошиловым закончился решением Политбюро ЦК направить на Ленинградский фронт генерала армии Жукова.
Георгий Константинович охотно принял это решение и, вступив 10 сентября в командование войсками этого фронта, со свойственной ему энергией и настойчивостью взялся за усиление обороны города. Одновременно по его настоянию начальником штаба фронта был назначен прибывший вместе с ним генерал-лейтенант М.С. Хозин. Ворошилов после возвращения в Москву получает новые ответственные задания ЦК партии и ГКО.
В создании инженерной обороны города важную роль сыграл энергичный и весьма подготовленный начальник инженерного управления фронта Б.В. Бычевский.
Большую помощь в организации артиллерийской обороны города и контрбатарейной борьбы, которую оказал находившийся по заданию Ставки в войсках фронта генерал-полковник артиллерии Н.Н. Воронов.
В интересах всемерного укрепления обороны города были использованы силы и средства Краснознамённого Балтийского флота под командованием вице-адмирала В.Ф. Трибуца.
К концу сентября 1941 года фронт на подступах к Ленинграду как с юга, так и на Карельском перешейке и на реке Свирь стабилизировался.
Ещё 18 сентября Ф. Гальдер записал в своём дневнике: «Учитывая потребность в войсках на ленинградском участке фронта, где у противника сосредоточены крупные людские и материальные силы и средства, положение здесь будет напряжённым до тех пор, пока не даст себя знать наш союзник – голод». (подчёркнуто мною – А.В)
8 октября 1941 года до предела осложнившаяся обстановка на подступах к Москве вынудила Ставку назначить Жукова командующим войсками Западного фронта. В командование войсками Ленинградского фронта вступил генерал-майор И.И. Федюнинский, а затем генерал-лейтенант Хозин.
Врагу, обладавшему численным превосходством, удалось 8 ноября захватить Тихвин, вплотную приблизиться к Волхову, перехватить железнодорожную магистраль по которой до восточного побережья Ладоги направлялись грузы в освобождённый Ленинград.
С 20 ноября рабочие стали получать 250 гр. хлеба в сутки, иждивенцы и дети – 125 гр., войска первой линии и боевых кораблей – 300 гр. хлеба и 100 гр. сухарей. В ноябре начался голод, вызвавший смертность городского населения.
Не сумев взять Ленинград с ходу, фашистское командование приступило к систематическому его разрушению. Сюда были стянуты почти все сверхтяжёлые осадные орудия, вплоть до 420-мм. калибра. За время блокады на город было обрушено около 150 тыс. снарядов более 100 тыс. зажигательных и свыше 4,6 тыс. фугасных бомб.
17 декабря 1941 года командующим войсками Волховского фронта (4-я, 52-я, 59-я и 26-я армии) был назначен генерал армии К.А. Мерецков. Ставка ВГК приказала войскам Волховского и Ленинградского фронтов нанести поражение вражеской группировке, вышедшей к Ладожскому озеру в районе Мги и снять блокаду с Ленинграда.
В конце апреля в Ставку прибыл командующий Ленинградским фронтом М.С. Хозин. Он предложил объединить войска Ленинградского и Волховского фронтов, а командование объединённым фронтом возложить на него. Шапошников сразу же выступил против такого предложения. Сталин, напротив, встал на позицию Хозина и было принято решение о ликвидации Волховского фронта, передаче его войск Ленинградскому фронту, а командующего Волховским фронтом Мерецкова назначить сначала заместителем командующего Западным фронтом, а затем по его просьбе командующим 33-й армией того же фронта.
Решение Ставки о ликвидации Волховского фронта оказалось ошибочным.
Как только выяснилось, что 2-я ударная армия не может продолжать дальнейшего наступления на Любань, Ставка приказала Хозину срочно вывести 2-ю ударную армию из «мешка», но, как ни печально, этот приказ не был выполнен. Положение 2-й ударной армии усугубилось, так как немецко-фашистские войска пересекли её тыловые коммуникации. Командующий 2-й ударной армией Власов, не выделяясь большими командирскими способностями, к тому же по натуре крайне не устойчивый и трусливый, совершенно бездействовал. В результате всего войска 2-й ударной армии оказались в окружении.
3 июня Волховский фронт был восстановлен. Его вновь возглавил К.А. Мерецков.
Приказом Ставки за несвоевременный отвод войск 2-й ударной армии генерал-лейтенант Хозин был снят с должности командующего войсками Ленинградского фронта и назначен командующим 33-й армии Западного фронта.
Положение 2-й ударной армии ещё более осложнилось тем, что её командующий Власов оказался подлым предателем Родины, добровольно перешёл на сторону врага. И, стремясь побыстрее и получше устроиться на службе у гитлеровцев, которых он уже считал победителями, заявил о своей готовности начать борьбу против Страны Советов. В 1946 году Власов и его ближайшие приспешники за измену Родине и активную шпионско-диверсионную деятельность в качестве агентов германской разведки против СССР были приговорены к смертной казни.
В Советской, да и в прогрессивной иностранной литературе давно и неопровержимо утверждалось мнение о Власове как приспособленце, карьеристе, изменнике.
Лишь отщепенец А. Солженицын, перешедший на службу самым реакционным империалистическим силам, в своём циничном антисоветском произведении «Архипелаг Гулаг» воспевает и восхваляет Власова, власовцев и других предателей Советской Родины, прославляет их за то, что они ненавидели советские порядки, пошли против собственного Отечества и могли бы, по Солженицыну, добиться успеха, если бы гитлеровцы лучше их организовали, больше им доверяли.
Наряду с другой ложью и клеветой на Советский Союз Солженицын утверждает, что Власова склонило к переходу на сторону врага, то что он со своей армией был брошен советским высшим командованием на произвол судьбы.
Я занимал в период этих событий пост первого заместителя начальника Генштаба и могу ответственно подтвердить ту крайне серьёзную озабоченность, которую проявлял изо дня в день Верховный Главнокомандующий о судьбе войск 2-й ударной армии, о вопросах оказания всемерной помощи им. Свидетельством этому является целый ряд директив Ставки, написанных в большинстве случаев под диктовку самого Верховного Главнокомандующего мною лично в адрес командующего и Военного совета Ленинградского фронта, в адрес командующих родами войск Красной Армии, не говоря уже о ежедневных телефонных переговорах на эту тему.
После того как кольцо окружения войск армии замкнулось и было принято решение о восстановлении Волховского фронта, по приказу Ставки вместе с командующим Мерецковым в Малую Вишеру к волховчанам был направлен и я, как представитель Ставки.
Основной задачей нам было поставлено вызволить 2-ю ударную армию из окружения, хотя бы даже без тяжёлого оружия и техники. С 10 по 19 июня 1942 года непрерывно шли яростные бои, в которых участвовали крупные силы войск, артиллерии, танки 4-й, 59-й и 52-й армий. За ходом этих боёв непрерывно следил Верховный Главнокомандующий. В итоге нашим войскам удалось пробить узкую брешь в немецком капкане и спасти значительную часть окружённой 2-й ударной армии. Изъять из кольца окружения Власова нам не удалось. И не удалось сделать прежде всего потому, что этого не хотел сам Власов.
* * *
Командующим Ленинградским фронтом был назначен генерал Говоров, которого я знал ещё по учёбе в Академии Генерального штаба.
Летом 1942 года Ленинград получил первые тонны жидкого топлива по 25-километровому трубопроводу, проложенного по дну Ладоги. Позже по подводному кабелю сюда стал снова поступать ток с частично восстановленной Волховской ГРЭС. Город, в который со дня его основания не ступала нога иноземного завоевателя с неимоверным упорством и мужеством продолжал героическую борьбу. Самое же главное – был сорван замысел врага предпринять новое наступление на Ленинград. 28 декабря Ставка утвердила план проведения операции, условно называвшейся «Искра». Координация действий обоих фронтов была возложена на представителей Ставки – Ворошилова и Жукова. В ночь на 12 января 1943 года наша авиация нанесла массированные удары по опорным узлам и пунктам врага. А утром того же дня артиллерийская подготовка на Ленинградским фронте длилась 2 часа 20 минут, на Волховском – 1 час 45 минут.
Все жаждали встречи фронтов. Это произошло 18 января возле рабочих посёлков № 1 и № 5. «Фляшенхаль» (бутылочное горло) – так именовали фашисты свою шлиссельбургско-синявинскую группировку – было разбито вдребезги. В день прорыва блокады ГКО принял постановление о срочной постройке железнодорожной линии от станции Жихарево до Шлиссельбурга. Таким образом, Ледовая «Дорога жизни» дополнилась «Дорогой победы». Всего лишь 15 суток понадобилось строителям, чтобы протянуть 36-километровую линию, причём на заболоченной, усеянной минами местности, в условиях крепчайших морозов и обильных снегопадов, да и ещё соорудить на Неве временный свайно-ледовый мост.
Канадская газета «Стар» в передовой статье подчеркнула, что «прорывом блокады Советские войска вписали ещё одну славную страницу в историю русской армии. Защитники Ленинграда пронесли через все трудности и испытания непоколебимый дух, который является характерным для всей русской обороны с самого начала войны».
К началу 1944 года группа армий «Север» (18-я и 16-я армии), занимавшая оборону от Ленинграда до района Великие Луки, имела в своём составе 45 дивизий и 4 бригады. Общая глубина оборонительных рубежей достигала 230-260 км. Целью готовившегося нами наступления под Ленинградом и Новгородом были разгром группы армий «Север», полная ликвидация блокады Ленинграда, очищение Ленинградской области от немецко-фашистских захватчиков. К проведению операции привлекались войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов, Краснознамённый Балтийский флот, Ладонежская и Онежская военные флотилии, АДД и партизаны.
В район ораниенбаумского плацдарма была перегруппирована сильная 2-я ударная армия под командованием опытного командарма генерала И.И. Федюнинского. Она была переправлена туда моряками Балтийского флота. Всю практическую работу Ставка и Генштаб взяли на себя, поскольку ни при подготовке, ни в ходе операций в район сражений не было направлено представителей Ставки.
Военные действия по освобождению города Ленинграда и изгнанию немецко-фашистских оккупантов с территории Ленинградской области в основном завершились в феврале 1944 года. От берегов Невы наши войска шагнули до берегов Нарвы, твёрдой ногой ступили на землю Эстонской ССР и нацелились на Нарву, Псков и Остров.
Смятение в лагере финских приспешников Гитлера Генштаб почувствовал ещё в середине февраля 1944 года, когда советские войска нанесли серьёзное поражение немецкой группе армий «Север». После мощных ударов, нанесённых Красной Армией летом 1944 года на Карельском перешейке и в Южной Карелии, финские руководители вынуждены были принять решение о выходе Финляндии из войны.
Торжественный артиллерийский салют, прогремевший 27 января 1944 года в Ленинграде возвестил всему миру, что Ленинград полностью и окончательно освобождён от блокады.
В английской прессе и в передаче Лондонского радио начала 1944 года мы встречали немало восторженных откликов. Вот один из этих откликов. «Все свободные и все порабощённые гитлеровцами народы понимают, какую роль, сыграл разгром немцев под Ленинградом для ослабления нацистской мощи. Ленинград уже давно завоевал себе место среди городов-героев нынешней войны. Битва под Ленинградом посеяла тревогу среди немцев. Она дала им почувствовать, что они лишь временные хозяева Парижа, Брюсселя, Амстердама, Варшавы, Осло («Стар», январь 1944 год).
Ставка и Генштаб высоко оценили деятельность Говорова и Мерецкова по руководству военными действиями по разгрому немецко-фашистских войск под Ленинградом. А.А. Жданов пользовался заслуженным авторитетом у ленинградцев и в войсках. Мне известно, что о нём тепло отзывался Сталин.
Весна и лето 1942-го
Верховное Главнокомандование недостаточно точно учло реальные возможности Красной Армии. В результате имевшиеся в распоряжении Ставки девять армий резерва были почти равномерно распределены между всеми стратегическими направлениями. В ходе общего наступления зимой 1942 года советские войска истратили все с таким трудом созданные осенью и в начале зимы резервы. Поставленные задачи не удалось решить. Неоправданными оказались надежды, высказанные Сталиным в речи 7 ноября 1941 года, что резервы в Германии иссякнут к весне 1942 года. Да, мы все страстно желали этого, но действительность была суровее, и прогнозы не подтвердились. Как же проходило наше зимнее, а потом весеннее наступление?
Стабилизация положения под Мурманском и в Карелии была достигнута. Ленинградцы и волховчане четыре месяца пытались пробиться навстречу друг другу с тем, чтобы разорвать кольцо блокады, но сделать это не сумели. Северо-Западный фронт окружил в районе Демянска крупную группировку противника, но не смог заставить её капитулировать, а весною немцы пробили к ней коридор и сохранили Демянский плацдарм за собой. На центральном направлении мы глубоко охватили фашистскую группу армий на её флангах. В середине же охвата возник удерживаемый немцами ржевско-вяземский плацдарм.
Генштаб и Ставку очень волновали дела и на Юго-Западном направлении, хотя и здесь немецкие войска получили ряд жестоких ударов. Красная Армия в процессе наступления создала Барвенковский выступ западнее Изюма, но здесь Юго-Западный и Южный фронты остановились.
В Крыму наши войска, потерявшие в январе незадолго до того освобождённую Феодосию, вынуждены были отойти на Керченский полуостров.
Во время очередного доклада Верховному Главнокомандующему в один из последних мартовских дней 1942 года, когда я остался один с ним в кабинете, он спросил:
— Вы возвратили семью из эвакуации, а где живёт она?
— Мне предоставлена отличная квартира на улице Грановского, -ответил я.
— А где вы отдыхаете, когда имеется возможность? – продолжал Сталин.
— Там и отдыхаю, а чаще в Генштабе, в особняке Ставки, рядом с моим кабинетом имеется приличная комната отдыха, там и сплю.
— А у вас за городом дачи нет? – спросил Сталин.
— Последние два предвоенных года семья и я пользовались в летние месяцы дачей Наркомата обороны в Краскове, но мне из-за работы и тогда приходилось бывать там редко, так как далеко от Москвы, — ответил я.
Буквально через несколько дней я с женой Екатериной Васильевной получили предложение осмотреть дачу, а затем в тот же день получил и ключи от дачи в Волынском, на берегу речки Сетунь, в 15 минутах езды на автомашине от Генштаба и Кремля и совсем близко от дачи Сталина. Хороший домик, окружённый зеленью очень понравился мне, не говоря уже о жене и сыне. Но всё же ездил я туда довольно редко: то находился на фронтах, то вынужден был спать по-прежнему в Генштабе. Однако как-то в начале апреля, когда не было очень срочных дел, а на фронте было относительно спокойно, я решил отоспаться на даче и на ночь уехал туда. На следующее утро я чуть задержался и не успел выехать как раздался телефонный звонок.
— Товарищ Василевский, вы не успели обжиться на даче, а уже засиделись там. Боюсь, что вы и совсем переберётесь туда. И добавил:
— В часы сна можете спать на даче, а в рабочее время будьте в Генштабе.
Это было для меня уроком, и, пока шла война, я редко бывал там; семья же пользовалась ею главным образом в период моего пребывания на фронте.
Все мы отлично понимали, что от результатов летней кампании 1942 года во многом будет зависеть дальнейшее развитие всей мировой войны, поведение Турции, Японии и т.д., а может быть, и исход войны в целом.
В Генштабе и Ставке считали, что основной ближайшей задачей советских войск должна быть временная стратегическая оборона. Её цель – изматывая оборонительными боями на заранее подготовленных рубежах ударные группировки врага, не только сорвать подготавливаемое фашистами летнее наступление, но и подорвать их силы и тем самым с наименьшими для нас потерями подготовить благоприятные условия для перехода Красной Армии в решительное наступление.
Теперь Генштаб и Ставка предпочитали выводить с фронта ослабленные дивизии и бригады на отдых и боевую подготовку, вливая в них свежее пополнение и снабжая всем необходимым. Это улучшило обучение маршевого пополнения. Командные кадры для новых формирований готовились в военных академиях, училищах и на курсах.
Ставка отказалась от передачи авиаполков в армейское подчинение. А с мая 1942 года мы начали создавать воздушные армии. В принципе каждый фронт имел свою воздушную армию. Появилась авиация дальнего действия (АДД), подчинённая непосредственно Ставке.
Верховный Главнокомандующий не считая возможным развернуть в начале лета крупные наступательные операции, был также за активную стратегическую оборону. Но наряду с ней, он полагал целесообразным провести частные наступательные операции в Крыму, в районе Харькова, на Льговско-Курском и Смоленском направлениях, а также в районе Ленинграда и Демянска.
Начальник Генштаба Шапошников стоял на том, чтобы не переходить к широким контрнаступательным действиям до лета. Жуков, поддерживая в основном Шапошникова, считал в то же время крайне необходимым разгромить в начале лета ржевско-вяземскую группировку врага.
Обоснованные данные нашей разведки о подготовке главного удара врага на юге не были учтены.
На Юго-Западное направление было выделено меньше сил, чем на Западное. Стратегические резервы соответственно сосредоточивались в основном возле Тулы, Воронежа, Сталинграда и Саратова.
Критически оценивая теперь принятый тогда план действий на лето 1942 года, вынужден сказать, что самым уязвимым оказалось в нём решение одновременно обороняться и наступать.
Соотношение сил на советско-германском фронте к маю было следующее: Красная Армия имела 5,1 млн. человек (без войск ПВО страны и ВМФ), почти 3,9 тыс. танков, 44,9 тыс. орудий и миномётов и около 2,2 тыс. боевых самолётов. Немецко-фашистская армия имела 6,2 млн. человек, 3229 танков и штурмовых орудий, до 57 тыс. орудий и миномётов и 3395 боевых самолётов.
Летним наступлением гитлеровцы рассчитывали добиться не только переломных военно-стратегических результатов, но и парализовать экономику Советского государства. Они полагали, что в результате решительного наступления на кавказском и сталинградском направлениях, после захвата кавказской нефти, донецкой индустрии, промышленности Сталинграда, с выходом на Волгу и после того как им удастся лишить нас связи с внешним миром через Иран, они добьются необходимых предпосылок для разгрома Советского Союза.
24 апреля Сталин сообщил мне по телефону, что напряжённейшая работа подорвала здоровье Шапошникова и что Ставка в связи с этим вынуждена освободить его от работы, дать ему возможность подлечиться, отдохнуть, что принято решение временно исполнение обязанностей начальника Генштаба возложить на меня, освободив меня от непосредственного руководства Оперативным управлением Генштаба. Вечером того же дня для меня был передан в штаб Северо-Западного фронта приказ наркома обороны об этом, а 26 апреля мне было присвоено звание генерал-полковника.
9 мая я получил указание Сталина немедленно вернуться в Москву.
В течение двух дней почти все войска Крымского фронта оказались втянутыми в бой. Утром 10 мая Ставка приказала отвести войска фронта на линию Турецкого вала и организовать там оборону, но командование фронта, не выполнив приказ Ставки, затянуло отвод на двое суток и к тому же не сумело правильно организовать его. В результате враг 14 мая прорвался к окраинам Керчи. Начались отход наших войск на восток и переправа через Керченский пролив на Таманский полуостров. Войска несли большие потери. Ставка детально изучила ход Керченской операции. Мы пришли к выводу, что руководство войсками фронта со стороны командующего Крымским фронтом генерал-лейтенанта Д.Т. Козлова, члена военного совета Шаманина, начальника штаба генерал-майора Вечного и представителя Ставки Верховного Главнокомандования армейского комиссара 1 ранга Л.З. Мехлиса было явно несостоятельным. Поражение в Керчи несло за собой тяжёлые последствия для Севастополя. Все руководители фронта и Мехлис были сняты Сталиным со своих постов и понижены в звании.
В начале июля 1942 года, когда выяснилось, что третье наступление врага отразить не удастся, часть защитников Севастополя была эвакуирована на Черноморское побережье Кавказа. Но на берегу оставалось ещё немало бойцов, которые продолжали самоотверженную борьбу вплоть до 9 июля. Отдельные подразделения ушли к крымским партизанам и продолжали там борьбу. Военная обстановка на южном крыле советско-германского фронта изменилась в пользу врага после овладения им Крымом.
Сталин дал Тимошенко (командующий Юго-Западного направления) согласие на разработку частной, более узкой, чем тот намечал, операции с целью разгрома харьковской группировки врага наличными силами и средствами Юго-Западного направления. Этот переработанный план 10 апреля был направлен в Ставку.
Шапошников, учитывая рискованность наступления из оперативного мешка, каким являлся Барвенковский выступ для войск Юго-Западного фронта, внёс предложение воздержаться от её проведения. Однако командование направления продолжало настаивать на своём предложении и заверило Сталина в полном успехе операции.
Он дал разрешение на её проведение и приказал Генштабу считать операцию внутренним делом направления и ни в какие вопросы по ней не вмешиваться.
12 мая, то есть в разгар неудачных для нас событий в Крыму, войска Юго-Западного фронта, упредив противника перешли в наступление. Сначала оно развивалось успешно, и это дало Верховному Главнокомандующему повод бросить Генштабу резкий упрёк в том, что по нашему настоянию он чуть было не отменил столь удачно развивающуюся операцию. Но уже 17 мая ударная группировка противника в составе 11 дивизий армейской группы генерал-полковника Клейста перешла в контрнаступление из района Славянск, Краматорск. Получив первые сообщения о тревожных событиях, я вечером 17 мая связался по телефону с начальником штаба 57-й армии, моим давним сослуживцем генерал-майором А.Ф. Анисовым, чтобы выяснить истинное положение вещей. Поняв, что обстановка там критическая, я тут же доложил об этом Сталину. Мотивируя тем, что вблизи не имеется резервов Ставки, которыми можно было бы немедленно помочь Южному фронту, я внёс предложение прекратить наступление Юго-Западного фронта с тем, чтобы часть сил из его ударной группировки бросить на пресечение вражеской угрозы со сторон Краматорска.
Верховный переговорил с маршалом Тимошенко. Через некоторое время меня вызвали в Ставку, где я снова изложил свои опасения за Южный фронт и повторил предложение прекратить наступление. В ответ мне было заявлено, что мер, принимаемых командованием направления, вполне достаточно, чтобы отразить удар врага против Южного фронта, а потому Юго-Западный фронт будет продолжать наступление.
Часов в 18 или 19 18 мая мне позвонил член военного совета Юго-Западного направления Н.С. Хрущёв. Он кратко проинформировал меня об обстановке на Барвенковском выступе, сообщил, что И.В. Сталин отклонил их предложения о немедленном прекращении наступления, и попросил меня ещё раз доложить Верховному об этой их просьбе. Я ответил, что уже не однажды пытался убедить Верховного в этом и что, ссылаясь как раз на противоположные донесения военного совета Юго-Западного направления, Сталин отклонил мои предложения. Поэтому я порекомендовал Н.С. Хрущёву, как члену Политбюро ЦК обратиться непосредственно к Верховному. Вскоре Хрущёв сообщил мне, что разговор с Верховным через Г.М. Маленкова состоялся, что тот подтвердил распоряжение о продолжении наступления.
19 мая ударная группировка противника, действовавшая на Барвенковском выступе вышла в тыл советским войскам, и только тогда Тимошенко отдал, наконец, приказ прекратить наступление на Харьков. Верховный утвердил этот решение.
Но, к сожалению, состоялось оно слишком поздно: три армии Южного и Юго-Западного фронтов понесли тяжёлые потери. Погибло в неравном бою всё руководство 57-й армии, командарм генерал-лейтенант К.П. Подлас, начальник штаба генерал-майор А.Ф. Анисов, член военного совета бригадный комиссар А.И. Попенко.
Коме того погибли командарм-6 генерал-лейтенант А.М. Городнянский, член военного совета бригадный комиссар А.И. Власов, командующий армейской группой генерал-майор Л.В. Бобкин и заместитель командующего Юго-Западным фронтом генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко. Из окружения сумела выйти лишь меньшая часть нашей ударной группировки во главе с членом военного совета этого фронта дивизионным комиссаром К.А. Гуровым и начальником штаба 6-й армии А.Г. Батюней.
В середине июня Юго-Западный фронт был вынужден ещё дважды отступать и отойти за реку Оскол. В результате этих неудач и обстановка и соотношение сил на юге резко изменилось в пользу противника. Изменились, как видим, именно там, где немцы наметили своё летнее наступление. Это и обеспечило им успех прорыва к Сталинграду и на Кавказ.
Я пишу всё это не для того, чтобы в какой-то степени оправдать руководство Генштаба. Вина ложится и на его руководителей, так как они не оказали помощи Юго-Западному направлению. Пусть нас отстранили от участия в ней. Но и это не снимало с нас ответственности: мы могли организовать хотя бы отвлекающие удары на соседних направлениях, своевременно подать фронту резервы и средства, находившиеся в распоряжении советского командования.
Неудача постигла нас и на северо-западе. Предстояли Сталинградская битва и борьба за Кавказ. В течение мая и июня Сталин неоднократно обращался ко мне от имени Ставки ВГК с предложением полностью принять на себя обязанности начальника Генштаба. Я отказывался от этого назначения потому, что искренне считал себя не подготовленным для этой роли, тем более в условиях той сложной военной обстановки.
Одна из бесед на эту тему, помню, велась в Ставке в присутствии командования Юго-Западного направления – С.К. Тимошенко, Н.С. Хрущёва и И.Х. Баграмяна при рассмотрении И.С. Сталиным их предложения о проведении Барвенковско-Харьковской операции. Сталин после обсуждения основной темы сообщил, что Ставка занята сейчас в связи с серьёзным заболеванием Б.М. Шапошникова подысканием кандидата на занимаемый им пост.
Ставка считает, заявил он, что, по её мнению, на эту должность подошёл бы давно работающий в Генштабе Василевский, но он категорически отказывается от этого. Сталин спросил мнение по моей кандидатуре у присутствующих. Первым, насколько я помню, высказался И.Х. Баграмян, предложив назначить на эту должность С.К. Тимошенко, работавшего в Наркомате обороны и отлично знавшего роль и содержание работы Генштаба. С.К. Тимошенко, отклонив это предложение, в свою очередь рекомендовал на должность Ф.И. Голикова, как отличного, по его мнению, военачальника и политработника. И.В. Сталин вновь остановился на моей кандидатуре.
Несмотря на все мои, казалось бы, столь настойчивые и убедительные просьбы, 26 июня 1942 года приказом Ставки я был утверждён в должности начальника Генштаба.
5 июня я вернулся в Москву и доложил о фронтовой обстановке. В результате было принято решение образовать на воронежском управлении самостоятельное фронтовое объединение. Командующим Брянским фронтом стал К.К. Рокоссовский, а войсками нового Воронежского фронта — работавший с 15 мая по 11 июля 1942 года в должности моего заместителя по Генштабу генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин.
Вопрос о назначении командующих был предрешён на совещании в Ставке. Я и Н.Ф. Ватутин называли возможных кандидатов, а Сталин комментировал.
На должность командующего Брянским фронтом подобрали быстро: К.К. Рокоссовский был достойным кандидатом, он хорошо зарекомендовал себя как командующий армиями. Сложнее оказалось с кандидатурой Воронежским фронтом. Назвали несколько военачальников, но Сталин отводил их. Вдруг встаёт Николай Фёдорович и говорит:
— Товарищ Сталин! Назначьте меня командующим Воронежским фронтом.
— Вас? – и Сталин удивлённо поднял брови.
Я поддержал Ватутина, хотя было очень жаль отпускать его из Генштаба. Сталин немного помолчал, посмотрел на меня и ответил:
— Ладно. Если товарищ Василевский согласен с вами, я не возражаю.
Хотя наступление на Воронеж было в те дни приостановлено, обстановка для нас оставалась крайне напряжённой.
При всех неудачах наших войск весной и летом 1942 года в событиях того периода главное состояло в том, что Красная Армия вела активные оборонительные действия, которые подготовили условия для срыва второго «генерального» наступления гитлеровцев на советско-германском фронте. Фронтовая линия пересекла Родину, извиваясь по холмам и долам, от Мурманска к Черноморью. Страна готовилась к решающей схватке.
Между Доном и Волгой
Как ни тяжело было сознавать на повестку дня встал вопрос защиты Сталинграда. Его географическое и экономическое положение определяло и его стратегическое значение. Десятилетия назад слово «Сталинград» вошло в словарный фонд всех языков мира и с той поры напоминает о битве, которая по размаху, напряжению и последствиям превзошла все вооружённые столкновения прошлых времён. Известно, что нацистские генералы прямо-таки бредили идеей «Канн», полагая, что только им подвластно ведение операций на окружение. Однако именно советские полководцы устроили противнику под Сталинградом «Канны» XX века.
Обстановка того времени оставалась для нашей страны весьма трудной. Обстановку усугубил, как уже говорилось ранее, неудачный для наших войск исход боевых действий весной 1942 года под Ленинградом, Харьковом и в Крыму.
В Северной Африке против английской армии действовало в мае 1942 года всего лишь восемь итальянских и три немецких дивизии. На 1 мая 1942 года на советско-германском фронте действовало 217 дивизий и 20 бригад противника, то есть около 80 % всех сухопутных войск Германии и её союзников, а также три из пяти немецких воздушных флотов. Целью «главной операции» провозглашался Кавказ. Чтобы обезопасить левое крыло войск, предназначенных для достижения этой цели, оказать им содействие в быстром продвижении вперёд, немецкое командование решило нанести удар на сталинградском направлении.
В директиве № 41 указывалось на необходимость «попытаться достигнуть Сталинграда или по крайней мере подвергнуть его воздействию тяжёлого оружия с тем, чтобы он потерял своё значение как центр военной промышленности и узел коммуникаций».
В связи с предстоящим наступлением немецкое командование 9 июля осуществило намеченное ещё в апреле 1942 года разделение группы армий «Юг». Во вновь созданную группу армий «Б» вошли 2-я, 6-я и 4-я танковая немецкие армии и 2-я венгерская армия. В группу армий «А» вошли 11-я, 17-я и 1-я танковая немецкие и 8-я итальянская армия.
Начало Сталинградской битвы, на отдельных этапах которой действовало с обеих сторон свыше 2 млн. человек, более 2 тысяч танков и столько же самолётов, 26 тысяч орудий и миномётов, относится к середине июля 1942 года.
По характеру событий битва состояла из 2-х ярко выраженных периодов: оборонительного – на подступах к Сталинграду и в самом городе (с 17 июля по 18 ноября) и наступательного, завершившегося ликвидацией огромной группировки врага (с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года).
В отражении вражеского натиска большую роль сыграло решение Ставки ВГК о выдвижении из её резерва для прикрытия Сталинградского направления войск 63-й, 62-й и 64-й армий. Из них и из отошедшей за Дон 21-й армии и 8-й воздушной армии был создан Сталинградский фронт.
Политбюро ЦК ВКП(б), учитывая опасность обстановки, 14 июля приняло решение об объявлении в Сталинградской области военного положения.
23 июля в качестве представителя Ставка я прибыл на Сталинградский фронт.
* * *
28 июля в разгар оборонительных боёв был подписан и немедленно отправлен в войска приказ № 227 Народного комиссара обороны И.В. Сталина. Приказ этот сразу же привлёк внимание всего личного состава Вооружённых Сил.
Приказ № 227 – один из самых сильных документов военных лет по глубине патриотического содержания, по степени эмоциональной напряжённости. Вот некоторые его положения.
«Враг бросает на фронт всё новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперёд, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и сёла, насилует, грабит и убивает советское население».
«Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке.
Такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам.
Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, что наши средства не безграничны, территория Советского государства – это не пустыня, а люди – рабочие, крестьяне, интеллигенция – наши отцы, матери, жёны, братья, дети. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории – стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас уже сейчас нет преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину».
«Из этого следует, что пора кончить с отступлением. Ни шагу назад!» «Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности». «Можем ли мы выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно, и наш фронт получает всё больше и больше самолётов, танков, артиллерии, миномётов. Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, в полках, в дивизиях, в танковых частях, авиаэскадрильях. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять нашу Родину».
Этим приказом предписывалось снимать командующих армиями, командиров корпусов и дивизий, допустивших самовольный отдых войск. Те же меры предлагалось применять и к командирам и комиссарам полков и батальонов за оставлениями воинами без приказа боевых позиций. Этим приказом вводились штрафные батальоны.
Приказ обращал на себя внимание суровостью правды, нелицеприятностью разговора Наркома и Верховного Главнокомандующего Сталина с советскими воинами, начиная от рядового бойца и кончая командармом.
* * *
Протяжённость Сталинградского фронта возросла до 800 км. 5 августа Ставка приняла решение разделить Сталинградский фронт на два самостоятельных фронта – Сталинградский и Юго-Восточный. В состав Юго-Восточного фронта вошли войска левого крыла прежнего Сталинградского фронта – 64-я, 57-я и 51-я армии, 13-й танковый корпус, а также 8-я воздушная армия генерал-майора Т.Т. Хрюкина. Командующим Юго-Восточным фронтом был назначен генерал-полковник Ерёменко, членом военного совета – Хрущёв, начальником штаба – генерал-майор Г.Ф. Захаров. В составе Сталинградского фронта остались 63-я, 21-я, 62-я и 4-я танковая армии, 28-й танковый корпус и часть авиации 8-й воздушной армии, на базе которой и авиации резерва Ставки в августе была сформирована 16-я воздушная армия генерал-майора авиации С.И. Руденко. Командующий войсками этого фронта оставался генерал-лейтенант В.Н. Гордов.
19 августа Ставка приняла решение, по которому Сталинградский фронт подчинялся командующему Юго-Восточным фронтом. Верховное Главнокомандование в наиболее ответственные моменты битвы направляло в Сталинград представителей ГКО и Ставки, на которых и возлагалось принятие ответственных решений по всем вопросам, возникавшим на месте.
Очередное наступление на Сталинград силами 6-й и 4-й танковой армий противник начал 19 августа и к 23 августа вышел к Волге севернее Сталинграда. Одновременно с прорывом нашей обороны немецкое командование предприняло 23 и 24 августа ожесточённейшую бомбардировку города, для которой были привлечены все наличные силы его 4-говоздушного флота. Я был тогда в городе и видел, как он превращается в развалины. По ночам он напоминал гигантский костёр. 25 августа Сталинград был объявлен на осадном положении.
К вечеру 25 августа я получил указание Верховного отправиться в район сосредоточения войск к северу от Сталинграда и взять на себя руководство подготовкой прибывших частей к предстоящему контрудару. Затем туда же приехал Жуков, который 26 августа был назначен заместителем Верховного Главнокомандующего с освобождением его от должности командующего Западным фронтом. Через несколько дней после прибытия Жукова по распоряжению Ставки я вернулся для работы в Генштаб. К исходу 2 сентября войска 62-й и 64-й армий по приказу командующего Юго-Восточным фронтом были отведены на внутренний оборонительный обвод. Создалась угроза прорыва врага в город и с юга. До 26 сентября боевые действия в основном велись в центральной и поясной частях Сталинграда. На следующий день, 27 сентября, бои развернулись в заводских посёлках «Красный Октябрь» и «Баррикады» и длились до 4 октября.
С 4 октября бои возникли непосредственно за здания этих заводов и продолжались до окончательного разгрома врага.
В боях между Доном и Волгой, доходивших до крайней степени ожесточения, за июль-ноябрь немецкое командование не досчиталось около 700 тыс. солдат и офицеров, более тысячи танков, свыше 2 тыс. орудий и миномётов, более 1400 самолётов. 9 октября 1942 года был издан Указ об отмене института военных комиссаров и введения единоначалия в Воздушных Силах.
В середине октября немецкое командование было вынуждено отдать приказ № 1 о переходе к обороне.
Тут напрашивалось решение: организовать и провести контрнаступление причём такое, которое не только радикально изменило бы обстановку в этом районе, но и привело бы к крушению всё ещё активно действующего южного крыла вражеского фронта. Такое решение было принято в середине сентября после обмена мнениями между Сталиным, Жуковым и мною.
Суть стратегического замысла сводилась к тому, чтобы из района Серафимовича (то есть северо-западнее Сталинграда) и из дефиле озёр Цаца и Барманцак (то есть южнее Сталинграда) в общем направлении на Калач, лежащий западнее Сталинграда, нанести мощные концентрические удары по флангам втянувшейся в затяжные бои за город вражеской группировки, а затем окружить и уничтожить её основные силы – 6-ю и 4-ю танковую немецкие армии. ГКО и Ставка ВГК решили считать подготовку и осуществление этого контрнаступления главнейшим мероприятием в стране до конца 1942 года.
При этом Сталин ввёл режим строжайшей секретности на всю начальную подготовку операции. Тогда же в конце сентября после поездок Василевского и Жукова на фронты, основные положения плана наступательной операции, получившей наименование «Уран» были одобрены Ставкой ВГК и ГКО.
Выполнение плана было решено возложить на войска вновь создаваемого Юго-Западного фронта (командующий Ватутин, член военного совета Желтов и начальник штаба Стельмах, впоследствии С.П. Иванов), Донского фронта, бывшего Сталинградского (командующий Рокоссовский, член военного совета К.Ф. Телегин, начальник штаба М.С. Малинин) и Сталинградского фронта, бывшего Юго-Восточного (командующий Ерёменко, член военного совета Хрущёв, начальник штаба И.С. Вареников). Фронты непосредственно подчинялись Ставке.
Руководство подготовкой контрнаступления на местах Ставка возложила по Юго-Западному и Донскому фронту на Жукова, по Сталинградскому на меня.
Как заявил по окончании войны на допросе один из столпов фашистского вермахта Кейтель, «Сталинград был настолько соблазнительной целью, что казалось невозможным отказаться от него». Бывший начальник генштаба сухопутных войск вермахта Цейтцлер писал после войны: «Ужасно предвидеть надвигающуюся катастрофу и в то же время не иметь возможности предотвратить её».
Примечательная черта контрнаступления под Сталинградом – скрытность его подготовки. Между тем немецкая разведка докладывала в начале ноября, что решающую операцию Красная Армия предпримет на центральном участке фронта против Смоленска и менее крупную – на Дону.
3 ноября под руководством Жукова при моём участии было проведено совещание на Юго-Западном фронте. Кроме командования фронтом и армиями в нём приняли участие руководящий состав корпусов и дивизий. 4 ноября такое же совещание было проведено в 21-й армии этого же фронта с привлечением руководства Донского фронта, а 10 ноября – с руководящим составом Сталинградского фронта при штабе 57-й армии.
Начать наступление на Юго-Западном и Донском фронтах можно было 19-20, а на Сталинградском – 20 ноября. После обсуждения в Ставке (13 ноября) ряда вопросов план и сроки операции были окончательно утверждены.
Жуков получил вслед за тем задание подготовить отвлекающую операцию на Калининском и Западном фронтах. На меня Ставка возложила координацию действий трёх фронтов сталинградского направления при проведении контрнаступления.
Победа в битве на Волге
23 ноября в результате искусно выполненных ударов по сходящимся направлениям в сторону Калача Юго-Западный и Сталинградский фронты при активной помощи правого крыла Донского фронта замкнули кольцо окружения вокруг главной группировки немцев, действовавшей в районе Сталинграда.
Это было первое крупное окружение, в котором оказались немецко-фашистские войска с начала войны.
К исходу 23 ноября создать сплошной внешний фронт окружения нам не удалось. Его общая протяжённость составляла более 450 км. Из них нашими войсками было прикрыто не более 265 км. Минимальное удаление от внутреннего фронта окружения на самых ответственных направлениях не превышало 15-20 км.
Но и у гитлеровцев не имелось сплошной линии обороны против наших войск. Более того, нам стало известно, что в результате столь удачных и абсолютно неожиданных для врага действий советских войск за последние пять суток на таком важнейшем участке, как Лихая-Ростов образовалась огромная брешь, не занятая фашистами.
Общая численность окружённой группировки, которой командовал генерал-полковник Паулюс, определялась в то время в 85-90 тыс. человек. Фактически же в ней насчитывалось, как мы узнали позднее, более 300 тысяч. Значительно преуменьшенными были наши представления и о боевой технике особенно артиллерии и танках, и вооружения, которыми располагали окружённые фашисты. Всё внимание командование Юго-Западного фронта сосредоточивало на внешней линии борьбы и подготовке операции, получившей кодовое название «Сатурн» (кстати наименование «Сатурн» я впервые услышал от Сталина 24 ноября, когда мы по телефону обсуждали вопрос о наступательной операции силами Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов в направлении Миллерово, Ростов. Цель наступления –создание нового кольца по отношению к окружённой под Сталинградом группировки противника. Сталин так и назвал заключительную операцию по уничтожению этой группировки «Кольцо». Точно так же названия и всем операциям давались лично Сталиным. В конце разговора Сталин указал, что в данное время самой важной и основной задачей является быстрейшая ликвидация окружённой группировки немцев. Это освободит занятые в ней наши войска для выполнения других заданий по окончательному разгрому врага на нашем Южном фронте.
— А потому, — заключил он разговор, — Ставка предлагает вам немедленно сосредоточиться на этом одном деле. Что касается операции «Сатурн», то ею пусть займутся Ватутин и Кузнецов, а Москва им будет помогать.
2 декабря Ставка без каких-либо особых изменений утвердила окончательный план операции «Сатурн». Представителем Ставки при Юго-Западном и Воронежском фронтах был назначен Воронов.
Итак, я опять вплотную занялся Сталинградом. С 24 ноября наши войска вели там ожесточённые бои с окружёнными войсками Паулюса.
29 ноября я находился уже в Заварыгине, где размещался КП и штаб Донского фронта. Хочу сказать несколько тёплых, сердечных слов о командовавшем этим фронтом, общем любимце Красной Армии Константине Константиновиче Рокоссовском.
Его имя широко известно во всём мире. Это один из выдающихся полководцев наших Вооружённых Сил.
Войска Паулюса держались упорно. Территория, которую они занимали, сократилась за это время почти вдвое. Враг (6-я немецкая армия в составе 17 дивизий и ещё 5 дивизий 4 танковой армии) создал плотную оборону к западу и юго-западу от Сталинграда общим протяжением около 170 км. Штаб Паулюса располагался в центре группировки, в посёлке Гумрак. Как впоследствии стало известно, понимая безнадёжность своего положения, командование окружённых войск ещё вечером 23 ноября потребовало от Гитлера свободы действий с тем, чтобы пойти на прорыв и пробиться из кольца окружения. Гитлер ответил:
«Войска 6-й армии временно окружены русскими. Личный состав армии может быть уверен, что я предприму всё для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение армии и своевременно освободить её из окружения».
Аналогичные заверения давал и Геринг, главнокомандующий ВВС Германии.
Соотношение сил на внутреннем фронте окружения в конце ноября и первых числах декабря продолжало изменяться не в нашу пользу, ибо мы, не имея свободных резервов, вынуждены были укреплять внешний фронт, изолирующий окружённые войска за счёт войск, снимаемых с кольца окружения. Вот почему к 1 декабря соотношение стало таким: у нас – 480 тыс. человек, 465 танков, 8490 орудий и миномётов (без зенитной артиллерии и 50-мм миномётов), а у противника-330 тыс. человек, 340 танков, 5230 орудий и миномётов.
В воздухе враг в последних числах ноября значительно активизировал свои действия. Мы имели на сталинградском направлении около 790 боевых самолётов и ещё некоторые соединения АДД, причём 540 самолётов использовались против окружённой группировки и 250 – в интересах внешнего фронта. Немецко-фашистское командование бросило сюда 1070 боевых самолётов.
Немалую заботу вызвала у советского командования организация надёжной блокады окружённой группировки с воздуха. А ведь в распоряжении противника имелось не менее 5 вполне пригодных аэродромов.
Выполняя указания Ставка, мы в первых числах декабря попытались расчленить и уничтожить окружённую группировку. Однако и на этот раз сколько-нибудь значительных результатов не достигли. Безусловно, некоторую отрицательную роль при этом сыграли и допускавшиеся нами ошибки, на них мне указал в телеграмме от 4 декабря Верховный Главнокомандующий.
Гитлеровское командование с целью деблокирования окружённой группировки создавало на юго-восточном участке фронта группу армий «Дон» во главе с бывшим заместителем начальника германского генштаба генерал-фельдмаршалом Манштейном. 4 декабря я доложил Верховному о создавшейся здесь обстановке. Было принято решение: на Донской фронт в качестве основной ударной силы для ликвидации окружённых войск направить из резерва Ставки 2-ю гвардейскую армию, а также ряд других частей и соединений. 5 декабря Генштаб доложил мне, что для переброски армии привлекаются 165 железнодорожных составов и что армия с 18 часов 4 декабря уже приступила к погрузке. Утром 12 декабря я находился в Верхне-Царицынском. Вместе с членом военного совета Сталинградского фронта Н.С. Хрущёвым, находившимся также там, мы поспешили на реку Аксай-Есауловский, к станции Жутов, чтобы на месте уяснить обстановку.
* * *
В тех случаях, когда Ставка вызывала меня и командующего фронтом в Москву, а командующего фронтом (где он был членом военного совета) и его не вызывала, он не раз обращался ко мне с просьбой позвонить Сталину и попросить разрешения лететь вместе, так как у него имеются срочные и важные вопросы в ПУР к А.С. Щербакову. Сталин всегда такие разрешения давал, и мы улетали в Москву и возвращались вместе. Хорошие отношения были у меня с Н.С. Хрущёвым и в первые послевоенные годы. Но они резко изменились после того, как я не поддержал его высказывания о том, что Сталин не разбирался в оперативно-стратегических вопросах и неквалифицированно руководил действиями войск как Верховный Главнокомандующий. Я до сих пор не могу понять, как он мог это утверждать. Будучи членом Политбюро ЦК партии и членом военного совета ряда фронтов Хрущёв не мог не знать, как был высок авторитет Ставки и Сталина в вопросах ведения военных действий. Он также не мог не знать, что командующие фронтами и армиями с большим уважением относились к Ставке, Сталину и ценили их за исключительную компетентность руководства вооружённой борьбой.
* * *
К вечеру 12 декабря передовые части 6-й танковой дивизии противника на отдельных участках уже подошли к южному берегу Аксая. Соотношение сил на фронте 51-й армии Труфанова было тогда примерно следующим: у нас – 34 тыс. человек, у противника – 76 тыс., танков -77 против 500, орудий и миномётов (калибром от 76 мм и выше)- 147 против 340. Таким образом, наша 51-я армия оказалась в крайне трудном положении.
Мы условились с командующим Сталинградским фронтом, который находился в Райгороде, что он немедленно позаботится об усилении 51-й армии и, кроме того, выделит часть сил для организации обороны по реке Мышкове.
После этого я отправился в Заварыгин (штаб Донского фронта Рокоссовского). Связаться с Верховным Главнокомандующим мне сразу не удалось. Тогда я проинформировал Рокоссовского и оказавшегося в то время в его штабе командующего 2-й гвардейской армией Р.Я. Малиновского о том, что намерен просить Ставку по мере прибытия соединений 2-й Г.А. немедленно отправить их к югу от Сталинграда, навстречу наступавшим войскам Манштейна.
Я предложил Малиновскому тотчас приступить к организации переброски уже готовых частей и соединений его армии форсированным маршем на реку Мышкову, чтобы, упредив противника, дать ему на рубеже Мышковы решительный отпор. Следует заметить, что к тому времени из 165 железнодорожных эшелонов, занятых перевозкой гвардейцев, в район к северо-западу от Сталинграда прибыли и разгрузились только 60. С ними же прибыли штаб армии и 1-й стрелковый корпус.
Через некоторое время состоялся разговор с Верховным Главнокомандующим. Я доложил о начавшемся крупном наступлении танковых войск противника со стороны Котельникова, а также о том, что с выходом этих войск к реке Аксай из-за отсутствия здесь у нас резервов создалась серьёзная опасность прорыва внешнего фронта окружения войск Паулюса. Далее я просил Верховного разрешить немедленно начать переброску прибывающей 2-й ГА на Донской фронт и развернуть её на реке Мышкове, остановить продвижение войск Манштейна, а в дальнейшем, подчинив 2-ю ГА Сталинградскому фронту, разгромить их, а операцию по ликвидации окружённых войск Паулюса временно отложить.
Это предложение вначале встретило довольно резкое возражение со стороны Сталина. Он сказал, что вопрос о передаче 2-й ГА из Донского в Сталинградский фронт будет рассмотрен ГКО. С большим волнением ожидал я решения Ставки в ночь на 13 декабря. Ставка согласилась с предложением использовать против войск Манштейна на котельниковском направлении 2-ю гвардейскую армию. Около 5 часов 13 декабря я получил от Верховного соответствующие Указания. Кстати командующий Донским фронтом мой друг Рокоссовский не был согласен с передачей 2-й ГА Сталинградскому фронту.
Более того, настойчиво просил не делать этого и пытался склонить на свою сторону Сталина. Уже после войны он не раз вспоминал об этом.
Переброска прибывавших войск 2 ГА на южное крыло Сталинградского фронта шла форсированным маршем. Несмотря на сильные морозы, совершались переходы по 40-50 км. за сутки. До войск Паулюса передовым отрядам Манштейна в тот момент оставалось пройти километров пятьдесят. 18 декабря две стрелковые дивизии 2 ГА развернулись по реке Мышкове, а 2-й гвардейский мехкорпус сосредоточился у совхоза «Крепь».
23 декабря группировка Манштейна находилась от окружённых войск Паулюса в 35-40 км. Однако дальше продвинуться оказалось неспособной.
В результате наступления Сталинградского фронта с 24 по 31 декабря была окончательно разгромлена 4-я румынская армия, а 57-й танковый корпус 4-й танковой армии противника с большими потерями отброшен на 150 км.
Победа под Сталинградом коренным образом изменила обстановку на всём советско-германском фронте. Чтобы показать, как Верховное Главнокомандование оценивало создавшуюся на Кавказе обстановку и куда оно стремилось направить дальнейшие усилия наших войск на этом участке фронта, сошлюсь на телеграмму Сталина, продиктованную им 4 января 1943 года Генштабу для командующего Закавказским фронтом генералу армии Ю.В. Тюленева. Привожу её ещё и потому, что нахожу её полезной в смысле оценки Сталина как военного деятеля, как Верховного Главнокомандующего, руководившего грандиозной по масштабам борьбой Советских Вооружённых Сил.
Подобных документов, исходивших непосредственно от Сталина и касавшихся решения самых важных оперативно-стратегических вопросов, было во время войны немало.
Вот его текст:
«Первое. Противник отходит с Северного Кавказа сжигая склады и взрывая дороги. Северная группа Масленнникова[46] превращается в резервную группу, имеющую задачу лёгкого преследования противника. Нам невыгодно выталкивать противника с Северного Кавказа. Нам выгоднее задержать его с тем, чтобы ударом со стороны Черноморской группы осуществить его окружение. В силу этого центр тяжести операций Закавказского фронта перемещается в район Черноморской группы, чего не понимают ни Масленников, ни Петров.[47]
Второе. Немедленно погрузите 3-й стрелковый корпус из района Северной группы и ускоренным темпом двигайте в район Черноморской группы. Масленников может пустить в дело 58-ю армию, которая болтается у него в резерве и которая в обстановке нашего успешного наступления могла бы принести большую пользу. Первая задача Черноморской группы – выйти на Тихорецкую и помешать таким образом противнику вывезти свою технику на Запад. В этом деле вам будет помогать 51-я армия и, возможно, 28-я армия. Вторая и главная задача Ваша стоит в том, чтобы выделить мощную колонну войск из состава Черноморской группы, занять Батайск и Азов, влезть в Ростов с востока и закупорить таким образом северокавказскую группу противника с целью взять её в плен или уничтожить. В этом деле вам будет помогать левый фланг Южного фронта – Ерёменко, который имеет задачей выйти севернее Ростова.
Третье. Прикажите Петрову, чтобы он начал своё наступление в срок не оттягивая этого дела ни на час, не дожидаясь подхода вех резервов. Петров всё время оборонялся, и у него нет большого опыта по наступлению. Растолкуйте ему, что он должен дорожить каждым днём, каждым часом.
Четвёртое. Немедленно выезжайте в район Черноморской группы и обеспечьте выполнение настоящей директивы».[48]
Каждому было понятно, что всё это означало. Загородить немцам выход с Кавказа и отсечь их соединения, ещё вчера нагло лезшие на юг, к Эльбрусу, в Грузию и Азербайджан. Вот вопрос, вставший на повестку дня! Такую стратегию диктовала военная обстановка после успешного контрнаступления советских войск под Сталинградом. В то же время и прежде всего разгром противника на Среднем Дону, особенно в районе Котельникова, создал благоприятные условия для окончательной ликвидации немецкой группировки, окружённой под Сталинградом. Этим заключительным актом Сталинградской эпопеи, её победным финалом явилась наступательная операция Донского фронта в Междуречье Волги и Дона. Она была подготовлена и успешно проведена в январе 1943 года под руководством командующего Донским фронтом К.К. Рокоссовского и представителя Ставки Н.Н. Воронова. Операция началась 10 января, после того как противник отверг наше предложение о прекращении сопротивления. С этого времени настроение врага и его надежда на деблокаду значительно снизились.
14 дней спустя Паулюс сообщил германскому верховному командованию: «Катастрофа неизбежна. Для спасения ещё оставшихся в живых людей прошу немедленно дать разрешение на капитуляцию». Его просьба была отклонена. 2 февраля 1943 года прозвучали последние залпы битвы на Волге. Более 700 тыс. участников обороны города-героя и разгрома вражеских полчищ награждены медалью «За оборону Сталинграда». Признанием особых заслуг героев-сталинградцев явилось сооружение на легендарном Мамаевом Кургане величественного памятника-ансамбля.
Давайте обратимся к тексту одного документа. Он хранится, среди других реликвий, в музее города-героя, именем которого названа битва на Волге. Это грамота президента США Франклина Рузвельта. Вот её текст: «От имени народа Соединённых Штатов Америки я вручаю эту грамоту Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии».
Буржуазные фальсификаторы тщатся доказать будто «решающие битвы» второй мировой войны происходили там, где действовали англо-американские войска.
Называется, в частности, район Эль-Аламейна. Ещё раз напомним: в октябре 1942 года на сталинградском направлении насчитывалось свыше 50 немецких дивизий, а в районе Эль-Аламейна всего лишь 12 . Далее. Буржуазные фальсификаторы, потеряв всякое чувство меры, ставят Сталинградскую битву в один ряд с высадкой американских войск на остров Гуадалканал. Но известно, что численность японского гарнизона, оборонявшего этот остров не превышала 2 тыс. человек.
Вот как выглядело соотношение сил и средств к 19 ноября 1942 года. Советские войска: люди-1106, 1 тыс., орудия и миномёты-15501, танки и САУ-1463, боевые самолёты-1350. Войска противника соответственно 1011,5 тыс, 10290, 675, 1216.
Стало быть, к началу контрнаступления мы располагали только незначительным превосходством в артиллерии и танках.
Сталинградскую битву по праву определяют как крупнейшее военно-политическое событие всей второй мировой войны. Именно Сталинградская битва предопределила начало распада фашистского блока, увеличила размах освободительного движения в странах, подпавших под ярмо нацистской оккупации, воочию показала, что на стороне социализма не только правда, но и жизненная сила, что фашизм обречён на неминуемую гибель.
На Верхнем Дону[49]
В начале 1943 года личный состав сухопутных сил, ВВС и флота впервые надели погоны, ставшие символом почётного солдатского и матросского долга советских воинов перед Родиной.
Погоны ввели по предложению Сталина. Когда принималось решение о введении погон, он попросил начальника тыла генерала Хрулёва показать погоны старой русской армии. Разглядывая их, Сталин, помню, обратился ко мне:- Товарищ Василевский, покажите, какие погоны вы носили в старое время.
Должен к слову заметить, что и ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского, Ушакова, Нахимова были учреждены также по предложению Верховного Главнокомандующего. В его кабинете в годы войны висели портреты прославленных русских полководцев Суворова и Кутузова.
Достижения Красной Армии на полях сражений нашли отражение в новых воинских уставах. Боевой устав пехоты 1942 года, а за ним и проект Полевого устава 1943 года обобщали передовой опыт армии и способствовали широкому внедрению его в практику. Численность личного состава стрелковых подразделений и частей уменьшалась, а огневая мощь их значительно возрастала.
Так, за время Сталинградской битвы ручных пулемётов в штатной стрелковой дивизии стало больше на 150, 45-миллиметровок – на 18. Заметно прибавилось автоматов. Вскоре войска перешли к использованию автомата системы Судаева и станкового пулемёта системы Горюнова, больше отвечавшего требованиям современного боя.
Количество образцов артсистем сократилось с 21 до 8, так что оборонной промышленности стало легче выполнять фронтовые заказы, используя стандартные заготовки. Резко поднялось производство кумулятивных и подкалиберных снарядов, обладавших высокой способностью бронепробивания и бронепрожигания. Было покончено с голодом на зенитные снаряды.
Из бригад М-30 формировались тяжёлые дивизии реактивной артиллерии, дивизионный залп 864 рам обрушивал на врага сразу 3840 снарядов весом в 320 т.
К концу 1942 года в Действующей армии было 7350 танков (в 3 с лишним раза больше, чем за год до этого).
До конца 1942 года в армию влились 822 тыс. офицеров. На 22 июня 1941 года в Действующей армии было менее 3 млн. военнослужащих, а к декабрю 1942 года около 6,6 млн. перед зимою 1942/43года Ставка имела в своём резерве 1600 боевых самолётов, более 1000 танков и примерно четверть миллиона обученных бойцов.
Освобождение родной земли шло через серию наступательных операций, перекрывавших во времени одна другую. На юге к ним относятся: Ростовская операция с 1 января по 18 февраля (освобождения Ростова-на Дону); Нальчикско-Ставропольская с 3 января по 4 февраля (освобождение Ставрополя); ликвидация Сталинградской группировки фашистов с 10 января по 2 февраля; Краснодарско-Новороссийская операция с 11 января (закончилась она уже в мае очищением от врага почти всего Прикубанья). В центре: Острогожско-Россошанская операция с 13 по 27 января (продвижение на запад в районе донских притоков Потудань, Тихая Сосна и Чёрная Калитва); Воронежско-Касторненская с 24 января по 2 февраля (освобождение Воронежской области); Харьковская со 2 февраля по 3марта (изгнание врага из Харькова).
На севере: прорыв блокады Ленинграда с 12 по 18 января; ликвидация Демянского плацдарма фашистов с 15 по 28 февраля.
Таким образом, все эти операции на трёх основных направлениях были осуществлены Советскими войсками с максимальным успехом во второй половине зимней военной кампании 1942/43 года.
В декабре 1942 года генерал-лейтенант А.И. Антонов по моей просьбе был назначен начальником Оперативного управления и первым заместителем начальника Генштаба. Я был тогда на Сталинградском направлении и представить Алексея Иннокентьевича Сталину не смог.
В начале января Антонов сообщил мне на Воронежский фронт, что приступил к работе в Оперативном управлении. Но, видимо, деятельность эта не принесла ему удовлетворения, в Ставке он не бывал, так как все дела Генштаба там докладывал заместитель начальника Генштаба по оргвопросам Ф.Е. Боков.
Естественно, Антонов чувствовал себя в такой обстановке неопределённо и просил меня сделать всё возможное, чтобы вернуть его на фронт.
Я позвонил Сталину и, вновь охарактеризовав Антонова как исключительно ценного для Генштаба и Ставки работника, попросил допустить его к работе, непосредственно связанной с обслуживанием Ставки в оперативном отношении.
Сталин, будучи по характеру крайне недоверчивым и осторожным человеком, особенно по отношению к новым, незнакомым ему лицам, никаких обещаний мне не дал и порекомендовал использовать Антонова в качестве моего заместителя на Воронежском фронте.
— Судя по вашим характеристикам, — заметил он, — Антонов на фронте будет куда полезнее в данный период, чем здесь, в наших канцелярских делах.
Так Алексей Иннокентьевич оказался на Воронежском фронте, где и оставался до конца марта 1943 года с большой пользой для дела. В Генштабе же очень чувствовалось его отсутствие.
Ставка вновь, в который уже раз, подталкивала командование Южного фронта (командующий А.И. Ерёменко) к более решительным действиям, а управление тремя танковыми и механизированными корпусами во фронте передала непосредственно командарму Р.Я. Малиновскому, со 2 февраля (1943 года) возглавлявшему этот фронт.
7 февраля 40-я армия Москаленко овладела Корочей, а 9 февраля освободила Белгород. 60-я армия Черняховского 8 февраля овладела Курском, а 13-я армия 7 февраля взяла Фатеж. 16 февраля, обойдя Харьков советские войска усилиями 40-й армии с севера, 3-й танковой армии с юга и 69-й с востока овладели городом.
Сталин рассказал мне, что в тот день (16 февраля 1943 года) от имени Советского правительства было направлено послание президенту США Ф. Рузвельту и премьер-министру Великобритании У. Черчиллю. В нём говорилось, что вместо обещанной Советскому Союзу помощи путём отвлечения немецких сил с советско-германского фронта получилось обратное: в связи с ослаблением англо-американских операций в Тунисе Гитлер получил возможность перебросить дополнительные силы на Восточный фронт. В послании указывалось также, что, по имеющимся достоверным данным, немцы с конца декабря 1942 года до конца января 1943 года перебросили на советско-германский фронт из Франции, Бельгии, Голландии и самой Германии 27 дивизий, в том числе пять танковых. Поэтому Советское правительство настаивало, чтобы открытие второго фронта в Европе, в частности во Франции, не откладывалось на вторую половину 1943 года, а было бы осуществлено весной или в начале лета.
18 января 1943 года стал Маршалом Советского Союза Г.К. Жуков. А 16 февраля 1943 года был опубликован крайне неожиданный для меня Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении и мне воинского звания «Маршала Советского Союза». Он был внезапен для меня хотя бы уже потому, что звание генерала армии я получил лишь месяцем раньше.
Откровенно говоря, такую оценку моего труда по линии ГКО, Президиума Верховного Совета и ВГК я считал чрезмерно высокой.
17 февраля я посетил Харьков, где встретился с заместителем командующего войсками фронта Д.Т. Козловым, затем побывал в 3-й танковой армии. На следующий день Сталин дал мне по телефону указание срочно прилететь в Москву, оставив временно в Курске в роли представителя Ставки Антонова, возложив на него в качестве основного задания помощь в быстрейшем восстановлении железных дорог на освобождённой территории Воронежской, Курской и Харьковской областей и предоставив ему право непосредственно обращаться в Ставку.
19 февраля я был в Москве. При встрече Верховный объявил мне решение Ставки возложить на меня координацию боевых действий левого крыла Западного, а также Брянского, Центрального и Воронежского фронтов при проведении операций, связанных с разгромом основных сил вражеской группы армий «Центр». 22 февраля это решение было доведено до сведения упомянутых фронтов.
Так планировало ВГК в начале февраля 1943 года наступательные операции против группы армий «Центр». Идея в целом была понятна: целых полтора года эта территория находилась под фашистским игом; хотелось как можно быстрее освободить её.
21 февраля ЦК ВКП(б) опубликовал лозунги к 25-й годовщине Красной Армии, а 23 февраля, в день самого праздника, который с такой любовью и с такой надеждой, обращённой к Советским воинам, отмечала вся страна, был издан Приказ Верховного Главнокомандующего, подводивший некоторые итоги героической борьбы Советского народа против вражеских орд, обрушившихся на СССР. Приведу некоторые выдержки из этого исторического приказа:
«Прошло 20 месяцев, как Красная Армия ведёт беспримерную в истории героическую борьбу против нашествия немецко-фашистских полчищ. Ввиду отсутствия второго фронта в Европе Красная Армия несёт одна всю тяжесть войны. Тем не менее Красная Армия не только устояла против натиска немецко-фашистских полчищ, но и стала в ходе войны грозой для фашистских армий.
В тяжёлых боях летом и осенью 1942 года Красная Армия преградила путь фашистскому зверью.
Навсегда сохранит наш народ память о героической обороне Севастополя и Одессы, об упорных боях под Москвой и в предгорьях Кавказа, в районе Ржева и под Ленинградом, о важнейшем в истории войн сражении у стен Сталинграда.
Три месяца назад войска Красной Армии начали наступление на подступах Сталинграда. С тех пор инициатива военных действий находится в наших руках, а темпы и ударная сила наступательных операций Красной Армии не ослабевают.
Гитлеровская Германия, заставившая работать на себя военную промышленность в Европе, до последнего времени имела превосходство против Советского Союза в технике и прежде всего в танках и самолётах. В этом было её преимущество. Но за двадцать месяцев войны положение изменилось. Благодаря самоотверженному труду рабочих, работниц, инженеров и техников военной промышленности СССР, за время войны возросло производство танков, самолётов, орудий. За это же время враг понёс на советско-германском фронте огромные потери в боевой технике, в особенности в танках, самолётах и орудиях.
Гитлеровская Германия вступила в войну против Советского Союза, имея почти двухлетний опыт ведения крупных военных операций в Европе с применением новейших средств войны, Красная Армия в первый период войны, естественно, не имела ещё и не могла иметь такого военного опыта. В этом состояло преимущество немецко-фашистской армии. За двадцать месяцев положение, однако, изменилось и в этой области. В ходе войны Красная Армия стала кадровой армией. Она научилась бить врага наверняка, с учётом его слабых и сильных сторон, как этого требует современная военная наука.
Из этого однако не следует, что с гитлеровской армией покончено и Красной Армии остаётся лишь преследовать её до западных границ нашей страны. Думать так – значит предаться неумному и вредному самообольщению. Думать так – значит переоценить свои силы, недооценить силы противника и впасть в авантюризм. Враг потерпел поражение, но он ещё не побеждён. Борьба с немецкими захватчиками ещё не кончена – она только развёртывается и разгорается. Глупо было бы полагать, что немцы покинут без боя хотя бы километр нашей земли.
Красной Армии предстоит суровая борьба против коварного, жестокого и пока ещё сильного врага. Эта борьба потребует времени, жертв, напряжения наших сил и мобилизации всех наших возможностей.
Весь советский народ радуется победам Красной Армии. Но бойцы, командиры и политработники Красной Армии должны твёрдо помнить заветы нашего учителя Ленина: «Первое дело – не увлекаться победой и не кичиться, второе дело – закрепить за собой победу, третье – добить противника».
23 февраля я находился в войсках Брянского фронта. Позвонил в Ставку, поздравил Сталина с 25-летием Красной Армии. Он также поздравил меня. Затем я доложил о положении на фронте. В заключение Верховный спросил, знаю ли я, о поздравительной телеграмме президента США Ф. Рузвельта.
Я не знал об этой телеграмме, и Сталин обещал сообщить мне её текст. Вскоре мне позвонил Антонов, который и зачитал телеграмму.
В ней говорилось: «От имени народа Соединённых Штатов я хочу выразить Красной Армии по случаю её 25-й годовщины наше глубокое восхищение её великолепными, непревзойдёнными в истории победами. В течение многих месяцев, несмотря на громадные потери материалов, транспортных средств и территории, Красная Армия не давала возможности самому могущественному врагу достичь победы. Она остановила его под Ленинградом, под Москвой, под Воронежем, на Кавказе, и, наконец, в бессмертном Сталинградском сражении. Красная Армия не только нанесла поражение противнику, но и перешла в великое наступление, которое по-прежнему успешно развивается вдоль всего фронта, от Балтики до Чёрного моря».
Дела на фронте шли хорошо, и по вызову Сталина я выехал с фронта в Москву. Здесь, как и всегда, я прежде всего явился в Ставку и доложил Сталину некоторые подробности о ходе операции и свою оценку общей обстановки на фронта. В заключение беседы он сказал:
— Отдохните несколько дней. Наверное, устали.
Отдых мой протекал в Генштабе за обычными делами, с ежедневным посещением Ставки. Как-то под вечер позвонил М.И. Калинин и пригласил приехать в Президиум Верховного Совета СССР для вручения мне награды. Узнав, что при вручении будут присутствовать М.И. Калинин, А.Ф. Горкин и фотограф, я попросил разрешения приехать вместе с восьмилетнем сыном Игорем.
Михаилу Ивановичу очень подходит тёплое, хотя несколько старомодное звание «Всесоюзный староста».
На Курской дуге
Курская битва, к которой мы готовились продолжительное время, во многом определила дальнейший ход второй мировой войны. Планируя большое наступление на лето, гитлеровское руководство надеялось доказать, что война не проиграна, что всё ещё можно изменить.
В феврале-марте 1943 года один из наиболее опытных военачальников немецко-фашистской армии генерал-фельдмаршал Манштейн возглавил контрнаступление группы армий «Юг» в районе Донбасса и Харькова.
17 февраля, после освобождения Харькова, Сталин лично передал по телефону Ватутину, что представленный им новый план фронтовой операции утверждён.
В первых числах марта Верховный Главнокомандующий дал мне указание вернуться на Воронежский фронт. Командование и штаб фронта находились тогда в Белгороде.
4 марта противник начал второй этап контрнаступления, нанеся мощный танковый удар сосредоточенными силами по Воронежскому фронту из района юго-западнее Харькова. Войска Воронежского фронта продолжали упорно отстаивать подступы к Харькову, но сами своими сравнительно слабыми силами не смогли сдержать танковый напор фашистов, и вынуждены были 15 марта оставить город. Фашисты непрерывно бомбили Белгород. 18 марта враг, прорвавшись с юга, овладел городом. Командование Воронежского фронта и я покинули его ранним утром и переехали в район Обояни.
По распоряжению Верховного к нам прибыл Жуков, которому поручалось вместе со мной и командующими фронтами разработать и представить в Ставку соображения по плану дальнейших действий на этом направлении.
19 марта мы с Жуковым докладывали Верховному о том, что всё наше внимание нацелено на то, чтобы остановить продвижение противника из Белгорода на Север и Северо-Восток. Линия фронта в районе Обояни стабилизировалась. Попытки немцев развить здесь наступление успеха не имели, и Воронежский фронт перешёл к жёсткой обороне.
22 марта я получил разрешение вернуться в Москву. Вслед за мною и по моей просьбе было разрешено прибыть в Москву Антонову. Вскоре мне довелось представить Алексея Иннокентьевича Верховному Главнокомандующему. Теперь мы почти ежедневно вместе посещали Ставку.
На фронте в те дни произошло некоторое перемещение: Н.Ф. Ватутин был назначен командующим Воронежским фронтом вместо Ф.И. Голикова, отозванного в распоряжение Ставки. Командующим Юго-Западным фронтом вместо Ватутина был назначен Р.Я. Малиновский, а вместо него, на Южный фронт был выдвинут командарм-57 Ф.И. Толбухин. Забегая вперёд, скажу, что последний вполне оправдал оказанное ему доверие. Он отлично командовал позднее 3-м Украинским фронтом во время освобождения Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. После войны Маршал Советского Союза Толбухин руководил ответственными участками обороны страны.
На советско-германском фронте наступило весеннее затишье. Лишь на Кубани продолжались ожесточённые сражения за завоевание господства в воздухе. В центре же вокруг Курска, образовалась своеобразная дуга, обращённая в сторону противника. С севера над ней нависал находившийся в руках противника Орловский выступ.
С юга линия фронта тянулась примерно по Белгородской параллели. А западный конец дуги шёл восточнее Севска, Рыльска и города Сумы. Внутри огромной дуги и близ неё стояли в напряжённом ожидании наши десять общевойсковых, две танковые и две воздушные армии Центрального и Воронежского фронтов.
Стратегическая пауза в течение апреля-июня 1943 года была использована обеими воюющими сторонами для выработки новых стратегических решений и подготовки к летним активным действиям.
Неудача весеннего контрнаступления, в ходе которого немцы добились ограниченных успехов, не отрезвила руководителей вермахта.
Жажда реванша, стремление во что бы то ни стало восстановить пошатнувшийся престиж немецко-фашистской армии толкали гитлеровцев на очередные авантюры.
Во время наступления наших войск зимой 1943 года было разгромлено 100 вражеских дивизий (около 40% всех их соединений). Только по сухопутным войскам с июля 1942 года по июнь 1943 года, по данным Генштаба сухопутных сил Германии, враг потерял 1 млн. 135 тысяч человек. Кроме того, события на советско-германским фронте способствовали тому, что англо-американские войска повели в Тунисе активные действия.
По-прежнему главную тяжесть борьбы несли на себе Вооружённые Силы СССР. В марте 1943 года на востоке находилось более 70 % всех войск Вермахта (194 дивизии из 273), совместно с немецко-фашистскими войсками действовали 19 дивизий и 2 бригады союзников Германии. Упали боевой дух и выручка даже танковых дивизий, о чём довольно выразительно писал в своём докладе от 9 марта 1943 года генерал-инспектор бронетанковых войск Германии Гудериан: «К сожалению, в настоящее время нет уже ни одной полностью боеспособной дивизии».
13 марта командование сухопутных войск отдало за подписью Гитлера приказ № 5. В соответствии с этим приказом группе армий «Юг», которой командовал Манштейн, надлежало к середине апреля создать танковую группировку севернее Харькова, а группе армий «Центр», командующим которой стал генерал-полковник Клюге – сосредоточить ударную группировку южнее Орла. Обе группировки должны были встречным ударом сторон в общем направлении на Курск окружить и уничтожить наши войска внутри Курской дуги.
Задачи войск и мероприятия по их обеспечению в новой наступательной операции, получившей условное наименование «Цитадель», были изложены в оперативном приказе № 6. Гитлер подписал его 15 апреля 1943 года. В нём, в частности, говорилось: «Я решил, как только позволят условия погоды, провести наступление «Цитадель» — первое наступление в этом году. Этому наступлению придаётся решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и полным успехом. Наступление должно дать в наши руки инициативу на весну и лето текущего года».
Усиленно проводилась начатая ещё в январе 1943 года тотальная мобилизация с призывом в армию даже 50-летних. Тем не менее мобилизация пополнила сильно потрёпанные войска на Восточном фронте, численность которых к лету 1943 года была доведена до 4,8 млн (более 71% личного состава всей действующей армии). Кроме того, 525 тыс. насчитывали войска сателлитов Германии. Противник имел тогда на советско-германском фронте 232 дивизии, 5850 танков и штурмовых орудий, 54,3 тыс. орудий и миномётов, 2980 боевых самолётов, на море – 69 боевых кораблей основных классов.
Врагу не удалось восполнить все свои потери и довести численность войск на Восточном фронте до уровня осени 1942 года, когда она была наибольшей за всё время войны (около 6,2 млн. человек). Особое внимание Берлин уделил восстановлению мощи бронетанковых войск, для чего форсированными темпами развивалась танковая промышленность, которая увеличила производство танков в 1943 году по сравнению с 1942 годом в 2 раза.
На вооружение немецко-фашистской армии к началу летнего наступления поступили более совершенные тяжёлые танки «Пантера» и «Тигр», самоходная артиллерийская установка (САУ) «Фердинанд».
Авиация получила новые самолёты – «Фокке-Вульф-190А» и «Хеншель-129».
Численность немецко-фашистских группировок на Курском направлении достигала свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и миномётов и 2700 танков и штурмовых орудий. Все эти силы были развёрнуты на 600-километровом участке, равнявшемся лишь 14 % всего советско-германского фронта.
Здесь же действовало более 2000 немецких самолётов, или свыше 65% всех боевых самолётов, находившихся на востоке.
Сосредоточив столь мощные силы противник был уверен в успехе наступления. Однако враг и на этот раз переоценил наступательные возможности своей армии и недооценил неизмеримо возросшую боевую мощь Красной Армии и военно-экономический потенциал Советского Союза.
Советские Вооружённые Силы окрепли организационно. Повысилось их боевое мастерство. Возрос моральный дух воинов. К лету 1943 года в составе нашей Действующей армии было 6,6 млн. человек, а на её вооружении – 105 тыс. орудий и миномётов, около 2200 боевых установок реактивной артиллерии, 10,2 тыс. танков и САУ, свыше 10,2 тыс. боевых самолётов.
Цель нашего нового наступления состояла в том, чтобы завершить наметившийся перелом в войне, разгромить вражеские группы армий «Центр» и «Юг», освободить Левобережную Украину с угольно-металлургической базой Донбассом и восточные районы Белоруссии, изгнав гитлеровские войска за линию реки Сож и нижнего течения Днепра.
На 1 апреля в резерве Ставки было до девяти армий. 6 апреля Ставка дала директиву создать к 30 апреля Резервный фронт (переименованный сначала в Степной округ, а затем в Степной фронт). Командующим этим фронтом был назначен генерал-лейтенант М.М. Попов, начальник штаба генерал-лейтенант М.В. Захаров.
Казалось, для организации нашего наступления мы сделали всё. Советской военной разведке удалось своевременно вскрыть подготовку гитлеровской армии к крупному наступлению на Курской дуге и даже установить его дату.
Советское командование оказалось перед дилеммой: наступать или оборонять?
Тщательно, со всех сторон обсуждали мы этот вопрос по телефону с Жуковым, который находился на Курской дуге, в войсках Воронежского фронта. В результате 8 апреля Жуков направил Верховному Главнокомандующему обстоятельный доклад с оценкой обстановки, в котором изложил соображения о плане действий в районе Курской дуги. Там, в частности, отмечалось: «Переход наших войск в наступление в ближайшие дни с целью упреждения противника считаю нецелесообразным. Лучше будет, если мы измотаем противника на нашей обороне, выбьем его танки, а затем, введя свежие резервы, переходом в общее наступление, окончательно добьём основную группировку противника»[50].
Я как раз находился у Сталина, когда он получил этот доклад. Верховному было известно, что Генштаб придерживается точки зрения Жукова. Прочитав доклад Жукова, Сталин сказал:
— Надо посоветоваться с командующими войсками фронтов, — И распорядился запросить мнение фронтов. Генштабу он поручил подготовить специальное совещание для обсуждения плана летней кампании 1943 года. Ватутину и Рокоссовскому он позвонил сам, просив их к 12 апреля представить соображения по оценке фронтовой обстановки и по плану предстоящих действий фронтов.
В своих донесениях командующие сообщили, что в отношении сил противника и его намерений их мнение совпадает с мнением Жукова и Генштаба. Что касается плана действий войск, командование и штаб Центрального фронта высказывались за то чтобы объединёнными усилиями войск Западного, Брянского и Центрального фронтов уничтожить орловскую группировку врага, пока она ещё не подготовилась к наступлению, и тем самым лишить противника возможности использовать её для нанесения удара через Ливны на Касторное одновременно с ударом от Белгорода[51]. Руководство Воронежского фронта высказалось только по поводу намерений врага.[52]
12 апреля вечером в Ставке состоялось совещание, на котором присутствовали Сталин, прибывший с Воронежского фронта Жуков, я и заместитель начальника Генштаба Антонов. Было принято предварительное решение о преднамеренной обороне. Сталина беспокоило, и он не скрывал этого, выдержат ли наши войска удар крупных масс фашистских танков. Теперь уже фашисты боялись нас. И колебания были отброшены. Главные усилия надо сосредоточить к северу и югу от Курска, обескровить здесь противника в оборонительном сражении, а затем перейти в контрнаступление и осуществить его разгром. В дальнейшем имелось в виду развернуть общее наступление Красной Армии, нанося главный удар в направлении на Харьков, Полтаву и Киев.
Между прочим, на совещании был предусмотрен и другой вариант действий: переход советских войск к активным действиям в случае, если фашистское командование не предпримет наступления под Курском в ближайшее время и оттянет его на длительный срок.
Советскому командованию стали достаточно точно известны сроки начала вражеского наступления, которое трижды переносилось Гитлером.
Трудно описать весь круг крупных мероприятий, которые были проведены ГКО, Ставкой, Генштабом и управлениями Наркомата обороны в ходе подготовки к битве на Курской дуге. Для этого потребовался бы специальный труд. Это была поистине титаническая государственная работа. Она, в частности включала в себя такие мероприятия, как создание многополосной обороны на Курском направлении общей глубиной в 250-300 км; выдвижение в район восточнее Курска мощного стратегического резерва Ставки–Степного фронта.
В середине апреля, по имевшимся у нас данным, враг сосредоточил против войск Центрального и Воронежского фронтов до 16 танковых дивизий, хорошо укомплектованных боевыми машинами. Наиболее мощная группировка фиксировалась перед Воронежским фронтом. Здесь, по данным разведки, насчитывалось 11 танковых и до 20 пехотных фашистских дивизий.
Это особенно беспокоило Верховного Главнокомандующего, и он решил заслушать отчёт непосредственно командующего Воронежским фронтом о том, как идёт подготовка войск и в чём фронт нуждается. Мне было приказано предупредить об этом военный совет фронта, а затем вызвать командующего в Ставку.
В первых числа июня на должность командующего войсками Брянского фронта вместо Рейтера был назначен генерал-полковник М.М. Попов. На меня была возложена координация действий войск Воронежского и Юго-Западного фронтов, а на Жукова – Центрального, Брянского и Западного фронтов.
20 мая Генштаб, на основе вновь полученных данных о противнике, направил с разрешения Верховного предупреждение фронтам о том, что фашистское наступление ожидается не позднее 26 мая.
После первого предупреждения, когда оно не подтвердилось, военный совет Воронежского фронта усмотрел в этом колебания, а быть может и отказ врага от перехода в наступление и просил Верховного решить вопрос о целесообразности нанести противнику упреждающий удар. Сталин очень серьёзно заинтересовался этим предложением, и нам – Жукову, мне и Антонову – стоило некоторых усилий, чтобы убедить его не делать этого.
В составе группировки войск Воронежского и Центрального фронтов было свыше 1336 тыс. человек, 19,1 тыс. орудий и миномётов, 3444 танка и САУ и 2172 самолёта (а с учётом самолётов 17ВА, Юго-Западного фронта и ночных бомбардировщиков У-2 – 2900).
Позади сосредоточился Степной ВО, насчитывавший 573 тыс. человек, 7401 орудий и миномётов и 1551 танк и САУ. Обе воюющие стороны замерли в ожидании надвигавшихся больших событий.
С 16 часов 4 июля противник предпринял на широком участке Воронежского фронта боевую разведку примерно четырьмя батальонами, поддержанными 20 танками, артиллерией и авиацией (около 150 самолёто-вылетов).
Захваченный в бою пленный, немец из 168-й пехотной дивизии, показал, что войскам розданы на руки сухой паёк, порции водки и что 5 июля они должны перейти в наступление. Из телефонного разговора с Жуковым я узнал, что то же самое подтверждают немецкие перебежчики, перешедшие к нам 4 июля на Центральном фронте. Посоветовавшись с Ватутиным, мы решили в ночь на 5 июля провести предусмотренную планом артиллерийско-авиационную контрподготовку, которая, как выяснилось позднее, дала исключительный эффект.
Противник, находившийся в исходном для наступления положении, понёс большие потери в живой силе и техники. Дезорганизована была подготовленная им система артиллерийского огня, нарушено управление войсками. Понесла потери и вражеская авиация на аэродромах, а связь с нею у общевойскового командования также нарушилась. Многими фашистскими командирами сильная контрподготовка была принята за начало нашего наступления.
Гитлеровцы с трудом смогли начать наступление вместо 3 часов утра 5 июня тремя часами позднее. Так развернулось великое сражение на Курской дуге. В этот день одновременно с севера и юга, перешли в наступление на Курск обе вражеские группировки. Советские войска вступили в тяжёлую борьбу с врагом. Общий её ход достаточно освещён в литературе, и я напомню лишь отдельные её моменты.
Решением Ставки от 23 июня командующим войсками Степного военного округа был назначен генерал-полковник Конев, с освобождением его от должности командующего Северо-Западным фронтом. Приказом Ставки от 9 июля Степной ВО был переименован в Степной фронт.
Оборонительная операция Воронежского и Центрального фронтов продолжалась с 5 по 23 июля. С 12 июля в неё включились 5-я ГТА и 5-я общевойсковая армии Степного фронта, переданные Воронежскому фронту. В целом вражеское наступление продолжалось менее недели и 12 июля кончилось провалом. В итоге беспримерного сопротивления советских войск противник, понеся огромные потери и продвинувшись до 12 км на северном фасе Курской дуги и до 35 км на южном, был вынужден прекратить наступление, а затем начать отвод своих войск.
Окружить наши войска (на четвёртый день наступления, как это предусматривалось планом операции «Цитадель») фашистам не удалось.
Советская оборона оказалась сильнее. Главным итогом оборонительного сражения следует, на мой взгляд, считать поражение танковых соединений врага, в результате чего возникло особо благоприятное для нас соотношение сил по этому важному роду войск. В значительной степени способствовал тому выигрыш нами крупного встречного танкового сражения южнее Прохоровки в 30 км от Белгорода.
Мне довелось быть свидетелем этого поистине титанического поединка двух стальных армад (до 1200 танков и САУ), который произошёл на южном фасе Курской дуги. Сохранился документ, который был направлен мною 14 июля из этого района боёв Верховному Главнокомандующему, он по-своему может засвидетельствовать о происходившем:
«Согласно Вашим личным указаниям, с вечера 9.VII.43 г. беспрерывно нахожусь в войсках Ротмистрова и Жадова на прохоровском и южном направлениях. До сегодняшнего дня включительно противник продолжает на фронте Жадова и Ротмистрова массовые танковые атаки и контратаки против наступающих наших танковых частей. Ликвидация прорыва армии Крюченкина, создавшая 11.VII серьёзную угрозу тылам главных сил армии Ротмистрова и корпусу Жадова, потребовала выделения двух мехбригад из 5-го механизированного корпуса и отдельных частей Ротмистрова в район Шахово, Авдеевка, Александровская. Ликвидация же прорыва армии Жадова в районах Весёлый, Васильевка, Петровка 12.VII.43 г. вынудила бросить туда остальные части 5-го механизированного корпуса. То и другое в значительной мере ослабило силы основного удара Ротмистрова со стороны Прохоровки в юго-западном направлении. По наблюдениям за ходом происходящих боёв и по показаниям пленных, делаю вывод, что противник, несмотря на огромные потери, как в людских силах, так и особенно в танках и в авиации, всё же не отказывается от мысли прорваться на Обоянь и далее на Курск, добиваясь этого какой угодно ценой. Вчера сам лично наблюдал к юго-западу от Прохоровки танковый бой наших 18-го и 29-го корпусов с более чем двумястами танков противника в контратаке. Одновременно в сражении приняли участие сотни орудий и все имеющиеся у нас РСы. В результате всё поле боя в течение часа было усеяно горящими немецкими и нашими танками.
В течение двух дней боёв 29-й танковый корпус Ротмистрова потерял безвозвратными и временно вышедшими из строя 60% и 18-й корпус до 30% танков. Потери в 5-м механизированном корпусе незначительны. Назавтра угроза прорыва танков противника с юга в район Шахово, Авдеевка, Александровка продолжает оставаться реальной.
В течение ночи принимаю все меры к тому, чтобы вывести сюда весь 5-й механизированный корпус, 32-ю мотобригаду и четыре полка ИПТАП.
Учитывая крупные танковые силы противника на прохоровском направлении, здесь на 14.VII главным силам Ротмистрова совместно со стрелковым корпусом Жадова поставлена ограниченная задача – разгромить противника в районе Сторожевое, севернее Сторожевое, совхоз «Комсомолец», выйти на линию Грязное-Ясная Поляна и тем более прочно обеспечить прохоровское направление.
Не исключена здесь и завтра возможность встречного танкового сражения.
Всего против Воронежского фронта продолжают действовать не менее одиннадцати танковых дивизий, систематически пополняемых танками. Опрошенные сегодня пленные показали, что 19-я танковая дивизия на сегодня имеет в строю около 70 танков, дивизия «Райх» до 100 танков, хотя последняя после 5.VII.43 уже дважды пополнялась. Донесение задержал в связи с поздним прибытием с фронта 24.47м. 14.VII.43 г. из 5-й гвардейской танковой армии».
Второй этап Курской битвы начался 12 июля и длился до 23 августа. Первыми перешли в наступление против орловской группировки врага Брянский и Западный фронты генерал-полковников М.М. Попова и В.Д. Соколовского. 15 июля включился в контрнаступление Центральный фронт генерала армии Рокоссовского. В итоге совместной операции трёх фронтов, носившей наименование «Кутузов», орловский плацдарм противника к 18 августа был ликвидирован, а действовавшие там силы фашистов разгромлены.
Контрнаступление на белгородско-харьковском направлении началось 3 августа. Оно было проведено совместно силами Воронежского и Степного фронтов при содействии Юго-Западного фронта. В рамках операции «Полководец Румянцев» закончилась она полным разгромом врага и освобождением Харькова.
Ставка директивой от 6 августа обязала Юго-Западный фронт нанести главный удар на Юг, во взаимодействии с Южным фронтом разгромить донбасскую группировку противника и овладеть Горловкой и Сталино (Донецк).
Основная задача Южного фронта – нанести главный удар на Сталино и там сомкнуться с ударной группой Юго-Западного фронта. Готовность к наступлению устанавливалась 13-14 августа. Координация действий возлагалась: между Воронежским и Степным фронтами – на Жукова, между Юго-Западным и Южным фронтами – на меня[53].
В результате Курской битвы Советские Вооружённые Силы нанесли врагу такое поражение, от которого фашистская Германия уже никогда не смогла оправиться. Были разгромлены 30 её дивизий, в том числе 7 танковых. Потери немецких сухопутных войск составили более 500 тыс. человек, 1500 танков, 3000 орудий, свыше 3700 боевых самолётов. Эти потери и провал широко разрекламированного нацистской пропагандой наступления вынудили гитлеровцев перейти к стратегической обороне на всём советско-германском фронте. Крупное поражение на Курской дуге явилось для немецкой армии началом смертельного кризиса.
Напомню хотя бы о таком элементарном факте: в разгар Курской битвы наши союзники высадились в Сицилии, а 17 августа переправились оттуда в Италию. Сумели бы они это сделать, имея против себя хотя бы половину тех сил, с которыми мы столкнулись у себя летом 1943 года? Думается, что ответ на этот вопрос ясен.
Освобождение Донбасса
Советское ВГК решило незамедлительно расширить фронт наступления войск на Юго-Западном направлении. Перед Центральным, Воронежским, Степным, Юго-Западным и Южным фронтами были поставлены задачи разгромить главные силы врага на одном из центральных участков и на всём южном крыле советско-германского фронта, освободить Донбасс, Левобережную Украину, выйти на Днепр и захватить плацдармы на его правом берегу.
Предусматривалось, что Центральный, Воронежский и Степной фронты выйдут на среднее течение Днепра, а Юго-Западный и Южный – на нижнее.
Одновременно готовились операции севернее и южнее: основным силам Западного и левого крыла Калининского фронтов планировалось нанести поражение 3-й танковой и 4-й полевой армиям немецкой группы армий «Центр», выйти к Духовщине, Смоленску и Рославлю, чтобы отодвинуть подальше от Москвы линию фронта, создать благоприятные условия для освобождения Белоруссии и лишить фашистов возможности перебрасывать отсюда силы на юг, где решалась основная задача кампании, Северо-Кавказский фронт во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской флотилией должны были очистить Таманский полуостров и захватить плацдарм у Керчи.
Таким образом, Ставка планировала провести общее наступление на фронте от Великих Лук до Чёрного моря. Этот крупный по замыслу и участвовавшим в его выполнении силам план осуществлялся в ходе следующих операций:
Смоленская – с 7 августа по 2 октября (со взятием Смоленска и Рославля, начало освобождения Белоруссии);
Донбасская – с 13 августа по 22 сентября (освобождение Донбасса);
Операция по освобождению Левобережной Украины – с 25 августа по 30 сентября (прорыв к Днепру);
Черниговско-Припятьская – с 26 августа по 1 октября (освобождение Черниговской области);
Брянская – с 1 сентября по 3 октября (продвижение от Средне-Русской возвышенности к бассейну Десны);
Новороссийско-Таманская – с 9 сентября по 9 октября (завершено освобождение Кавказа);
Мелитопольская – с 26 сентября по 5 ноября (выход к Крымскому перешейку);
Керченско-Эльтигенская десантная (захват плацдарма в Восточном Крыму).
Как видим, ни одна из этих операций не начиналась и не заканчивалась в одно и то же время. Это вынуждало врага дробить свои резервы, перебрасывая их с участка на участок, пытаясь закрыть на фронте то там, то тут гигантские бреши, проделываемые в его обороне советскими войсками.
6 августа, то есть буквально на второй день после того, как Родина отпраздновала освобождение Орла и Белгорода, мы с Жуковым, на которого была возложена координация действий Воронежского и Степного фронтов, получили из Ставку директиву, в которой говорилось, что представленный Жуковым план действий Воронежского и Степного фронтов по разгрому врага в районе Харькова утверждён.
При этом правофланговая 57-я армия Юго-Западного фронта передавалась Степному фронту, чтобы ударом в обход Харькова с юга помочь главной группировке овладеть Харьковом.
Тем временем Юго-Западный и Южный фронты обязаны были подготовить и провести операции по освобождению Донбасса. Первый из них должен был нанести удар в направлении Горловки и Сталино от берегов Северского Донца на юг, второй – от Ворошиловграда и реки Миус на запад, соединяясь в районе Сталино (Донецка) с соседом. Готовность этих двух фронтов к выполнению задачи устанавливалась 13-14 августа. Я должен был 10 августа дать Ставке на утверждение план их действий. На меня же возлагалась и дальнейшая их координация.
Донбасс фашисты стремились удержать в своих руках во что бы то ни стало. Фашистское руководство считало, что оставление Донбасса и Центральной Украины повлечёт за собой утрату важнейших аэродромов, большие потери в продуктах питания, угле, энергетических ресурсах, сырье.
Передний край главной оборонительной полосы немцев, прикрытый рядами проволочных заграждений и минными полями проходил по Северскому Донцу и Миусу.
11 августа 1943 года Гитлер отдал дополнительный приказ о строительстве стратегического рубежа обороны, который стал известен у немцев под названием Восточного вала, от Утлюкского лимана через горько-солёное Молочное озеро и далее по линии реки Молочной, среднего течения Днепра, реки Сож, через Оршу, Витебск, Псков и по реке Нарве.
Оборону Донбасского района гитлеровское командование возложило на 1-ю танковую и 6-ю полевую армии, входившие в группу армий «Юг» и насчитывавшие до 22 дивизий. Ими командовали опытные военачальники, генерал-полковники Макензен и Холлидт. Первый был родственником генерал-фельдмаршала Августа Макензена, известного ещё по первой мировой войне. Отпрыск потомственных немецких генералов успел «отличиться» не только на полях сражений. Зимой 1943 года он ограбил в Пятигорске эвакуированный туда Ростовский музей изобразительных искусств, присвоив полотна и скульптуры великих мастеров кисти и резца. Что касается Холлидта, то его армии мы уже били на Дону. Теперь предстояло встретиться с ним вновь.
В ночь на 9 августа я был на фронтовом КП Южного фронта Ф.И. Толбухина, неподалёку от города Шахты, а также от Краснодона, где в те дни стала раскрываться в деталях трагедия нашей подпольной организации «Молодая гвардия».
Из телефонных разговоров с Жуковым я узнал об успешном наступлении Воронежского и Степного фронтов.
Рано утром 12 августа мы с Жуковым получили директиву Ставки, в которой излагались уже известные нам задачи фронтов.
Воронежскому фронту предписывалось, отрезав пути отступления харьковской группировки врага, овладеть далее Полтавой и форсировать Днепр у Кременчуга. Степному фронту после овладения Харьковом – взять Красноград (Харьковской области) и в дальнейшем форсировать Днепр севернее Днепропетровска. Юго-Западному фронту – пробиться к Днепру у Запорожья и пересечь пути отхода донбасской группировки фашистов.
Для усиления войск Воронежского фронта почти тогда же Ватутину передали 4-ю гвардейскую армию Г.И. Кулика. С горьким чувством вспоминаю я этого человека. В начале войны он неудачно выполнял задания Ставки на западном направлении, потом также плохо командовал одной из армий под Ленинградом. В силу своих отрицательных личных качеств он не пользовался уважением в войсках и не умел организованно руководить действиями войск.
Директиву Ставки, соответствующую вышеупомянутому стратегическому плану, получили командующие Западным (В.Д. Соколовский), Брянским (М.М. Попов) и Центральным (К.К. Рокоссовский) фронтами.
Рано утром 17 августа, находясь на передовом КП 46-й армии В.В. Глаголева, я получил от Сталина следующий документ:
«Маршалу Василевскому. Сейчас 3 часа 30 минут 17 августа, а Вы ещё не изволили прислать в Ставку донесение об итогах операции за 16 августа и о Вашей оценке обстановки. Я давно уже обязал Вас как уполномоченного Ставки обязательно присылать в Ставку к исходу каждого дня операции специальные донесения. Вы почти каждый раз забывали об этой своей обязанности и не присылали в Ставку донесений.
16 августа является первым днём важной операции на Юго-Западном фронте, где Вы состоите уполномоченным Ставки. И вот Вы опять изволили забыть о своём долге перед Ставкой и не присылаете в Ставку донесений.
Последний раз предупреждаю Вас, что в случае, если Вы хоть раз ещё позволите забыть о своём долге перед Ставкой, Вы будете отстранены от должности начальника Генерального штаба и будете отозваны с фронта.
И. Сталин»
Эта телеграмма потрясла меня. За все годы моей военной службы я не получил ни одного даже мелкого замечания или упрёка в свой адрес. Вся моя вина в данном случае состояла в том, что 16 августа, находясь в войсках армии Глаголева в качестве представителя Ставки, я действительно на несколько часов задержал очередное донесение. На протяжении всей своей работы с И.В. Сталиным, особенно в период Великой Отечественной войны, я неизменно чувствовал его внимание, я бы даже сказал, чрезмерную заботу, как мне казалось, далеко мной не заслуженные.
По возвращении на КП фронта, я тотчас связался по телефону со своим первым заместителем Антоновым. Он сказал, что моё донесение, за которое на меня обрушился Сталин, было Генштабом получено и доложено в Ставку. Однако это было уже после того, как мне направили послание Сталина.
Антонов, успокаивая меня, добавил, что получил указание Сталина никого с этим письмом не знакомить и хранить его у себя. Доложил он мне также и то, что слабое развёртывание наступления на Воронежском, Степном и Юго-Западном фронтах очень беспокоило Верховного. Не получив донесения, Сталин попытался связаться со мной по телефону, но и это не удалось сделать. И тогда он продиктовал Антонову процитированный выше документ.
Добавлю лишь, что Сталин был так категоричен не только в отношении меня. Подобную дисциплину он требовал от каждого представителя Ставки. Нам было разрешено передвигаться по своему усмотрению только в пределах фронтов, координировать действия которых мы были обязаны. Для выезда на другие нужна была специальная санкция Верховного. Считаю, что отсутствие какой-либо снисходительности к представителю Ставки было оправдано интересами оперативного руководства вооружённой борьбой. Верховный Главнокомандующий очень внимательно следил за ходом фронтовых событий, быстро реагировал на все изменения в них и твёрдо держал управление войсками в своих руках.
В ночи на 23 августа Харьков был полностью освобождён войсками Степного фронта (Конева). 30 августа наши войска взяли Таганрог, окружили к северо-западу от него остатки вражеских войск, оборонявшихся на реке Миус и 31 августа ликвидировали их.
2 сентября воины Воронежского фронта ворвались в Сумы. Вспоминая ожесточённые августовские бои в районе Харькова и в Донбассе, бывший командующий группой армий «Юг» Манштейн писал: «Мы, конечно, не ожидали от советской стороны таких больших организаторских способностей, которые она проявляла в этом деле, а также в развёртывании своей военной промышленности. Мы встретили поистине гидру, у которой на месте одной отрубленной головы вырастали две новые. К концу августа только наша группа потеряла 7 командиров дивизий, 38 командиров полков и 252 командира батальонов. Наши ресурсы иссякли. Катастрофически осложнившаяся к концу августа стратегическая обстановка на фронте группы армий «Юг» вынудила Гитлера 27 августа прибыть из Восточной Пруссии в Винницу, где находилась его полевая ставка. Манштейн пишет, что там, на совещании руководящего состава его группы, он «поставил перед Гитлером ясную перспективу: или быстро выделить нам новые силы, не менее 12 дивизий, а также заменить ослабленные части частями с других, спокойных участков фронта; или отдать Донбасс, чтобы высвободить силы на фронте группы. Гитлер обещал, что даст нам с фронтов групп «Север» и «Центр» все соединения, какие можно только оттуда взять. Он обещал также выяснить в ближайшие дни возможность смены ослабленных в боях дивизий дивизиями с более спокойных участков фронта.
Уже в ближайшие дни нам стало ясно, что дальше этих обещаний дело не пойдёт. Советы атаковали левый фланг группы «Центр» (2-ю армию) и осуществили частный прорыв, в результате которого эта армия была вынуждена отойти на запад. В полосе 4-й армии этой группы в результате успешного наступления противника также возникло критическое положение.
28 августа фельдмаршал фон Клюге прибыл в Ставку фюрера и доложил, что не может быть и речи о снятии сил с его участка фронта. Группа «Север» также не могла выделить ни одной дивизии».
3-я гвардейская армия Д.Д. Лелюшенко фронта Малиновского добилась значительного успеха, продвинувшись только на 3 сентября на 20-30 км, и захватила Пролетарск, Камышеваху, Попасную, Первомайск и через истоки Лугани продвигалась к Артёмовску.
Большого успеха добился и Южный фронт. Его 51-я, 5-я ударная при содействии 2-й гвардейской армии, освободив Дебальцово, Орджоникидзе, вышли к Харцызску и Иловойску.
5 сентября был взят Артёмовск.
6 сентября Юго-Западный и Южный фронты освободили от захватчиков свыше 100 населённых пунктов, в том числе Макеевку, Константиновку, Краматорск, Славянск, Дружковку.
8 сентября 5-я ударная армия при содействии войск 2-й гвардейской армии овладела городом Сталино (Донецком). 10 сентября войска Юго-Западного фронта освободили железнодорожный узел Барвенково, а Южного – Волноваху и во взаимодействии с десантом Азовской флотилии – важный центр металлургической промышленности Мариуполь.
К 15 сентября мы вышли на линию Лозовая –Чаплино-Гуляй-Поле-Урзуф. Только после этого враг убедился, что не удержит Донбасс, и начал отводить свои войска к Мелитополю, Полочам и Синельниково.
В борьбе за Днепр
Верховный Главнокомандующий неоднократно подчёркивал, как важно форсировать Днепр с ходу. Учитывая огромное значение, которое приобретала в создавшихся условиях борьба за Днепр, Ставка 9 сентября дала войскам директиву, требовавшую за успешное форсирование крупных рек и за закрепление плацдармов на их берегах представлять к высшим правительственным наградам, а за преодоление таких рек, как Днепр, ниже Смоленска, или равных Днепру по трудности форсирования, — к присвоению звания героя Советского Союза.
Вечером 18 сентября у меня состоялся обстоятельный разговор с Верховным Главнокомандующим о ходе дальнейшего развития операций. В результате было принято следующее решение. Войска Юго-Западного фронта должны были направляться на освобождение Днепропетровска и Запорожья с тем, чтобы в ближайшее же время переправиться на западный берег Днепра и закрепить там за собой плацдарм. Войска Южного фронта нацеливались на прорыв и ликвидацию обороны врага по реке Молочной, а затем, прочно заперев фашистов в Крыму, должны выйти на нижнее течение Днепра и форсировать его здесь. Усилия Центрального и Воронежского фронтов сосредоточивались на киевском, а Степного – на полтавско-кременчугском направлениях.
Развивая наступление, войска Юго-Западного фронта к 22 сентября отбросили врага за Днепр на участке от Днепропетровска до Запорожья, а войска Южного фронта подошли к правому фасу Восточного вала – рубежу на реке Молочной, завершив тем самым наступательную операцию по освобождению Донбасса. Войска Центрального фронта освободили 21 сентября Чернигов, 22 сентября вышли на Днепр, с ходу форсировали его и захватили плацдарм в междуречье Днепра и Припяти. Это вынудило гитлеровское командование перебросить часть своих сил с гомельского и других направлений.
Используя успех войск Центрального фронта, перешёл в наступление Воронежский фронт на киевском направлении. 22 сентября его войска вышли к Днепру в излучине у Переяславля–Хмельницкого, форсировали реку и захватили плацдарм.
Войска Степного фронта во взаимодействии с Воронежским 23 сентября освободили Полтаву и вышли к Днепру у Черкасс, а затем юго-восточнее Кременчуга. Таким образом, войска четырёх фронтов в последних числах сентября вышли на Днепр на пространстве протяжением около 700 километров и овладели на его правом берегу рядом важных плацдармов. Тем временем войска Северо-Кавказского фронта во взаимодействии с Черноморским флотом 16 сентября освободили Новороссийск, а вслед за тем была разгромлена вся таманская группировка противника.
26 сентября после часовой артиллерийской подготовки Южный фронт перешёл в наступление. Началась Мелитопольская чрезвычайно трудная операция, длившаяся до 5 ноября.
Тогда же было решено упразднить Брянский фронт, перебросив его управление в район Торопца и реорганизовав его в Прибалтийский фронт.
20 октября 1943 года решением ГКО фронты были переименованы: Центральный – в Белорусский, Калининский – в 1-й Прибалтийский, Прибалтийский – во 2-й Прибалтийский, Воронежский – в 1-й Украинский, Юго-Западный — в 3-й Украинский, Степной – во 2-й Украинский, Южный – в 4-й Украинский. Эти наименования в основном сохранились и после того, как наши войска изгнали фашистов с территории СССР.
23 октября был, наконец, полностью очищен от врага Мелитополь. 25 октября наши войска овладели Днепропетровском и Днепродзержинском.
Выход наших войск в район Киева создавал угрозу с севера всей южной группировке противника на советско-германском фронте. Но попытки командования 1-го Украинского фронта овладеть городом в октябре, нанося главный удар южнее Киева с букринского плацдарма, а вспомогательный удар севернее – с лютежского плацдарма, – успеха не принесли, так как гитлеровцы стянули сюда свои основные силы.
Ставка вынуждена была 25 октября поправить это решение и приказала фронту перегруппировать основные силы к Лютежу, чтобы нанести главный удар отсюда. В результате задача была решена, и 6 ноября Киев был взят. Преследуя врага, 1-й Украинский фронт 7 ноября с боем овладел важным железнодорожным узлом Фастов, а 13 ноября освободил Житомир.
К концу сентября была освобождена почти вся Левобережная Украина. 16-25 сентября врага выбили из Новороссийска, Брянска и Смоленска.
В начале ноября мы вышли к Крымскому перешейку, а возле Керчи создали плацдарм. До 20 декабря не затухали бои на плацдармах к Кировограду и Кривому Рогу. К концу ноября был освобождён Гомель. Наконец, незадолго до Нового года началась Житомирско-Бердичевская наступательная операция, в ходе которой складывались предпосылки освобождения Правобережной Украины.
За форсирование Днепра и проявленное при этом мужество и самоотверженность 2438 представителей всех родов войск (47 генералов, 1123 офицера, 1268 сержантов и солдат) были удостоены звания Героя Советского Союза.
За пять месяцев почти непрерывного наступления были разбиты 118 вражеских дивизии.
Фашистский блок начал распадаться.
На правобережье Днепра
Была освобождена половина всей советской территории, захваченной врагом.
Ставка ВГК и Генштаб одновременно были заняты выработкой плана операций на ближнюю зиму. Сталин неоднократно беседовал на эту тему с Жуковым, находившемся в войсках 1-го и 2-го Украинских фронтов, и со мною (я координировал действия 3-го и 4-го Украинских фронтов). Обсуждал он эту проблему и с командующими фронтами. Каждодневно занимался этими вопросами Генштаб.
В середине декабря 1943 года Жукова и меня вызвали в Москву для принятия окончательного решения по зимней кампании.
Враг был вынужден перебросить к концу 1943 года с Запада 75 дивизий, много техники и вооружения. Мощь Советских Вооружённых Сил неуклонно возрастала. За 1943 год было создано 78 новых дивизий. Войска, действовавшие на фронте, в то время насчитывали уже более 6 млн солдат и офицеров, 91 тыс орудий и миномётов, 4,9 тыс. танков и САУ, 8,5 тыс. самолётов.
Красная Армия превосходила гитлеровскую армию по численности, по боевой технике и по вооружению. Начать в 1944 году стратегические операции было решено на Северо-Западном направлении силами Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов при поддержке Балтийского флота, с тем, чтобы, разгромив группу немецких армий «Север», полностью снять блокаду с Ленинграда и выйти к границам Прибалтики. На Юго-Западном направлении советско-германского фронта предусматривалось в течение зимы освободить Правобережную Украину и Крым и выйти здесь весною к нашей государственной границе.
Освобождение Правобережной Украины осуществлялось в ходе семи операций, первые шесть из которых были связаны единым стратегическим замыслом и с военными действиями на других фронтах:
Житомирско-Бердичевская (с 24 декабря 1943 г. по 15.01.1944 г),
Кировоградская (с 5 по 16 января),
Корсунь-Шевченковская (с 24 января по 17 февраля 1944),
Ровно-Луцкая (с 27 января по 11 февраля),
Никопольско-Криворожская (с 30 января по 29 февраля),
Проскуровско-Ботошанская(с 5 марта по 17 апреля),
Уманско-Ботошанская (с 5 марта по 17 апреля) и
Березнеговато-Снигирёвская (с 6 по 18 марта).
Дополняла их Одесская наступательная операция (с 26 марта по 14 апреля).
Наконец, когда все они уже были завершены либо близились к этому, началась Крымская операция (с 8 апреля по 12 мая).
Крупнейшими из указанных операций зимой и весной 1944 года были Корсунь-Шевченковская и Крымская, превосходить их могла лишь только Ленинградско-Новгородская операция, вошедшая в историю под названием «Первый удар».
Сделаю одну оговорку. В своё время было принято называть главные наши операции 1944 года на советско-германском фронте «десятью ударами». Соответственно освобождение Правобережной Украины в феврале-марте 1944 года именовалось «Вторым ударом», Крымская – «третьим». И хотя позже эти названия вышли из употребления и помнит их лишь старшее поколение советских граждан, я считаю возможным напомнить о старой терминологии.
После упомянутого совместного заседания Политбюро ЦК ВКП(б), ГКО и Ставки Жуков и я ещё несколько дней работали в Генштабе. Ежедневно бывали у Сталина, уточняли детали утверждённого плана и директивы фронтам.
Как только Верховный Главнокомандующий утвердил директивы, мы вернулись по его указанию на те же фронты, откуда прибыли.
Сталин не любил, когда мы «засиживались» в столице. Он полагал, что для руководства повседневной работой в Генштабе и Наркомате обороны людей достаточно. А место его заместителей и начальника Генштаба – в войсках, чтобы там, прямо на месте, претворять в жизнь замыслы Ставки, согласовывать боевую работу фронтов и помогать им. Стоило мне или Жукову ненадолго задержаться в Москве, как он спрашивал:
— Куда поедете теперь? – и добавлял: — Выбирайте сами на какой фронт отправитесь. – Иногда давал соответствующее указание.
В начале 1944 года отдел по использованию опыта войны был преобразован в управление. Непрестанно разрабатывались пособия для офицеров, памятки воину, в которых анализировалось всё лучшее, достигнутое советскими войсками, становясь затем общим достоянием. 4,2 млн. человек — такова цифра пополнения, пришедшего в Действующую армию в 1944 году.
Крепли авиационные соединения. Авиакорпуса из смешанных превращались в однородные и переводились на новую, всё более могучую боевую технику: в штурмовые авиакорпуса начали поступать «Ил-10», лучшие в мире «летающие танки», в истребительные – самый надёжный самолёт второй мировой войны «Ла-7» и наиболее маневренный «Як-3». С весны 1944 года каждый фронт получил по инженерной мотобригаде, а три Белорусских и два Украинских ещё по моторизованной штурмовой инженерно-сапёрной бригаде.
Формировались тяжёлые миномётные бригады, вооружённые 160-миллиметровыми миномётами, а также гвардейские тяжёлые миномётные бригады реактивной артиллерии с мощными установками БМ-31-12. Войска начали получать новые противотанковые орудия (85 и 100 мм), САУ с орудиями 100-, 122- и 152-мм калибра. У танка Т-34 пушку в 76-мм заменили 85-мллиметровой, нарастили броню и подняли скорость. Появился тяжёлый танк ИС-2, прозванный немцами «русским тигром».
Общевойсковые армии состояли теперь из двух четырёхдивизионных либо трёх трёхдивизионных корпусов и были хорошо обеспечены боевой техникой и разнообразными современными средствами ведения войны.
Немецко-фашистское командование понимало, что с потерей Украины рухнет Восточный фронт на юге нашей страны.
В то же время, несмотря на понесённые жестокие поражения немецко-фашистская армия к началу 1944 года была ещё довольно сильной и могла вести серьёзную оборонительную войну.
Отсутствие же второго фронта в Европе во многом содействовало этому, ибо военные события, происходившие в Центральной Италии по своему значению и размаху именоваться настоящим вторым фронтом, конечно, не могли.
По данным Генштаба, на советско-германском фронте действовали тогда 198 немецких дивизий и шесть бригад, три немецких воздушных флота, а также 38 дивизий и 18 бригад союзников Германии. Эти войска насчитывали 4,9 млн человек, имели на вооружение более 54,6 тыс орудий и миномётов, 5,4 тыс танков и штурмовых орудий, 3,1 тыс. самолётов.
В наших действующих войсках насчитывалось более 6,3 млн человек, 95,6 тыс орудий и миномётов, 5254 танка и САУ, 10200 самолётов. Несомненно, обращает на себя внимание то обстоятельство, что у нас, хотя и временно, было меньше, чем у противника, танков.
Это объясняется прежде всего немалыми потерями нашей армии в гигантских наступательных операциях 1943 года. Кроме того, не нужно недооценивать экономический потенциал гитлеровской Германии. Вот почему на рубеже 1943-1944 годов борьба с немецкими танковыми соединениями оставалась далеко не простым делом.
И когда наши войска становились порою в оборону, она строилась обязательно глубокой, противовоздушной, противотанковой и с серьёзным инженерным оборудованием местности.
Против четырёх советских Украинских фронтов на участке от реки Припять до берегов Чёрного моря действовали: группа армий «Юг» генерал-фельдмаршала Манштейна и группа армий «А» генерал-фельдмаршала Клейста. Эти войска поддерживались авиацией 4-го воздушного флота. Всего в обеих группах было 1,76 млн. солдат и офицеров, 16800 орудий и миномётов, 2200 танков и штурмовых орудий, 1460 самолётов.
По строжайшему приказу Гитлера, они любой ценой должны были удержать за собой богатейшие хлебные районы Правобережной и западных областей Украины, Никополь с его предприятиями по добыче и переработке марганца, Криворожский бассейн, богатый железной рудой и Крым, прочно прикрывая коммуникации южного крыла германо-советского фронта.
Гитлеровское командование ещё надеялось на восстановление своей обороны и по Днепру. Вот почему оно с таким упорством стремилось удержать за собой корсунь-шевченковский плацдарм, выгодный для нанесения флангового удара как по левому крылу 1-го Украинского фронта, так и по правому крылу 2-го Украинского фронтов, а также плацдарм южнее Никополя, который прикрывал криворожский бассейн и позволял нанести удар на Мелитополь по тылу 4-го Украинского фронта и пробиться к крымской немецко-румынской группировке.
Нельзя не сказать о том, что наши войска, сражавшиеся на Украине, столкнулись с деятельностью буржуазных националистов, «возглавлявшихся Мельником и Бандерой». Особенно они активизировались на Правобережье и в западных областях Украины.
Бандеровцы пытались влиять на настроения не только гражданского населения, но и на военных.
Их террористические банды осуществляли диверсии и убийства, иногда серьёзно угрожая нашим войсковым тылам, и активно сотрудничали с оккупантами во фронтовой полосе.
Одна из таких банд организовала в конце февраля 1944 года засаду, в которую попал и был тяжело ранен Н.Ф. Ватутин.
Эти тревожные сигналы также напоминали нам, что недалеко советская государственная граница, что Красной Армии, несущей освобождение от гитлеризма многим народам, придётся всё чаще и чаще ощущать за рубежами Родины существование всяческих антисоветских буржуазных и мелкобуржуазных группировок.
24 декабря 1943 года ударная группировка 1-го Украинского фронта перешла в наступление и в первые же три дня овладела сильным опорным пунктом врага Радомышлем. Успешно развивая наступление, войска фронта при активной помощи партизан в первых числах января освободили от фашистских захватчиков Новоград-Волынский, Бердичев и Белую Церковь.
1-й Украинский фронт продвинулся за три недели на запад от 80 до 200 км. Но его левый фланг по-прежнему оставался на Днепре, в районе Ржищева.
После упорных боёв Кировоград 8 января 1944 года войсками 2-го Украинского фронта был освобождён.Ожесточённые бои по ликвидации корсунь-шевченковской группировки продолжались до 18 февраля. В ходе этих боёв 55 тыс. вражеских солдат и офицеров было убито, более 18 тыс. взято в плен. Противник потерял здесь всё своё вооружение и боевую технику.
27 января войска 1-го Украинского фронта освободили города Ровно, Луцк и Шепетовка. Теми же январскими неделями 3-й и 4-й Украинские фронты предпринимали неоднократные попытки разбить никопольско-криворожскую вражескую группировку, но успеха не имели. В середине января, с разрешения Ставки, мы прекратили атаки.
Нужно было подключить 2-й Украинский фронт, произвести перегруппировку войск, пополнить войска Ф.И. Толбухина (3-й Украинский фронт) резервами. Посоветовался с Фёдором Ивановичем, он поддержал меня и я решил позвонить в Ставку сего КП.
Сталин не соглашался со мной, упрекая нас в неумении организовать действия войск и управление боевыми действиями. Мне не оставалось ничего, как резко настаивать на своём мнении. Повышенный тон Сталина непроизвольно толкал на такой же ответный. Сталин бросил трубку.
Всё же после этих переговоров 3-й Украинский фронт, игравший при проведении Никопольско-Криворожской операции основную роль, получил от 2-го Украинского фронта 37-ю армию и из резерва Ставки –31-й гвардейский стрелковый корпус, а от 4-го Украинского фронта – 4-й гвардейский механизированный корпус. Наступление войск 3-го и 4-го Украинских фронтов на никольско-криворожском направлении возобновилось в последних числах января.
Много я повидал на своём веку распутиц. Но такой грязи и такого бездорожья, как зимой и весной 1944 года, не встречал ни раньше, ни позже. Буксовали даже тракторы и тягачи. Артиллеристы тащили пушки на себе. Бойцы с помощью местного населения переносили на руках снаряды и патроны от позиции к позиции за десятки километров.
8 февраля соединения 3-го и 4-го Украинских фронтов освободили Никополь, 22 февраля 46-я армия Глаголева при содействии 37-й армии Шарохина овладела Кривым Рогом с прилегающими к нему рудниками. Выдвинулись к Ингульцу и другие войска Малиновского.
В соответствии с принятым решением Ставка дала необходимые директивы. Украинские фронты получили их: 1-й и 2-й – 18 февраля, 3-й -28 февраля. Именно в эти дни и произошло несчастье, о котором я упоминал выше: на дороге из 13-й в 60-ю армию бандиты ранили Ватутина, 15 апреля он скончался.
К началу марта Украинские фронты закончили перегруппировку сил, были пополнены людьми и боевой техникой. Они получили дополнительно более 750 танков, после чего стали превосходить врага по танкам в 2,5 раза.
4 марта 1-й Украинский фронт, которым после ранения Ватутина стал командовать, оставаясь заместителем Верховного, Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, начал наступление.
5 марта начал наступление 2-й Украинский фронт,
10 марта танкисты 6-й танковой армии освободили Умань.
3-й Украинский фронт перешёл в наступление 6 марта.
В донесении на имя Верховного Главнокомандующего о войсках 4-го Украинского фронта отмечались подготовка и проведение им переправы через Сиваш. Теперь важно было, правильно оценив ситуацию, сложившуюся на Украине, срочно внести коррективы в первоначальный план. И Ставка, умело и гибко реагируя на изменения фронтовой обстановки, приняла необходимые меры. Им было отведено немало времени в переговорах между Сталиным, Жуковым, Коневым, Малиновским и мною 9 и 10 марта. Чтобы не позволить немецкой группе армий «Центр» помочь своему южному соседу, 2-й Белорусский фронт в ближайшие же дни начинал наступление на Ковель и Брест.
Войска 1-го Украинского фронта возобновили наступление в назначенный срок. Уже 24 марта 20-я гвардейская механизированная бригада полковника А.Х. Бабаджаняна вышла у Залещиков к Днестру, за что её командиру было присвоено звание Героя Советского Союза. Войска фронта приступили к форсированию реки. 29 марта были освобождены Черновицы.
Так стремительно продвигались вперёд войска центра и левого крыла 1-го Украинского фронта, выходя через Жмеринку и Каменец-Подольский к Днестру. Бок о бок, с ними сражались войска 2-го Украинского фронта. Овладев Могилёвом-Подольским, они переправились через Днестр и достигли государственной границы у Прута. Тщетно пытались немецкие войска уйти в Румынию. Только переброска фашистами к Станиславу (Ивано-Франковску) 1-й венгерской армии и немецких войск из Франции, Голландии и Дании спасла их здесь от полного разгрома.
Тем временем 2-й Украинский вышел к Яссам. Темпы его продвижения в те дни были, пожалуй непревзойдёнными. Казалось, что от Южного Буга к Днестру и Пруту безудержно катилась лавина, не знающая преград. Наращивал темпы и 3-й Украинский фронт. 13 марта войска его левого крыла ворвались в Херсон, устремились к Николаеву и стали заворачивать на север, закрывая 6-й немецкой армии отход к морю. Войска его правого крыла шли навстречу, смыкая кольцо. Берега нижнего Ингула стали свидетелями ещё одного поражения гитлеровцев, оставивших на поле боя 25 тыс. трупов и много боевой техники; 7,5 тыс. человек было взято в плен.
В течение 26-27 марта 3-й Украинский фронт вёл напряжённейшие бои за город и порт Николаев, форсируя Южный Буг и захватывая плацдармы на его правом берегу. Целые три наши армии с разных сторон атаковали вражескую оборону, пока ночным штурмом не очистили от противника весь Николаев. 30 марта 5-я ударная армия овладела Очаковом и фортом Красный Маяк в устье Днепровско-Бугского лимана.
День 10 апреля, когда Одесса праздновала изгнание немецко-румынских фашистов, памятен мне вдвойне. В этот день мне стало известно, что я награждён высшим военным орденом «Победа». Я получил этот орден за № 2, а № 1 стоял на врученном Жукову. Наградная формулировка гласила: «За умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандования по руководству боевыми операциями большого масштаба, в результате которых достигнуты выдающиеся успехи в деле разгрома немецко-фашистских захватчиков».
Следующие два дня ушли на полное освобождение Одессы и Тирасполя, причём мы сумели овладеть переправой и некоторыми дамбами на Днестре. Страна торжественно отметила успех 3-го Украинского фронта.
Первым меня поздравил по телефону, ещё до опубликования Указа Президиума Верховного Совета СССР, Верховный Главнокомандующий. Он сказал, что я награждаюсь не только за освобождение Донбасса и Украины, а и за предстоящее освобождение Крыма, на который мне следует переключить теперь своё внимание, не забывая одновременно о 3-м Украинском фронте.
Рано утром 11 апреля я вылетел на 4-й Украинский фронт. 8 апреля он начал Крымскую наступательную операцию. В ночь на 13 апреля из штаба Толбухина я доложил Верховному Главнокомандующему об успешном начале Крымской операции.
Грандиозное наступление четырёх Украинских фронтов, начавшееся в конце декабря 1943 года, закончилось в середине апреля 1944 года не только освобождением Правобережной Украины, но и перенесением боевых действий на ряде советско-германского фронта за пределы СССР.
Войска Жукова, разбив 4-ю танковую немецкую армию, а вместе с 2-м Украинским фронтом – и 1-ю танковую армию, закреплялись восточнее Ковеля и Брод, к западу от Тернополя и Коломыи, имея левый фланг западнее Серета. В процессе боёв за Правобережную Украину 1-я и 4-я танковые армии врага понесли огромные потери: не менее 200 тыс. солдат и офицеров убитыми и ранеными, свыше 2000 танков и штурмовых орудий, более 4500 артиллерийских стволов, свыше 53 тыс. автомашин и тягачей, до 1000 бронемашин и бронетранспортёров. Войска Конева, разгромив основные силы 8-й немецкой армии и уничтожив при этом свыше 60 тыс. солдат и офицеров и около 20 тыс. взяв в плен, а также захватив большое количество боевой техники, имущество, ещё в конце марта вышли на госграницу по Пруту, а затем, форсировав его, вступили на территорию Румынии.
Румынский народ встречал советские войска как своих освободителей. Большую роль сыграло заявление Советского правительства от 2 апреля 1944 года о том, что СССР не преследует цели приобретения какой-либо части румынской территории или изменения существующего общественного строя Румынии и что вступление советских войск в пределы Румынии диктуется исключительно военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением войск противника.
Войска 3-го Украинского фронта Малиновского нанесли тяжёлое поражение 6-й немецкой и 3-й румынской армиям. К 14 апреля войска фронта освободили весь левый берег Днестра от Тирасполя до Чёрного моря. С ходу форсировав Днестр, наши войска захватили плацдарм на его западном берегу. Огромную помощь в борьбе с фашистскими полчищами при освобождении Правобережья и Западных областей Украины оказали Красной Армии партизаны. В их отрядах насчитывалось здесь свыше 70 тыс человек.
Сложившаяся тогда в результате наших побед военно-политическая и стратегическая обстановка не оставляла никаких сомнений в том, что гитлеровская Германия идёт к неизбежному краху и что Советский Союз в состоянии один, собственными силами, завершить её разгром и освободить всю Европу. Это-то и вынудило наших союзников в июне 1944 года наконец-то «поспешить» с открытием в Европе второго фронта.
Разгром крымской группировки врага
Как правило, представители Ставки действовали с максимальной пользой. Так что в целесообразности самого института представителей сомнений у ГКО и Ставки не было: речь шла о подготовленности того или иного лица для выполнения подобных заданий.
Командующий Черноморским флотом Филипп Сергеевич Иванов, прошедший путь от пароходного кочегара до адмирала, известный под фамилией Октябрьский и как один из руководителей славной обороны Одессы и Севастополя в 1941-1942 годах.
Огромное военно-политическое и стратегическое значение Крыма объясняет ожесточённый характер борьбы за него на протяжении почти всей Великой Отечественной войны. Враг цеплялся за Крым до последней возможности. Владея им, гитлеровцы могли держать под постоянной угрозой всё Черноморское побережье и оказывать давление на политику Румынии, Болгарии и Турции. Крым служил фашистам также плацдармом для вторжения на территорию Советского Кавказа и стабилизации южного крыла всего фронта. Как известно, в ноябре 1941 года мы вынуждены были оставить большую часть Крыма. Но сражение за главную военно-морскую базу Черноморского флота Севастополь продолжалось. И только в июле 1942 года по приказу Верховного Главнокомандующего войска Приморской армии и корабли Черноморского флота оставили Севастополь.
За время напряжённейших боёв за Севастополь фашисты потеряли убитыми и ранеными около 300 тыс человек, много вооружения и боевой техники.
Начав десантную операцию 1 ноября, корабли Черноморского флота через два дня высадили на Керченский полуостров первый 7 эшелон 56-й армии генерал-лейтенанта К.С. Мельника. Десантники сумели создать северо-восточнее Керчи плацдарм 10 км по фронту и 6 км в глубину.
15 ноября 1943 года И.Е. Петрова на посту командарма Отдельной Приморской армии сменил позднее А.И. Ерёменко, в свою очередь заменённый, уже в ходе Крымской операции К.С. Мельником.
В конце февраля, после освобождения советскими войсками Кривого Рога и выхода их на реку Ингулец, командование 4-го Украинского фронта (Ф.И. Толбухин) получило возможность заняться подготовкой к проведению Крымской операции.
К началу Крымской операции блокированная в Крыму 17-я немецкая армия насчитывала примерно 200 тыс. солдат и офицеров, имела около 3600 орудий и миномётов, 215 танков и штурмовых орудий и 148 самолётов, базировавшихся в Крыму, кроме того фашисты могли использовать части авиации с аэродромов Румынии и Молдавии.
На Чёрном море, в портах Румынии и в Крыму противник имел семь эсминцев и миноносцев, 14 подводных лодок, три сторожевых корабля, три канонерское лодки, 28 торпедных катеров и большое количество катеров-тральщиков, сторожевых катеров, самоходных барж, вспомогательных и транспортных судов.
Войска 4-го Украинского фронтов начали Крымскую наступательную операцию 8 апреля.
Войска Приморской армии пошли в наступление 11 апреля. К этому времени Советские войска, привлечённые к участию в Крымской операции насчитывали около 470 тыс. человек, имели 5982 орудия и миномёта, 559 танков и САУ, 1250 самолётов.
В войсках было до четырёх боекомплектов боеприпасов основных калибров, около пяти заправок ГСМ и более чем на 18 суток продовольствия.
Вечером 11 апреля Москва салютовала доблестным войскам 4-го Украинского фронта, прорвавшим оборону противника на Перекопе и на Сиваше и овладевшим городом Джанкой.
Войска Отдельной Приморской армии к утру 11 апреля полностью освободили Керчь.
В течение 12 апреля 4-й УФ освободил 314 населённых пунктов, 13 апреля вновь взвилось наше знамя над Симферополем, Евпаторией и Феодосией. Враг в панике бежал. Уже 14 и 15 апреля были освобождены Бахчисарай, Судак и Алушта. 15 апреля подвижные части 51-й армии вышли к внешнему оборонительному обводу Севастополя. За отличные боевые действия Верховный Главнокомандующий объявил освободителям Симферополя благодарность, а Москва торжественно салютовала им. В стане врага резче наметилось разложение. Румыны предпочитали сдаваться в плен. Немцы стягивались к Севастополю.
Мы решили начать атаку Севастопольского оборонительного района врага в 14 часов 16 апреля.
7 мая в 10 часов 30 минут утра после полуторачасовой артиллерийской подготовки и при массированной поддержке всей авиации фронта наши войска начали генеральный штурм Севастопольского укреплённого района. Падение Сапун-горы, ключевого пункта фашистской обороны, предрешило взятие Севастополя.
Если взглянуть на карты боевых действий 1855, 1920, 1942 и 1944 годов, легко заметить, что во всех четырёх случаях оборона Севастополя строилась примерно одинаково.
Утром 10 мая последовал приказ Верховного Главнокомандующего: «Маршалу Советского Союза Василевскому. Генералу армии Толбухину. Войска 4-го Украинского фронта, при поддержке массированных ударов авиации и артиллерии, в результате трёхдневных наступательных боёв прорвали сильно укреплённую долговременную оборону немцев. И несколько часов тому назад штурмом овладели крепостью и важнейшей военно-морской базой на Чёрном море – городом Севастополем. Тем самым ликвидирован последний очаг сопротивления немцев в Крыму и Крым полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков».[54]
Далее перечислялось все отличившиеся в боях за Севастополь войска, которые представлялись к присвоению наименования Севастопольских и к награждению орденами.
10 мая столица Родины салютовала доблестным войскам 4-го Украинского фронта, освободившим Севастополь.
Крымская наступательная операция советских войск закончилась 12 мая 1944 года сокрушительным разгромом 200-тысячной 17-й немецкой армии. Вся её боевая техника и припасы оказались в руках советских войск.
250 дней осаждали немецко-румынские войска Севастополь в 1941-1942 годах. Нам же потребовалось лишь 35 дней, чтобы взломать укрепления врага в Крыму; из них ушло только 3 дня, чтобы сокрушить куда более сильную развитую, чем у нас в 1942 году, долговременную оборону под Севастополем и освободить главную базу Черноморского флота.
Перед Белорусской операцией
К лету 1944 года фашистские войска были отброшены на линию Нарва-Псков-Витебск-Кричев-Мозырь-Пинск-Камень-Каширский-Броды-Коломыя-Яссы-Дубоссары-Днестровский лиман. Красная Армия освободила Ленинградскую и Калининскую области, часть Белоруссии, почти всю Украину, часть Молдавии и Крым. На южном участке фронта боевые действия велись на территории Румынии.
К началу летней кампании 1944 года в резерве Ставки находились две общевойсковые, одна танковая и одна воздушная армии, а на доукомплектовании – ряд стрелковых, кавалерийских, танковых, механизированных, артиллерийских и авиационных соединений.
24 апреля 1944 года Западный фронт был переименован в 3-й Белорусский фронт. Гитлеровская клика не допускала мысли, что советские войска смогут наступать по всему фронту. Поэтому свои основные силы враг держал не в Белоруссии, а на юге.
К разработке конкретного оперативного плана проведения Белорусской операции и плана летней кампании 1944 года в целом Генштаб вплотную приступил с апреля.
Для разгрома группы армий «Центр», Ставка считала необходимым привлечь войска 1-го Прибалтийского фронта (командующий генерал армии И.Х. Баграмян), стоявшего западнее Невеля до Западной Двины; 3-го Белорусского фронта (командующий генерал-полковник, затем генерал армии И.Д. Черняховский) – от Западной Двины по Витебской гряде до западных отрогов Смоленской возвышенности; 2-го Белорусского фронта (командующий генерал-полковник, а с 28 июля 1944 генерал армии Г.Ф. Захаров, член военного совета генерал-лейтенант Л.З. Мехлис, затем генерал-лейтенант Н.Е. Субботин – от восточной границы между Витебской и Могилёвской областями до северной границы Гомельской области;
1-го Белорусского фронта (командующий генерал армии, затем Маршал Советского Союза Рокоссовский К.К.) – от Нового Быхова через Жлобин к устью Птичи, затем вдоль Припяти на запад до Ратно и оттуда к Ковелю;
Днепровскую военную флотилию (командующий капитан 1-го ранга, затем контр-адмирал В.В. Григорьев), корабли которой находились на Днепре, Березине и Припяти; наконец, крупные силы партизан, действовавших на территории Белоруссии.
Замыслом предусматривалось окружить и уничтожить немецкие группировки в районе Витебска и Бобруйска, после чего стремительно развивая наступление в глубину, окружить и затем разгромить войска 4-й немецкой армии восточнее Минска, что создало бы благоприятные условия для развития операций всех четырёх фронтов.
Одновременно с подготовкой Белорусской операции Генштаб совместно с командованием Ленинградского и Карельского фронтов разрабатывали наступательные операции на Карельском перешейке и в Южной Карелии.
Жукова и меня несколько раз вызывали в Москву, много раз Верховный Главнокомандующий говорил с нами об отдельных деталях и по телефону. При этом Сталин нередко ссылался на свои переговоры по этим вопросам с командующими войсками фронтов, особенно с Рокоссовским.
Помню, Сталин спросил меня, кого бы я мог порекомендовать на должность командующего 3-м Белорусским фронтом. В качестве командующего 3-м Белорусским фронтом я порекомендовал кандидатуру генерал-полковника И.Д. Черняховского.
20 мая разработанный Генштабом план Белорусской операции был представлен Верховному Главнокомандующему. Вскоре он был рассмотрен в Ставке.
Вместе с Жуковым и Антоновым я неоднократно бывал в те дни у Верховного Главнокомандующего. Каждый раз во время этих встреч мы возвращались к обсуждению деталей плана и проведения Белорусской операции, получивший наименование «Багратион».
30 мая Ставка окончательно утвердила план операции «Багратион».
Конфигурация фронта в Белоруссии представляла собой к тому времени огромный выступ на восток площадью около 250 тыс. кв км, огромной дугой огибавшей Минск. Северный его фас был обращён к Великим Лукам; восточный смотрел с немецкой стороны на Смоленскую и Гомельскую области; южный тянулся вдоль Припяти. Нависая над правым крылом 1-го Украинского фронта, выступ создавал с севера угрозу коммуникациям этого фронта и способствовал обороне фашистских подступов к границам Польши и Восточной Пруссии.
Немцы имели на этом направлении 1200 тысяч солдат и офицеров, 9,5 тыс. орудий и миномётов, 900 танков и штурмовых орудий, 1300 боевых самолётов.
По утверждённому Ставкой плану, операцию «Багратион» решено было начать 19-20 июня.
Было принято решение послать Жукова для координации действий 1-го и 2-го Белорусских, а меня – 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов.
В ночь на 31 мая Сталин, Жуков, я и Антонов отработали в Ставке частные директивы фронтам белорусского направления. 31 мая директивы за подписью Сталина и Жукова были направлены фронтам. Жуков подписал распоряжение Захарову и Рокоссовскому определить срок готовности и начало наступления.
Аналогичное распоряжение за моей подписью посылалось Баграмяну и Черняховскому.[55]
31 мая я встретился в Генштабе с командующим 3-м Белорусским фронтом И.Д. Черняховским. Иван Данилович искренне обрадовался встрече и выразил удовлетворение, что мы с ним вместе будем осуществлять операцию, в которой он впервые будет выступать в качестве командующего фронтом.
В ночь с 16-го на 17 июня, в разговоре по телефону Сталин спросил меня, как он часто делал, не смогу ли я без особого ущерба для выполняемого задания прибыть на 2-3 дня в Москву. Я согласился и уже днём был в столице, а вечером 17 июня вместе с Антоновым встретился с И.В. Сталиным.
Как выяснилось, основным вопросом, ради которого меня вызвали в Ставку явились события на Севере. Войска Ленинградского фронта после ожесточённых боёв на Карельском перешейке, нанеся серьёзное поражение финским войскам, готовились к штурму последнего оборонительного рубежа. Как стало известно, финское командование уже перебросило часть своих сил из Южной Карелии на Карельский перешеек. Немецкое командование, чтобы спасти Финляндию от поражения и обеспечить её дальнейшее участие в войне на своей стороне, вынуждено будет, несмотря на все трудности, усилить этот участок фронта.
Поэтому фактор времени при решении задач, поставленных перед войсками Ленинградского фронта, играл теперь исключительно важную роль. Связавшись по телефону с командующим Ленинградским фронтом Л.А. Говоровым, Сталин заслушал его детальный доклад и дал ему ряд советов и указаний. Тогда же было решено, что после взятия Выборга необходимо будет продолжать наступление и с выходом войск на рубеж Элисенваара-Иматра-Виройоки и освобождением при помощи Балтийского флота Большого Берёзового и других островов Выборгского залива прочно закрепиться на Карельском перешейке и, перейдя там к обороне, сосредоточить основное внимание фронта на участии в боях по освобождению Эстонии.
В тот же вечер в Ставке был рассмотрен вопрос о проведении Карельским фронтом, с участием Онежской и Ладожской военных флотилий Свирско-Петрозаводской операции в Южной Карелии.
Сталин по телефону заслушал доклад командующего фронтом Мерецкова о готовности войск и подчеркнул, что благодаря успешным действиям войск Ленинградского фронта у Карельского фронта создались более благоприятные условия для выполнения задачи и потребовал начать операцию не позднее 21 июня.
Затем он попросил Антонова доложить о последних событиях в Нормандии. Войска союзников после высадки продвигались крайне медленно. Им удалось объединить в один лишь три небольших плацдарма и несколько расширить его в сторону полуострова Котантен.
Мы приходили к выводу, что, когда Красная Армия начнёт Белорусскую операцию и продолжит успешное наступление против Финляндии, гитлеровское командование перебросит часть войск с Западного фронта на Восточный.
Заслушав на следующий вечер мой краткий доклад о ходе подготовки 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского к выполнению поставленных задач, Сталин остался доволен и особенно остановился на использовании 5 ГТА на фронте у Черняховского.
В дни моего пребывания в Москве Жуков попросил у Ставки разрешения начать операцию 1-го Белорусского фронта не 23, а 24 июня.
Сталин спросил о моём мнении. Я сказал, что считаю такое предложение для фронтов нашего направления целесообразным, поскольку оно позволяет в ночь на 23 июня, перед началом операции 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, использовать здесь АДД, направленную к Рокоссовскому.
Сталин согласился с этим и добавил, что мы с Черняховским упускаем из виду ещё одну выгодную деталь: 3-й Белорусский фронт выигрывает в этом случае лишние сутки.
За землю Белорусскую
На 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах операция началась 23 июня. 26 июня Витебск был очищен от фашистов. Ставка не забывала ни одного фронта – присвоение более высоких званий проводилось по всей Красной Армии. В те дни стал Маршалом Советского Союза К.К. Рокоссовский. Войска его фронта как раз в тот день освободили Бобруйск, а затем ликвидировали в «бобруйском котле» окружённую группировку врага.
27 июня И.Д. Черняховскому было присвоено звание генерала армии.
27 июня Орша была очищена от фашистов.
Армия Белобородова и Чистякова взяла 28 июня Лепель. 1 июля в Борисов ворвались войска 3-го Белорусского фронта: 11-я гвардейская, 31-я армии и 5-й гвардейская танковая армия.
3 июля войска 3-го и 1-го Белорусских фронтов встретились в центре Минска. Восточнее, теснимые войсками 2-го Белорусского фронта, оказались в очередном «котле» основные силы группы армий «Центр». В результате 12 июля враг полностью капитулировал. Около 35 тысяч человек было взято в плен, а с ними – вся техника, снаряжение и тылы 4-й немецкой армии. В плен попали 12 генералов-командиров корпусов и дивизий, а также большая группа офицеров.
16 июля через Минск под восторженные возгласы горожан, прошли победным маршем партизаны.
Освобождением Минска и Полоцка завершился первый этап борьбы за Белоруссию.
Стремясь использовать выгодно сложившуюся для нас обстановку, 4 июля Верховное Главнокомандование в директиве 1-го и 2-го Прибалтийских и всех Белорусских фронтов уточняло их дальнейшие задачи.
Итак, проводимая войсками фронтов операция получала ещё более широкие масштабы. Фронты центрального стратегического направления ещё в процессе завершения Белорусской операции приступили к очищению от врага Латвийской и Литовской союзных республик. В ходе этой операции советские войска вышли на Вислу и Нарев. Красная Армия начала изгнание фашистов с территории Польши. Советские воины перешагнули границу с Восточной Пруссией.
30 лет прошло после того, как русские солдаты проходили здесь под огнём тяжёлых немецких орудий. И вот Восточная Пруссия снова услышала русскую речь. На запад шли бойцы великой страны Советов, воины-освободители, борцы с фашизмом, несшие свободу народам Европы.
Я продолжал координировать действия войск Баграмяна и Черняховского, когда получил от Верховного Главнокомандующего указание в ближайшее время принять на фронте, в удобном для меня месте, главу военной миссии Великобритании в СССР генерала Бэрроуза и главу военной миссии США генерала Дина. Цель их прибытия ко мне как к начальнику Генштаба Красной Армии состояла в том, чтобы подробно информировать меня о ходе операции американо-английских войск в Нормандии и непосредственно на фронте ознакомиться с развитием наступления советских войск в Белоруссии.
Моя встреча с ними состоялась в штабе 3-го Белорусского фронта, в лесу, вблизи станции Красная: с Бэрроузом 6 июля, с Дином – несколькими днями позже. В честь глав военной миссии Великобритании и США командующий фронтом дал обед. Во время бесед мы обменялись мнениями о боевых действиях.
По договорённости с Черняховским для них были организованы выезд на один из участков фронта и встреча с находившимися в расположении фронта немецкими генералами, захваченными в плен.
В эти же дни с Верховным Главнокомандующим был решён вопрос о подключении к операции на севере войск не только 2-го, но 3-го Прибалтийских фронтов, а на юге – 1-го Украинского фронта.
По решению Ставки 2-й Прибалтийский фронт должен был перейти в наступление 10 июля, нанося удары на Резекне и совместно с войсками 1-го Прибалтийского фронта на юг. 3-му Прибалтийскому фронту предписывалось перейти в наступление 17 июля; прорвать оборону врага и овладеть Псковом.
Переход 1-го Украинского фронта в наступление было решено начать 13 июля с тем, чтобы, используя успех 1-го Белорусского фронта, нанести решительный удар по немецко-венгерским войскам, входившим в группу «Северная Украина», освободить от оккупантов Западные районы Украины.
Тогда же было принято решение, что на севере 26 июля возобновит наступление Ленинградский фронт на нарвском направлении.
Совместно с 3-м Прибалтийским фронтом он будет развивать наступление на территорию Эстонии.
В ночь на 10 июля во время телефонного разговора Сталин подтвердил, что с утра войска Ерёменко, выполняя указания Ставки, перейдут в наступление, а так как при этом они неизбежно будут тесно взаимодействовать с войсками Баграмяна, то в связи с этим, сообщил он, Ставка решила координацию войск 2-го Прибалтийского фронта возложить также на меня. Действия войск 2-го и 1-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов координировал Маршал Советского Союза Жуков.
Таким образом, Советские войска в середине июля 1944 года развернули наступление на фронте от Балтики до Карпат.
Борьба за Прибалтику[56]
13 июля 1944 года старый Вильнюс встретил советские войска. Передовые соединения ушли на 90 км. Западнее, приближались к Неману. До конца июля войска 3-го Белорусского фронта вели бои за упрочение плацдармов на западном берегу Немана. Их поддерживала с воздуха авиация 1-й воздушной армии. Отлично проявил себя здесь 1-й отдельный истребительный авиаполк «Нормандия» под командованием майора Луи Дельфино, сформированный из французских патриотов и получивший наименование Неманский.
Последняя декада июля ознаменовалась рядом крупных успехов Красной Армии
Войска 1-го Украинского фронта разгромили фашистскую группировку под Бродами, освободили Львов, Перемышль, Станислав, форсировали Вислу и захватили сандомирский плацдарм.
Армии 1-го Белорусского фронта форсировали Западный Буг, освободили Брест, Хелми, Люблин, затем вышли к Варшаве, форсировали Вислу и захватили Магнушевский и Пулавский плацдармы.
Войска 2-го Белорусского фронта освободили Белосток.
3-й Белорусский фронт подступил к Каунасу.
Войска 1-го Прибалтийского фронта овладели Паневежисом, Шауляем, Митавой (Елгавой) и совместно со вторым Прибалтийским фронтом – Двинском (Даугавпилсом).
Войска 2-го Прибалтийского фронта взяли Резекне и подступили к Лубанской низменности.
Армии 3-го Прибалтийского фронта овладели Островом, Псковом; войска Ленинградского фронта взяли Нарву.
Верховное Главнокомандование издало фронтам частные директивы. Заложенные в них идеи заключались в том, чтобы ещё до осени создать предпосылки окончательного освобождения Прибалтики и удара по Восточной Пруссии, упрочить положение в Польше и подготовиться к освобождению Закарпатской Украины.
В связи с тем, что к наступлению подключались новые фронты, 29 июля директивой Ставки Жукову было поручено не только координировать действия, но и руководить операциями 2-го, 1-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов; я должен был не только координировать действия, но и руководить операциями, проводимыми 2-м и 1-м Прибалтийскими и 3-м Белорусским фронтами. Это была новая форма управления фронтами со стороны Ставки. Она осуществлялась ряд месяцев, и использование её говорило о гибкости ВГК.
Мне этот опыт весьма пригодился, когда я был назначен Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке.
30 июля в Восточных Карпатах был образован 4-й Украинский фронт, ликвидированный после освобождения Крыма. В его задачу входило овладение Ужгородом, Мукачёво и выход на стык Венгрии и Словакии. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник И.Е. Петров.
Теперь войска 1-го Украинского фронта могли всё внимание уделить освобождению Польши, направляясь затем на Моравию и Силезию.
2 августа 2-й и 3-й Украинские фронты получили указания ускорить подготовку Ясско-Кишинёвской операции. Таким образом, Красная Армия готовилась к наступлению от Балтики до Чёрного моря на всех направлениях и почти одновременно. Такого история второй мировой войны ещё не знала.
В результате поражения финских войск на Карельском перешейке и в Южной Карелии Финляндия 5 сентября вышла из войны. Поражение румынских войск и вспыхнувшее затем в Румынии восстание заставили румынских правителей заявить 23 августа о выходе из войны и через два дня объявить войну Германии. 8 сентября вышла из войны Болгария, в тот же день объявившая войну Германии. В центре советско-германского фронта наши войска стояли перед Восточной Пруссией, на Висле и в Карпатах.
Прибалтийская стратегическая операция включала в себя четыре фронтовые-
— Рижскую (с 14 по 27 сентября),
— Таллинскую( с 17 по 26 сентября),
Моонзундскую (с 30 сентября по 24 ноября) и Мемельскую (с 5 по 22 октября).
Практически же до самого нового года я почти не покидал Прибалтику, всецело занятый её делами. Отлучался только для участия в разработке новых стратегических операций. Осенью наши войска в Прибалтике, перегруппировываясь и пополняясь, готовились к разгрому немецкой группы армий «Север». Общее наступление должно было начаться 14 сентября. Четырём нашим фронтам противостояли на участке от Немана до эстонского побережья свыше 730 тыс. вражеских солдат и офицеров (56 дивизий и 3 механизированных бригады), 7 тыс. орудий и миномётов, 1216 танков и штурмовых орудий, 400 боевых самолётов. С нашей стороны действовали 900 тыс. человек, до 17500 орудий и миномётов, более 3 тыс. танков и САУ, свыше 2600 самолётов (вместе с АДД и морской — около 3500 самолётов). С моря операцию поддерживал и участвовал в ней Краснознамённый Балтийский флот. В середине сентября забушевала с нарастающей силой стальная метель.
15 октября вновь стала свободной советская Рига. Немногим удалось выбраться с Курземского полуострова. Надёжно заблокировав вражеские войска, мы не тратили на них порох, не несли жертв: предоставили их самим себе, пока группировка не капитулировала. 13 января 1-й, 2-й Прибалтийские фронты перешли к жёсткой обороне.
Весной 45-го в Восточной Пруссии
Восточная Пруссия давно была превращена Германией в главнейший стратегический плацдарм для нападения на Россию и Польшу. С этого плацдарма было совершено нападение на Россию в 1914 году. Отсюда кайзеровские войска пытались нанести удар по Петрограду в 1918 году. Отсюда двинулись фашистские полчища в 1941 году.
Здесь в глубоких подземных убежищах под Растенбургом вплоть до 1944 года располагалась ставка Гитлера, прозванная самими фашистами «Волчья яма».
Общая глубина инженерного оборудования достигла здесь 150-200 км. Особенно сильно была развита в инженерном отношении оборона на основном для нас направлении – Гумбиннен, Инстербург, Кенигсберг.
К середине января 1945 года в группу армий «Север» входили 43 дивизии противника и 1 бригада общей численностью в 580 тыс. солдат и офицеров и 200 тыс. фольксштурмовцев. Они имели 8200 орудий и миномётов, 700 танков и штурмовых орудий, 775 самолётов 6-го воздушного флота.
Началась Восточнопрусская операция 13 января 1945 года войсками 3-го Белорусского фронта (командующий генерал армии Черняховский) и 14 января – 2-го Белорусского фронта (командующий Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский). Общая численность участвовавших в операции наших войск составляла более 1 млн. 600 тыс. человек, имевших на вооружение 25426 орудий и миномётов, более 3800 танков и САУ и свыше 3000 самолётов. Таким образом на восточно-прусском направлении и в Северной Польше наши войска превосходили противника в живой силе в 2,1 раза, в артиллерии — в 3,1, в танках в 5,5, в самолётах – в 4 раза.
Восточнопрусскую группировку гитлеровцев нужно было разгромить во что бы то ни стало, ибо это освобождало армии 2-го Белорусского фронта для действий на основном направлении и снимало угрозу флангового удара из Восточной Пруссии по прорвавшимся на этом направлении советским войскам.
Общая цель операции заключалась в том, чтобы отсечь армии группы «Центр», оборонявшиеся в Восточной Пруссии, от остальных фашистских сил, прижать их к морю, расчленить и уничтожить по частям, полностью очистив от врага территорию Восточной Пруссии и Северной Польши. Успех такой операции в стратегическом отношении был исключительно важен и имел значение не только для общего наступления советских войск зимой 1945 года, но и для исхода Великой Отечественной войны в целом.
12 ноября 1944 года Жукова назначили командующим 1-м Белорусским фронтом, Рокоссовского – 2-м Белорусским. Руководство операциями всех Белорусских фронтов, а следовательно, руководство подготовкой и проведением Восточнопрусской операции перешло непосредственно к Верховному Главнокомандующему. Замечу попутно, что Восточнопрусская операция по расходу боеприпасов вообще не имела себе равных среди всех операций в истории войны.
Два фронта получили 13,3 млн. снарядов и мин, 620 млн. патронов, 2,2 млн. ручных гранат.
Только за 13-14 января войска 3-го Белорусского фронта израсходовали более 1000 вагонов основных номенклатур боеприпасов. Всего же оба фронта израсходовали более 15тыс. вагонов боеприпасов. Для перегрузки их из вагонов и подачи в войска потребовалось (в пересчёте на 2,5 –тонные автомашины) около 100 тыс. автомобилей.
Войска 2-го Белорусского фронта, выйдя к заливу Фришесхафф, отделённому косой от Данцигской бухты, и войска 3-го Белорусского фронта, выйдя к морю севернее и южнее Кёнигсберга, отрезали Восточнопрусскую группировку от остальных немецко-фашистских сил и расчленили уцелевшие от разгрома войска группы армий «Север» на три части.
Одновременно 1-й Прибалтийский фронт, обеспечивавший с севера действия 3-го Белорусского фронта, овладел 28 января крупным морским портом Мемель (Клайпеда). Таким образом противник почти полностью лишился возможности наносить удары из Восточной Пруссии по советским войскам, наступавшим на берлинском направлении.
Противник нёс тяжёлые потери. На первом этапе Восточнопрусской операции в плен было взято до 52 тыс. солдат и офицеров, захвачено много вооружения и боевой техники. Красная Армия освободила из восточнопрусских концентрационных лагерей до 68 тыс. граждан стран Европы.
В связи с тем, что Ставка в начале февраля приняла решение о переходе Прибалтийских фронтов к временной обороне, а Сталин и Антонов отбыли на Ялтинскую конференцию глав великих держав, мне было приказано возвратиться к выполнению обязанностей начальника Генштаба и заместителя наркома обороны.
Руководство операциями Прибалтийских фронтов было возложено на командующего Ленинградским фронтом Л.А. Говорова.
10 февраля начался второй этап боевых действий советских войск в Восточной Пруссии — ликвидация изолированных группировок немецко-фашистских войск.
В ночь на 18 февраля Верховный Главнокомандующий после моего сообщения о положении дел в Восточной Пруссии порекомендовал мне выехать туда для помощи войскам и командованию, подчеркнув, что быстрейшая ликвидация врага в Восточной Пруссии позволила бы нам за счёт войск 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, во-первых, усилить основное, берлинское, направление и, во-вторых, освободить необходимую часть войск для подготовки их к переброске на Дальний Восток. Он посоветовал мне заранее наметить для этой цели две-три лучшие армии и предупредил, что через 2-3 месяца после капитуляции Германии я могу быть послан для руководства боевыми действиями на Дальнем Востоке.
(Забегая вперёд, скажу, что действительно две из трёх общевойсковых армий, направленных в мае-июне 1945 года с Запада на Восток (5-я и 39-я), были взяты из состава войск, действовавших в Восточной Пруссии).
Приняв рекомендацию отправиться на работу в Восточную Пруссию, я попросил освободить меня от должности начальника Генштаба, мотивируя это тем, что сейчас большую часть времени я стал находиться непосредственно на фронте, выполняя задания Ставки, а в Москве бываю лишь по вызовам. Я предложил утвердить в этой должности фактически исполнявшего её А.И. Антонова, оставив за мной лишь должность заместителя наркома обороны.
Помню, Сталин с удивлением спросил:
— А разве вас не обидит такое решение?
Услышав мои ответ, он обратился к находившемуся здесь же Антонову и поинтересовался, как он относится к моему предложению. Алексей Иннокентьевич сказал, что не разделяет его. Сталин пообещал подумать, а пока подписал директиву Ставки, согласно которой я, как её представитель, обязан был взять на себя с 22 февраля руководство боевыми действиями 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов.[57]
В заключение Сталин спросил, когда я смогу отправиться на фронт. Я назвал следующий день. Верховный разрешил мне два дня побыть с семьёй, сходить в театр, а 19-го вечером накануне отъезда просил вновь зайти к нему.
Разговор происходил ночью. А днём 18 февраля пришло известие, что в районе города Мельзак смертельно ранен И.Д. Черняховский. Я узнал о смерти Ивана Даниловича, находясь в Большом театре. Во время спектакля ко мне подошёл мой адьютант П.Г. Копылов и сказал, что меня просит к телефону Верховный Главнокомандующий. Он-то и сообщил мне эту горестную весть и сказал, что Ставка намерена поставить меня во главе 3-го Белорусского фронта.
В правительственном извещении говорилось: «18 февраля скончался от тяжёлого ранения, полученного на поле боя в Восточной Пруссии, командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии Черняховский Иван Данилович – верный сын большевистской партии и один из лучших руководителей Красной Армии. В лице товарища Черняховского государство потеряло одного из талантливейших молодых полководцев, выдвинувшихся в ходе Великой Отечественной войны».
Наше первое знакомство с Черняховским состоялось в январе 1943 года, при подготовке и проведении Воронежско-Касторненской операции. Черняховский командовал тогда 60-й армией. Начав довольно робко свою первую наступательную армейскую операцию, он, быстро овладев собой и взяв в руки армию, блестяще выполнил поставленную задачу, освободив в первый же день Воронеж. Ещё более блистательным результатом оперативного руководства со стороны молодого командарма явились боевые действия его армии при взятии Курска: город был взят в течение суток.
20 февраля я прибыл в Восточную Пруссию в штаб 3-го Белорусского фронта и 21 февраля вступил в командование.
Хочу отметить особенно тёплые отношения с начальником Главного политического управления Красной Армии А.С. Щербаковым. Сталин очень доверял Щербакову. Материалы согласованные с Александром Сергеевичем или завизированные им, он подписывал без задержки. Бывало позвонит Щербаков и скажет: -Александр Михайлович, товарищ Сталин занят по горло делами, и я вряд ли попаду к нему. Поэтому я пришлю вам папку со срочными делами, будьте добры – доложите.
Когда я начинал докладывать главпуровские документы, Сталин иногда спрашивал меня:
— Вы, товарищ Василевский, переговорили с Щербаковым и знакомы с этими документами?
— Я не открывал папку, — как правило отвечал я. Но Сталин уже подписывал со словами:
— Ему можно верить.
Вечером 19 февраля перед отъездом на фронт я был у Верховного Главнокомандующего. Он дал мне ряд советов и указаний, касающихся предстоящей работы. Прощаясь, пожелал мне и войскам победы и успехов.
В приёмной А.Н. Поскрёбышев вручил мне два пакета. В одном из них лежал приказ Ставки от 18 февраля о моём назначении с 21 февраля командующим войсками 3-го Белорусского фронта. Во втором пакете я обнаружил документ, который был для меня неожиданным, — постановление ГКО о том, что во изменение постановления ГКО от 10 июля 1941 года Ставка Верховного Главнокомандования Вооружённых Сил утверждается в следующем составе: Верховный Главнокомандующий и нарком обороны Маршал Советского Союза Сталин И.В., заместитель наркома обороны Маршал Советского Союза Жуков Г.К., заместитель наркома обороны Маршал Советского Союза Василевский А.М., заместитель наркома обороны генерал армии Булганин Н.А., начальник Генерального штаба генерал армии Антонов А.И., главком Военно-Морского флота адмирал флота Кузнецов Н.Г. Недоумевая, я спросил Поскрёбышева, чем вызвано это постановление? Ведь на протяжении почти всей войны я, будучи начальником Генштаба и заместителем наркома обороны, членом Ставки официально не состоял. Не были членами Ставки ни один из командующих фронтами, за исключением Г.К. Жукова. Поскрёбышев, улыбнувшись, ответил, что он знает об этом ровно столько же, сколько и я.
Ставка ВГК приняла 21 февраля решение передать войска, действовавшие в Восточной Пруссии 3-му Белорусскому фронту, возложив на него в дальнейшем ответственность за ликвидацию всех находившихся там соединений противника. В соответствии с этим решением 1-й Прибалтийский фронт с 24 часов 24 февраля 1945 года упразднился, а его войска, переименованные в Земландскую группу, включались в состав 3-гоБелорусского фронта. Генерал армии Баграмян был назначен командующим Земландской группой войск и одновременно заместителем командующего 3-м Белорусским фронтом.
До конца февраля шли напряжённые бои. Гитлеровские войска и с ними отряды СД (служба безопасности при рейхсфюрере СС), СА (штурмовики), ССФТ (военные группы охранников) ожесточённо сопротивлялись. Советские войска несли серьёзные потери.
Между тем в составе группы армий «Север», оборонявшей Восточную Пруссию, всё ещё насчитывалось около 30 дивизий, из них 11 оборонялись на Земландском полуострове и в Кёнигсберге, а 19 – южнее и юго-западнее Кёнигсберга.
20 дней, с 22 февраля по 12 марта, войска готовились к наступлению. Принимались все меры к тому, чтобы пополнить боевой состав частей, накопить боеприпасы.
В ходе двухнедельных боёв были разгромлены гитлеровцы, занимавшие Хейльсбергский укрепрайон, было уничтожено более 93 тыс. и взято в плен 46 тыс. немецких солдат и офицеров, захвачено 600 танков и штурмовых орудий, 3560 полевых орудий, 1440 миномётов, 128 самолётов[58].
На очередь дня стала задача разгрома кёнигсбергской группировки врага. В гарнизоне Кёнигсберга было около 130 тыс. солдат, почти 4 тыс. орудий и миномётов, более 100 танков и штурмовых орудий. На аэродромах Земландского полуострова базировалось 170 самолётов. По распоряжению коменданта крепости был построен аэродром прямо в городе.
Ставка предоставила фронту дополнительные, наиболее мощные средства подавления из резерва ВГК. К началу штурма фронт имел 5000 орудий и миномётов, 47 % от них составляли орудия тяжёлые, затем большой и особой мощности – калибром от 203 до 305 мм.
Для обстрела наиболее важных целей, а также для того, чтобы не дать противнику эвакуировать войска и технику по Кенигсбергскому морскому каналу, предназначались 5 морских железнодорожных батарей (11-130 мм и 4-180 мм орудия, последние с дальностью стрельбы до 34 км). Наступавшим на город наземным войскам помогали выделенные в подчинение командирам стрелковых дивизий орудия крупных калибров (152 и 203-мм) и 160-мм миномёты. Для разрушения особопрочных зданий, построек и инженерных сооружений создавались дивизионные и корпусные группы, которым была придана особой мощности реактивная артиллерия.
В штурме Кёнигсберга участвовало 2500 самолётов. Ни днём, ни ночью не прекращали они своих действий. Общее руководство авиацией осуществлял командующий ВВС главный маршал авиации А.А. Новиков.
6 апреля установилась ясная погода. После мощной артиллерийской подготовки начался штурм. К исходу четвёртых суток (10 апреля) непрерывных боёв Кёнигсберг пал.
На допросе в штабе фронта комендант Кёнигсберга генерал Лаш говорил: «Под Кёнигсбергом мы потеряли всю 100-тысячную армию. Потеря Кёнигсберга – это утрата крупнейшей крепости и оплота на Востоке».
Гитлер в бессильной ярости приговорил Лаша заочно к смертельной казни. В городе и пригородах советскими войсками было захвачено около 92 тыс. пленных (в том числе 1800 офицеров и генералов), свыше 3,5 тыс. орудий и миномётов, около 1300 самолётов и 90 танков, множество автомашин, тягачей и тракторов, большое количество различных складов со всевозможным имуществом. После взятия Кёнигсберга в Восточной Пруссии оставалась только Земландская группировка врага, имевшая в своём составе 8 пехотных и одну танковую дивизии. 11 апреля я вновь обратился к вражеским войскам с предложением прекратить безнадёжное сопротивление. Ответа на обращение не последовало и утром 13 апреля наши войска возобновили наступление.
Личный представитель Гитлера гаулейтер Кох на ледоколе, всю зиму простоявшем наготове в Пиллау (Балтийске), удрал с Земланда в Данию, приказав солдатам биться до последнего. 25 апреля войска 3-го Белорусского фронта при активном участии Балтийского флота овладели крепостью и портом Пиллау (Балтийск) – последним опорным пунктом врага на Земландском полуострове.
Во время боевых действий в Восточной Пруссии на направлении 3-го Белорусского фронта было уложено, восстановлено и перешито 552 км главных и станционных путей, восстановлено и введено в действие 64 моста, 5 железнодорожных узлов и 6 пунктов водоснабжения.
Решением Потсдамской конференции глав союзных держав по антигитлеровской коалиции Кёнигсберг и прилегающие к нему районы переданы Советскому Союзу. 25 февраля 1947 года Контрольный совет в Германии, учреждённый державами-победительницами как орган верховной власти в этой стране, единогласно от имени США, Англии, Франции и СССР принял закон о ликвидации Прусского государства. А город Кёнигсберг – бывшая столица прусских королей – носит теперь имя славного ветерана Ленинской гвардии Михаила Ивановича Калинина – Калининград.
На восточно-прусской границе встретил 22 июня 1941 года войну командир 28-й танковой дивизии полковник Черняховский. Здесь после трёх с половиной лет борьбы за освобождение Родины от фашистского агрессора он отдал свою жизнь. Ныне имя дважды Героя Советского Союза Черняховского носит бывший Инстербург, над которым 22 января 1945 года взвилось красное знамя черняховцев.
О Берлинской операции написано немало исследований и мемуарных книг. В результате операции была разгромлена группировка насчитывавшая около 1 млн. немецких солдат и офицеров. Размышляя над ходом Берлинской операции, я отмечаю в ней ряд характерных особенностей. Прежде всего краткий срок подготовки – всего две недели. Вспомним, что такие операции, как Сталинградская, Белорусская, Ясско-Кишинёвская, Висло-Одерская готовились не менее одного-двух месяцев. Второй особенностью этой операции является оригинальность положенного в её основу стратегического замысла. Войска трёх фронтов – 2-го Белорусского (К.К. Рокоссовский), 1-го Белорусского (Г.К. Жуков) и 1-го Украинского (И.С. Конев) наносили одновременно шесть ударов на 300-километровом фронте. Гитлеровские армии были скованы сразу на всём одерско-нейссенском оборонительном рубеже. В начале операции немецкие войска не были охвачены со всех сторон. И тем не менее манёвр на окружение был проведён и доведён до конца. На различных этапах Берлинской операции с нашей стороны в сражениях участвовали 4 танковые армии, 10 отдельных танковых и механизированных корпусов, 16 отдельных танковых и самоходно-артиллерийских бригад, свыше 80 отдельных танковых и самоходно-артиллерийских полков.
Верховное Главнокомандование взяло управление фронтами целиком на себя, непосредственно из Москвы.
В Генеральном штабе
Переход мой со штабной на командную работу в феврале 1945 года, как я уже отмечал, был обусловлен гибелью И.Д. Черняховского, хотя освобождение меня от обязанностей начальника Генштаба произошло не без моей просьбы.
Верховный Главнокомандующий легко дал согласие на это, по-видимому, потому что Генеральный штаб к тому времени уже имел у себя, в лице А.И. Антонова, кандидата на эту должность, вполне подготовленного, прошедшего хорошую штабную школу и заслужившего за последние полтора года своей работы в должности первого заместителя начальника Генштаба высокий авторитет не только в Вооружённых Силах, но и в Центральном Комитете партии, в ГКО и Ставке.
Во-вторых, по-видимому, потому, что война уже приближалась к своему победному концу. Успех же на завершающем её этапе прежде всего зависел от выполнения запланированных и уже разрабатываемых в Ставке и Генштабе операций, особенно Берлинской, с целью разгрома здесь главной группировки войск врага.
Когда Сталин предложил мне принять командование войсками 3-го Белорусского фронта, я охотно согласился. Сознаюсь, я имел в виду и возможность проверить себя на непосредственном командовании войсками фронта при решении столь серьёзных задач. Склонен думать, что Сталин также предполагал нечто подобное, поскольку ещё предстояла война против милитаристской Японии.
С большим сожалением я расставался тогда с замечательным коллективом Генштаба после почти восьмилетней работы в нём. Так вот, оказывается из 34 месяцев войны12 месяцев я работал непосредственно в Генштабе и 22 – на фронтах, выполняя задания Ставки.
Безусловно, нельзя отрицать при этом того, что, часто выезжая на фронт и находясь там, я, как, начальник Генштаба, не мог принимать непосредственного участия в решении вопросов, над которыми обязан был работать аппарат Генштаба. И это немало беспокоило меня, беспокоило и потому, что я остро чувствовал и воспринимал ту довольно жёсткую, не дававшую каких-либо скидок требовательность, которую предъявлял ко мне Верховный Главнокомандующий почти каждый раз за те или иные упущения или промахи в работе Генштаба. Поэтому я, будучи в отрыве от Генштаба, принимал все меры к тому, чтобы обеспечить себе возможность для более эффективного руководства его работой.
Учитывая порою крайне слабую укомплектованность его руководящими кадрами, вынужден был неоднократно докладывать о своём беспокойстве за Генштаб Ставке ВГК. Однако Сталин несколько проще относился к этому моему беспокойству. Вспоминается хотя бы такой мой разговор с ним на эту тему. Он произошёл в декабре 1942 года, когда с руководящими кадрами в Генштабе было особенно плохо. Назначенные по моей просьбе в том году моими заместителями Н.Ф. Ватутин, а затем и П.И. Бодин, проработав лишь несколько месяцев, решением Ставки были направлены первый командовать войсками Воронежского фронта, а второй начальником штаба Сталинградского, а затем Закавказского фронтов, то есть в обоих случаях туда, где обстановка была наиболее острой.
Перед тем, как выехать на фронт под Сталинград, я вновь обратился к Сталину с просьбой усилить Генштаб руководящими кадрами. В данном случае я просил назначить начальником Оперативного управления и моим первым заместителем по Генштабу поступавшего в моё распоряжение бывшего начальника штаба Закавказского фронта генерал-лейтенанта А.И. Антонова. Ответ Сталина был характерен и запомнился мне:
— Напрасно вы так озабочены работой Генштаба. Главное сейчас для Ставки, для Генштаба, да и для всех – это успешное выполнение проводимых и намеченных нами операций, на них и должно быть сосредоточено всё ваше внимание, сюда должно быть направлено и основное внимание Генштаба, к тому же всё важнейшее по ним Генштабом уже сделано, а с остальными канцелярскими делами мы как-нибудь справимся и без вас, а когда вы будете необходимы здесь как начальник Генштаба при решении новых задач, то не беспокойтесь, мы вас не забудем и пригласим. Если же у Генштаба в процессе его работы встанут какие-либо серьёзные затруднения и появится необходимость помочь ему, то думаю, что вы сможете это сделать и находясь н фронте. А в основном сейчас не вы должны помогать генштабу, а Генштаб вам.
Но я всё же получил тогда согласие Сталина на назначение в Генштаб Антонова, хотя Сталин лично его не знал. Всякий раз, когда по решению Ставки начальник Генштаба отправлялся на фронт для участия в подготовке, а в дальнейшем и в проведении операции, для него на одном из фронтов, действия которых он обязан был координировать, организовывался командный пункт. Пункт всегда имел мощный узел связи, обеспечивающий устойчивую постоянную линейную и радиосвязь с Москвой-Ставкой, Генштабом, органами наркомата обороны, с правительством и другими наркоматами, а через узел связи Генштаба и со всеми другим фронтами и армиями и со штабами военных округов на территории страны.
Приблизительно к лету 1942 года относится решение Ставки ВГК, обязывающее ввести личные радиостанции командиров корпусов и дивизий и командующих фронтов и армий, по которому, где бы ни был командующий или командир, личная радиостанция всегда должна была находиться при нём, а вместе с радистами на радиостанции обязательно должны были быть офицер оперативного отдела и шифровальщик.
Большую помощь в деле руководства работой Генштаба в мою бытность на фронте оказывали мне систематические приезды ответственных работников Генштаба. Эти их выезды на фронт, практиковавшиеся до февраля 1945 года, проводились по их инициативе с моего разрешения или по моему вызову, а иногда и по указаниям Ставки ВГК. Как правило основными причинами таких посещений являлись доклады о разрабатываемых Генштабом проектах или указаниях, подлежащих утверждению Ставкой, или проектах руководящих директив или указаний, исходящих от Генштаба в войска, а также рассмотрение и других вопросов работы Генштаба, в том числе укомплектования или перемещения кадров нам.
Одновременно при отъезде на фронт в помощь мне направлялась от Генштаба группа хорошо подготовленных офицеров. Эта группа оказывала мне огромную помощь. Немалую помощь мне и другим представителям Ставки оказывали работавшие при штабах фронтов, армий, отдельных корпусов, а иногда и дивизий постоянные представители Генштаба.
Это командиры так называемого «корпуса офицеров Генерального штаба» давали нам, представителям Ставки, и одновременно и Генштабу немало дополнительных, очень ценных и наиболее объективных сведений о ходе боевой обстановки, о противнике, о положении и состоянии своих войск, об их обеспеченности всем необходимым для выполнения поставленных перед ними задач.
Большую пользу, нам ответственным представителям Ставки, оказывали назначаемые каждый раз Ставкой представители от родов войск. Вместе со мной в большинстве случаев работали: от ВВС – начальник штаба и заместитель Главкома ВВС Ф.Я. Фалалеев, заместитель командующего артиллерией Красной Армии М.Н. Чистяков, командующий БТ и МВ Я.Н. Федоренко или его заместитель.
Рассматривая роль представителей Ставки при проведении той или иной операции, должен отметить ту огромную помощь, которую мы получали, работая на фронте от ВГК. Уже одно то, что Ставка требовала от нас ежесуточно к 24 часам телеграфных отчётов о своей деятельности на фронте, обязывало нас иметь с ней самую прочную и непрерывную связь. Но этими донесениями наша связь с ВГК, особенно у Жукова и у меня, далеко не исчерпывалась. Лично я телефонные разговоры со Сталиным часто вёл по нескольку раз в сутки. Их содержанием было обсуждение хода выполнения заданий Ставки на тех фронтах на которых в данный момент мы её представляли, рассмотрение военных действий на остальных фронтах, целесообразности подключения к проводимой операции соседних фронтов или организации новых мощных ударов по врагу на других стратегических направлениях; обсуждались также вопросы состояния и использования имеющихся резервов ВГК, создания новых крупных резервов, боевого и материального обеспечения войск, назначения или перемещения руководящих кадров в Вооружённых Силах.
Касаясь вопросов связи со Сталиным, не преувеличу, если скажу, что, начиная с весны 1942 года и в последующее время войны я не имел с ним телефонных разговоров лишь в дни выезда его в первых числах августа 1943 года на встречи с командующими войсками Западного и Калининского фронтов и в дни его пребывания на Тегеранской конференции глав правительств трёх держав (с последних чисел ноября по 2 декабря 1943 год).
Ответственный представитель Ставки всегда назначался Верховным Главнокомандующим и подчинялся лично ему. Но как только он получал указания и задачу на выезд в войска, он, как правило отправлялся в Генштаб, чтобы ознакомиться со всеми сведениями, необходимыми для успешной работы. В Генштабе он детально изучал замысел операции, план проведения её по этапам, задачи, которые предстояло решать тем фронтам, на которые он направлялся, знакомился с задачами соседних фронтов.
От Генштаба представитель Ставки получал всё необходимое для организации его командного пункта (обеспечение со средствами связи, подбор рабочего аппарата), то есть всё то, от чего во многом зависела его плодотворная работа в войсках. Для изучения этих вопросов в Генштаб приходили почти все представители Ставки, но, пожалуй, наиболее активным в этом был Г.К. Жуков. Он, не считаясь с тем, что являлся заместителем Верховного Главнокомандующего, не уходил от нас, пока не ознакомится с планом операции, не получит всего того, что ему требовалось от Генштаба. Много работали в Генштабе перед выездом в войска С.К. Тимошенко, Н.Н. Воронов и другие. От К.Е. Ворошилова по его указанию обычно работали в Генштабе его помощники, к тому же почти во всех случаях его сопровождал при выездах в войска ответственный представитель Генштаба.
Все доклады представителей Ставки Верховному Главнокомандующему обязательно поступали в Генштаб и докладывались Сталину. Кроме ежедневных докладов Ставка не требовала от своих представителей в войсках никакой отчётности. Но ежедневные доклады о проделанной работе за сутки и с предложениями по ходу военных действий являлись обязательными. Сталин строго взыскивал за то, если представитель Ставки задержится с присылкой доклада хотя бы на несколько часов. Итоговые доклады по операции, как правило, с участием представителей Ставки и командующих фронтами, готовились Генштабом.
Функции представителя Ставки не были неизменными. До июля 1944 года на нём, как уже говорилось ранее, лежала обязанность оказывать помощь командованию фронтов в подготовке и проведении операции, а также в налаживании чёткого и постоянного взаимодействия фронтов и видов войск.
Ни Жуков, как заместитель Верховного Главнокомандующего, ни я, как начальник Генштаба и заместитель наркома обороны, ни тем более другие представители Ставки не имели права принимать в ходе операции какое-либо принципиально новое решение, проводить его в жизнь без санкции Верховного Главнокомандующего. Не мог представитель Ставки самостоятельно изменить в интересах проводимой операции и установленные Ставкой разграничительные линии между фронтами.
Изменения в функциях представителей Ставки произошло в период Белорусской операции, когда Ставка поручила Жукову не только координировать действия 2-го и 1-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов, но и руководить ими, а мне то же самое было поручено в отношении войск 3-го Белорусского, 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов. В связи с этим объём наших обязанностей, как представителей Ставки, а вместе с тем и ответственность значительно возросли.
После расширения прав представитель Ставки просто приказывал провести необходимую переброску войск и приказ выполнялся. Также просто решались и другие вопросы в интересах проводимой операции. Расширение функций представителей Ставки позволило повысить конкретность и оперативность стратегического руководства войсками. Когда нужно, представители Ставки активно вмешивались в процесс фронтового планирования и выступали против того, чтобы просить от Ставки дополнительных резервов и другую помощь при осуществлении замысла Ставки.
Как только началась война принёс пользу созданный, хотя и временно, институт представителей Генштаба на фронтах, в армиях, отдельных корпусах и дивизиях. Опыт показал, что можно было бы не идти на создание с независимыми от Генштаба функциями Главного управления формирования и укомплектования войск, а также передачу управления военных сообщений в Главное управление тыла Вооружённых Сил. Генштаб после этих введений смог больше времени уделять решению оперативно-стратегических вопросов. Но сразу же возникли организационные трудности.
Перед Московской битвой начальник тыла А.В. Хрулёв с работниками Наркомата путей сообщения сидели у меня в кабинете и вместе с работниками Генштаба составляли план перевозок резервов оружия, боевой техники, боеприпасов и т.д.И так случалось каждый раз, когда приступали к подготовке очередной операции. В годы войны трудно и практически неоправданно отделять от Генштаба как организационно-мобилизационную работу, так и военные сообщения.
Поэтому уже в 1943-1944 годах, когда был накоплен достаточный опыт стратегического руководства, они вновь стали составными частями аппарата Генштаба. Сталин легко дал согласие на возвращение к той структуре Генштаба, которая в принципе была разработана в предвоенные годы и с которой мы встретили войну.
Главные командования направлений, созданные в начале июля 1941 года к лету 1942 были расформированы, и Ставка взяла на себя непосредственное руководство фронтами.
Несколько иначе произошло с управлением войсками на Дальнем Востоке. Здесь, при чрезмерной удалённости командования фронтов от Ставки, при крайне ограниченных по тому времени надёжных средствах связи Москвы с Дальним Востоком, при единой стратегической цели, которые решали войска фронтов, Главное командование советских войск Дальнего Востока, по оценке Ставки и ГКО, полностью себя оправдало.
Осенью 1941 года решением Ставки были расширены права и обязанности главнокомандующих и командующих родами войск Вооружённых Сил и некоторых начальников главных управлений Наркомата обороны, а сами они возведены в ранг заместителей наркома обороны. Каждый из главнокомандующих и начальников главных управлений был, как и начальник Генштаба, в ранге заместителя наркома обороны и не всегда считался с указаниями начальника Генштаба, даже санкционированными Ставкой.
Подобные ненормальные отношения тормозили руководство ВС. Пришлось доложить Сталину. В результате последовало новое решение. Как только было сокращено количество заместителей наркома обороны до двух, всё встало на своё место.
Поначалу нашу работу осложняла некоторая недооценка Сталиным значения и места аппарата Генштаба в руководстве фронтами, да и в деятельности самого Верховного Главнокомандования. Как только страна вступила в войну, начальник Генштаба Г.К. Жуков был направлен на Юго-Западный фронт для помощи командованию фронтом в организации отпора врагу. Бывший до осени 1940 года начальником Генштаба Б.М. Шапошников отбыл на Западный фронт представителем Главного командования. Народный комиссар обороны С.К. Тимошенко был назначен главнокомандующим Западным стратегическим направлением. Первого заместителя начальника Генштаба Н.Ф. Ватутина откомандировали на Северо-Западный фронт, где он через некоторое время был назначен начальником штаба этого фронта.
Заместитель начальника Генштаба В.Д. Соколовский и начальник Оперативного управления Г.К. Маландин с группой работников этого управления отбыли на Западный фронт.
Не ошибусь, если скажу, что ни в одной войне прошлого не предъявлялись столь высокие требования к Генштабам, как в минувшей. Вторая мировая война в определённом роде являлась и войной штабов.
В июньские и июльские дни 1941 года мне, как первому заместителю начальника Оперативного управления, приходилось не раз за сутки бывать у нового начальника Оперативного управления В.М. Злобина. Я его хорошо знал по учёбе в Академии Генерального штаба и по совместной поездке в Германию в 1940 году. Это был очень способный, подготовленный, опытный и трудолюбивый, судя по прежней и последующей работе, командир, отличный штабист и хороший товарищ.
Но когда я докладывал ему сведения, получаемые с фронта, и проекты предложений по ним от себя и работников управления, меня каждый раз поражало его спокойствие. Правда, он внимательно выслушивал, обсуждал доклад, соглашался с ним, делал иногда довольно дельные замечания, но почти всегда кончал одним и тем же:
— Ну хорошо, а что же дальше? Что я буду делать с этими нашими предложениями, если меня никто слушать не хочет, если всё решается без нас наверху? Мы, по существу, превратились в простых технических передатчиков не только принимаемых, но и уже оформленных там решений.
Убеждён, что активное использование В.М. Злобина, а через него и всего коллектива Оперативного управления, равно как и коллективов других управлений Генштаба, принесло бы значительную пользу и, быть может, избавило бы ВГК от некоторых просчётов и ошибок в первые месяцы войны.
Нередко бывало, что решение на крупную операцию, а в дальнейшем и ход её по нескольку раз рассматривались на Политбюро и в Ставке. Так происходило при проведении Сталинградской операции, Курской битвы, при освобождении Украины, Белоруссии и т.д. А ход Берлинской операции рассматривался Политбюро ЦК и Ставкой почти ежедневно.
Важное значение имело обсуждение в ЦК ВКП(б) итогов проведённой той или иной крупной операции или итогов военных действий за ту или иную кампанию войны.
13 ноября 1942 года на заседании Политбюро ЦК партии и Ставки после подведения итогов оборонительным сражениям под Сталинградом был заслушан и утверждён доклад Жукова и мой по проведению контрнаступления советских войск с целью окружения и ликвидации основной группировки немецких войск под Сталинградом.
Центральный комитет партии также рассматривал наиболее важные вопросы военного строительства, развития и укрепления Вооружённых Сил. В числе других обсуждались вопросы введения института военных комиссаров и отмены его, установление полного единоначалия в Вооружённых Силах, введения новых знаков различия – погон. Постоянно в поле зрения Политбюро ЦК партии находились и основные аспекты организационной структуры Генштаба, всего Наркомата обороны, Вооружённых Сил в целом, назначения и перемещения кадров. С докладом на Политбюро ЦК партии выступали члены Политбюро, Жуков, Антонов, я и другие военачальники Наркомата обороны. Должен отметить, что ЦК партии предпринимал большие усилия для развёртывания военного производства.
А наши запросы при рассмотрении операции являлись просто колоссальными. Известно, что на решение задачи освобождения Белоруссии потребовалось войскам 1,5 млн тонн грузов. Естественно, что на Политбюро высказывались различные мнения о возможности производства, удовлетворить запросы Генштаба. Вносились различные предложения. Но самым авторитетным являлось слово члена ГКО, председателя Госплана СССР Н.А. Вознесенского. Он нередко не соглашался с мнением Сталина, других членов Политбюро и точно называл количество материально-технических средств, которые может дать промышленность для рассматриваемой операции. Вознесенский являлся и сильным организатором, если поручалась какая-то задача, можно было быть уверенным в том, что она будет решена.
Я думаю, что безусловно будет правильным, говоря о докладе начальника Генштаба или его заместителя на рабочих заседаниях Ставки, говорить о них как о докладах Ставке, Политбюро ЦК партии и ГКО.
Обычно вечером, если я находился в Москве, звонил Сталин (или его секретарь А.Н. Поскрёбышев) и приглашал прибыть в Центральный Комитет к 20-21.
У Верховного Главнокомандующего не существовало особого рабочего кабинета. Кабинет Генсека ЦК партии являлся и кабинетом Ставки. Повестка доклада предварительно не называлась. Приходилось самому определять, какие вопросы кроме общей обстановки на фронтах будут интересовать Сталина и присутствующих у него членов Политбюро и ГКО.
Доклады приходилось делать очень быстро. В них говорилось не только о положении на фронтах, но давалась и оценка их действиям, вносились предложения, докладывались просьбы военных советов фронтов и предложения Генштаба. Протоколов этих заседаний никогда не велось. Но по обсуждаемым вопросам, если требовалось тут же готовились решения, причём оформлялись они, в зависимости от содержания рассматриваемого вопроса, постановлением ЦК партии или ГКО, директивами Ставки ВГК.
Большой круг вопросов в работе Генштаба, требующих санкций ЦК ВКП(б), решался при участии специально прикреплённого к Генштабу члена Политбюро. Я повседневно держал с ним связь, обращался к нему за помощью при решении тех вопросов, которые не мог решить сам, а также тех, которые не требовали внимания и без того чрезмерно перегруженного Сталина. И надо сказать, что эту помощь Генштаб почти всегда получал, особенно часто это касалось укомплектования Генштаба соответствующими кадрами, перевод и назначение которых требовали санкции ЦК ВКП (б). Политбюро было в курсе всех дел Генштаба. Прикрепление Политбюро ЦК одного из членов в помощь Генштабу в период Великой Отечественной войны вполне себя оправдало. Значительно упростилась наша повседневная связь с ЦК ВКП(б), с правительством и наркоматами. Практиковались выезды отдельных членов Политбюро на фронт. Обычно они ехали туда, где было особенно трудно, где складывалась сложная военная обстановка. Эти поездки приносили бесспорную пользу.
На Дальнем Востоке
Заключительным этапом второй мировой войны явилась кампания советских войск на Дальнем Востоке. В этой знаменательной кампании Вооружённых Сил пришлось принять участие и мне. То что придётся ехать на Дальний Восток, я впервые узнал летом 1944 года. После окончания Белорусской операции Сталин в беседе со мной сказал, что мне будет поручено командование войсками Дальнего Востока с милитаристской Японией. А о возможности такой войны я был уже осведомлён в конце 1943 года, когда возвратилась советская делегация во главе с И.В. Сталиным с Тегеранской конференции. Мне было тогда сообщено, что наша делегация дала союзникам принципиальное согласие помочь в войне против Японии. Но для вступления в войну с Японией у нас имелись и свои жизненные интересы. Японские милитаристы многие годы вынашивали планы захвата советского Дальнего Востока. Они почти постоянно устраивали военные провокации на наших границах. На своих стратегических плацдармах в Маньчжурии они держали крупные военные силы, готовые к нападению на страну Советов. Ситуация обострилась, когда фашистская Германия развязала разбойничью войну против нашей Родины. Для борьбы с агрессором нам до зарезу нужна была каждая свежая дивизия, а мы держали и не могли не держать на Дальнем Востоке несколько армий в полной боевой готовности. Япония лишь выжидала момента для развязывания войны против Советского Союза.
Сталин повседневно интересовался всеми сведениями о действиях нашего восточного соседа и требовал от Генштаба самых подробных докладов на сей счёт. Мы видели, что даже тогда, когда Япония втянулась в войну с США и Англией на Тихом океане и стала терпеть поражения, перешла к оборонительной стратегии, её руководители не сделали ни единого практического шага к сокращению своих войск в Маньчжурии и Корее. Ликвидация очага войны на Дальнем Востоке являлась для нас делом государственной и общенациональной важности. Союзники признавали решающее значение вступления СССР в войну против Японии.
Они заявляли, что только Красная Армия способна нанести поражение наземным силам японских милитаристов.
«Победа над Японией может быть гарантирована лишь в том случае, если будут разгромлены японские сухопутные силы» — такого мнения придерживались главнокомандующий американскими вооружёнными силами в бассейне Тихого океана генерал Макартур. Ссылаясь на то, что США и их западные союзники не располагали возможностями для этого, он требовал в канун Крымской конференции союзников от своего правительства «приложить все усилия к тому, чтобы добиться вступления в войну Советского Союза»[59]. В специальном меморандуме Объединённого комитета начальников штабов от 23 декабря 1944 года отмечалось: «Вступление России в войну как можно скорее необходимо для оказания максимальной поддержки нашим операциям на Тихом океане».
Принимавший участие в работе Ялтинской конференции бывший государственный секретарь США Э. Стеттинус писал: «Накануне Крымской конференции начальники американских штабов убедили Рузвельта, что Япония может капитулировать только в 1947 году, или позже, а разгром её может стоить Америке миллион солдат». В связи с этим американская и английская делегации прибыли на Крымскую конференцию с твёрдым намерением добиваться согласия Советского Союза на вступление в войну против Японии. Как сообщил мне потом А.И. Антонов, участвовавший в работе конференции, Рузвельт и Черчилль настойчиво требовали скорейшего вступления СССР в войну. В итоге обсуждений было подписано 11 февраля 1945 года Соглашение трёх держав, в котором говорилось: «Руководители трёх великих держав – Советского Союза, Соединённых Штатов Америки и Великобритании – согласились в том, что через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии на стороне союзников»[60]. Для нашей делегации такой срок не был неожиданностью. Обсудив этот вопрос вместе с начальником тыла Красной Армии генералом А.В. Хрулёвым, мы пришли к выводу, что срок может быть сокращён до двух-трёх месяцев после окончания войны на западе если отказаться от перевозок по железной дороге войскового автотранспорта. Разрешение проблемы было найдено на самой конференции.
Руководители США охотно согласились поставить нам в дальневосточные порты не только потребное для нас количество автотранспорта, но и паровозов. После Ялтинской конференции подготовка к войне с Японией в Ставке ВГК и особенно в Генштабе заметно активизировалась. Ещё ранее, 25 апреля 1943 года командующим войсками Дальневосточного фронта был назначен мой хороший товарищ, друг и старый сослуживец по 48-й Тверской стрелковой дивизии генерал-полковник М.А. Пуркаев. Он сменил там генерала армии И.Р. Апанасенко, которого Ставка направила стажироваться на Воронежский фронт в должности заместителя командующего фронтом. Иосиф Родионович Апанасенко, известный как герой гражданской войны, погиб в 1943 году во время Белгородско-Харьковской операции (на площади железнодорожного вокзала города Белгорода благодарные потомки установили величественный памятник герою войны – И.А. Апанасенко. – А.М).
В июне 1943 года заместитель начальника штаба Дальневосточного фронта генерал-майор Н.А. Ломов был переведён в Оперативное управление Генштаба на должность заместителя начальника управления и начальника дальневосточного направления, а на его место был назначен из Генштаба генерал-майор Ф.И. Шевченко.
В марте-апреле 1945 года мы приняли меры к тому, чтобы обновить вооружение и материальную часть в войсках Дальнего Востока. Туда направлялось 670 танков Т-34 и много другой боевой техники.
* * *
Как только закончилась Восточно-прусская операция, я был отозван Ставкой с 3-го Белорусского фронта по должности заместителя народного комиссара обороны. 27 апреля я включился в работу над планом войны с Японией. Правда, первые числа мая и день победы над фашизмом застал меня в Прибалтике, куда я ездил по заданию Ставки. 10 мая я вернулся в Москву.
Первоначальные расчёты сосредоточения наших войск в Приамурье, Приморье и Забайкалье были сделаны вчерне ещё осенью 1944 года. Но до Ялтинской конференции никакой детализации плана войны против милитаристской Японии не производилось. Война должна была развернуться на территории площадью 1,5 млн. кв. км.и на глубину 200-800 км, а также на акватории Японского и Охотского морей.
План заключался в одновременном нанесении со стороны Забайкалья, Приморья и Приамурья главных и ряда вспомогательных ударов по сходящимся к центру Северо-Восточного Китая направлениям с целью рассечения и разгрома по частям основных сил японской Квантунской армии.
Мы учитывали, что Квантунская армия за лето 1945 года удвоила свои силы. Японское командование держало в Маньчжурии и Корее две трети своих танков, половину артиллерии и отборные императорские дивизии. Квантунскую армию возглавлял Главнокомандующий – опытный японский генерал армии О. Ямада – и начальник штаба генерал-лейтенант Х. Хата, который ранее был военным атташе в Советском Союзе. К началу войны против нашей страны японская армия на Дальнем Востоке вместе с марионеточными войсками местных правителей насчитывала свыше 1 млн. человек. В её состав входили три фронта: 1-й — Восточно-Маньчжурский фронт, развёрнутый вдоль границ нашего Приморья(всего10 пехотных дивизий и одна смешанная бригада); 3-й Западно-Маньчжурский фронт, предназначенный для действий на монголо-маньчжурском направлении (всего 9 пехотных дивизий, три смешанных и две танковые бригады); 17-й Корейский фронт, располагавшийся в Корее и с 10 августа оперативно подчинённый командующему Квантунской армии (всего 9 пехотных дивизий и смешанные бригады); 4-я отдельная армия, предназначавшаяся для дивизий на северо-восточных границах Маньчжурии (всего три пехотные дивизии и четыре смешанные бригады). На Южном Сахалине и Курильских островах были развёрнуты части сил 5-го фронта в составе трёх пехотных дивизий, отдельной смешанной бригады и отдельных пехотного и танкового полков.
С воздуха Маньчжурию прикрывала 2-я воздушная, а Корею – 5-я воздушная армия. На территории Маньчжурии в распоряжении японского командования находились армии Маньчжоу-Го, Внутренней Монголии и Суйюанская армейская группа, которые насчитывали 8 пехотных и 7 кавалерийских дивизий, 14 пехотных и кавалерийских бригад.
Японские военные силы опирались на богатые материальные, продовольственные и сырьевые ресурсы Маньчжурии и Кореи и на маньчжурскую промышленность, производившую в основном всё необходимое для жизни и боевой деятельности. На территории, занимаемой войсками Квантунской армии, находилось 13700 км.железных и 22 тыс. км. автомобильных дорог, 133 аэродрома, более 200 посадочных площадок – всего более 400 аэродромных точек, 870 крупных военных складов и хорошо оборудованные военные городки.
В Маньчжурии по границам с нами и МНР японские милитаристы создали 17 укреплённых районов, из них 8 – на востоке против советского Приморья. Каждый укрепрайон занимал 50-100 км по фронту и до 50 км в глубину. Их предназначение – не только усиление обороны, но и создание более выгодных условий для сосредоточения и развёртывания войск. Линия пограничных укрепрайонов состояла из трёх позиций. Четыре укрепрайона были построены в Корее и один против Северного Сахалина. Острова Курильской гряды прикрывались береговыми артиллерийскими батареями, укрытыми в железобетонные сооружения, и воинскими гарнизонами, обеспеченными развитыми долговременными оборонительными сооружениями.
Политические и военные руководители, как стало потом известно, в то время считали своей задачей, во-первых, не допустить высадки американских войск на Японские острова и, во-вторых надёжно оборонять свои завоевания в Китае и Корее. Отвергнув Потсдамскую декларацию, Япония решила продолжать войну.
* * *
Разработанный нами в Генштабе план кампании на Дальнем Востоке был одобрен Ставкой, а затем утверждён ЦК партии и ГКО.
В плане предусматривалось нанести основной удар со стороны Забайкалья-территории МНР – в направлении на Чанчунь (Синьцзян) и Шэньян (Мукден). Его цель – вывести главную группировку советских войск в обход с юга Хайларского и Халун-Аршанского укрепрайонов и рассечь 3-й фронт Квантунской армии на две части. Правда, на пути наступления советских войск этой группы до выхода их в центральные районы Северо-Восточного Китая находилась безводная пустынная степь, а также труднодоступный горный хребет Большой Хинган. Встречный Сильный удар предусматривался со стороны Приморья, из района южнее озера Ханка, в направлении на Дзилинь (Гирин) войсками 1-го Дальневосточного фронта. После соединения здесь войска этого и Забайкальского фронтов должны были развивать наступление в направлении на Мукден, Порт-Артур. Им предстояло прорвать полосу японских укреплённых районов; для этого они должны иметь все необходимые силы и средства. Указанные направления обеспечивали полное окружение главных сил Квантунской армии в кратчайшие сроки. Одновременно планом было предусмотрено, что силами этих же двух основных группировок будет нанесено по два вспомогательных удара. Развёрнутая в Приамурье группировка должна была наступать на ряде направлений с севера, чтобы сковать противостоящего ей врага и тем самым способствовать успеху нанесения ударов на главных направлениях.
Предстояло много поработать над планом перевозок, который по своим показателям был поистине грандиозным. Предстояло осуществить эти перевозки по однопутной железнодорожной магистрали в крайне сжатые сроки и на огромные расстояния – от 9 тыс. до 12 тыс. км. В этом отношении они не имели себе равных в истории второй мировой войны и являлись поучительной стратегической операцией.
Только в составе трёх общевойсковых и одной танковой армий, переброшенных с запада на Дальний Восток насчитывалось 12 корпусов, или 39 дивизий и бригад. Помимо этого был переброшен ряд других соединений и частей разных родов войск и различного назначения. В результате проведённой перегруппировки боевой состав советских войск на Дальнем Востоке и в Забайкалье к началу боевых действий против Японии возрос почти вдвое. Особого внимания заслуживает предусмотренное планом создание конно-механизированной группы советско-монгольских войск, обеспечивавшей правое крыло войск Забайкальского фронта от контрударов японских войск. Только за четыре месяца (май-август) на Дальний Восток и в Забайкалье поступило около 136 тыс. вагонов с войсками и грузами, а за период с апреля по сентябрь 1945 года включительно – 1692 эшелона. Из них: стрелковых объединений, соединений – 502 эшелона; артиллерийских – 261, бронетанковых – 250 и инженерных и других частей и соединений и грузов – 679[61]. В общей сложности в мае-июле 1945 года на железнодорожных путях Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока находилось до миллиона советских войск[62].
Основная масса войск, прибываемых с запада в состав Забайкальского фронта, в том числе 39-я, 53-я общевойсковые и 6-я гвардейская танковая армии, должна была выгружаться в районе города Чойболсан на территории МНР. Но однопутная железная дорога на участке Карымская-Борзя-Чойболсан, на которую базировался Забайкальский фронт, имела небольшую пропускную способность и не могла обеспечить необходимого потока эшелонов с войсками и грузами. Поэтому части войск артиллерии на механизированной тяге и моторизованные соединения разгружались на железнодорожных станциях между Читой и Карымской, а далее они следовали своим ходом, совершив марши от 600-700 км до 1000-1200 км. Из района Чойболсана войска трёх армий и части усиления выдвигались в районы их развёртывания на государственной границе МНР и Маньчжоу-Го ещё на расстояние до 250-300 км. Войскам, следовавшим от Карымской своим ходом пришлось совершать форсированные марши на расстояние от 600 до 900 км в условиях безводных степей Забайкалья и Монголии. Несмотря на эти трудности, все войска были вовремя сосредоточены и развёрнуты.
Проводился целый комплекс мероприятий по обеспечению скрытности массовых железнодорожных перевозок службой ВОСО.
Для того чтобы прикрыть приграничные и тыловые районы с воздуха силами ПВО, были развёрнуты в соответствии с постановлением ГКО от 14 марта 1945 года три армии ПВО – Забайкальская, Приамурская и Приморская. В Забайкальскую и Приморскую армии ПВО, кроме того, было включено по одной истребительной авиационной дивизии. Армии ПВО являлись средством фронтового командования. Всего к августу 1945 года Главное командование советских войск на Дальнем Востоке развернуло 11 общевойсковых армий, две оперативные группы, одну танковую армию, три воздушные армии, три армии ПВО, четыре отдельных авиационных корпуса. Кроме того, оно располагало силами Тихоокеанского флота (включая Северную Тихоокеанскую флотилию), Амурской речной флотилией, а также планировало использовать в боях пограничные отряды НКВД.
Все сосредоточенные на Дальнем Востоке войска решением Ставки были объединены в три фронта: Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные.
Забайкальский фронт – командующий Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский, состоял из 17-й, 36-й, 39-й и 53-й общевойсковых, 6-й гвардейской танковой, 12-й воздушной армий, армии ПВО и конно-механизированной группы советско-монгольских войск.
1-й Дальневосточный фронт – командующий Маршал Советского Союза К.А. Мерецков – имел в своём составе 5-ю, 25-ю и 35-ю общевойсковые армии, Чугуевскую оперативную группу, 10-й механизированный корпус, 9-ю воздушную армию и армию ПВО.
2-й Дальневосточный фронт – командующий генерал армии М.А. Пуркаев – включал в себя 2-ю Краснознамённую, 15-ю и 16-ю общевойсковые армии, 5-й отдельный стрелковый корпус, камчатский оборонительный район (КОР), 10-ю воздушную армию и армию ПВО.
Тихоокеанский флот – командующий адмирал И.С. Юмашев – к началу боевых действий имел 427 боевых кораблей, в том числе: крейсеров -2, лидер -1, эсминцев -12, сторожевых кораблей -19, подводных лодок -78, минных заградителей -10 и 1618 самолётов. Флот базировался на Владивосток (главная база), Советскую Гавань и Петропавловск-Камчатский. В качестве вспомогательных баз служили порты Находка, Ольга, Де-Кастри, Николаевск-на Амуре, Посьет и другие пункты морского побережья.
Краснознамённая Амурская флотилия имела в своём составе 169 боевых кораблей и более 70 самолётов. Она базировалась на Хабаровск (главная база), М. Сазанку на реке Зея, Сретенск на реке Шилка и озеро Ханка.
С началом боевых действий флотилии подчинены все сторожевые катера пограничной охраны на реках Амур и Уссури и мобилизованные 106 судов гражданского речного пароходства.
Непосредственное руководство ВМС на Дальнем Востоке Ставка возложила на Главнокомандующего ВМС СССР адмирала флота Н.Г. Кузнецова – один из видных советских военно-морских деятелей. Он был командиром крейсера, нашим военно-морским атташе в республиканской Испании, командующим Тихоокеанским флотом и в годы Великой Отечественной войны наркомом ВМФ СССР.
Директивой ГКО от 30 июля 1945 года было создано Главнокомандование советскими войсками на Дальнем Востоке, а директивой от 2 августа – и штаб Главного командования.
Главнокомандующим, как было предрешено ранее, приказом Ставки от 30 июля 1945 года был назначен автор этих строк, членом военного совета – генерал-полковник И.В. Шикин, начальником штаба генерал-полковник С.П. Иванов. К 27 июня Генштаб, исходя из принятых Ставкой стратегических решений, полностью завершил отработку директив для фронтов. 28 июня они были утверждены Ставкой.
В директиве командующему Забайкальским фронтом приказывалось: стремительным вторжением в Центральную Маньчжурию во взаимодействии с войсками Приморской группы (1-й Дальневосточный фронт) и Дальневосточного фронта (2-й Дальневосточный фронт) разгромить Квантунскую армию и овладеть районами Чифын, Мукден, Чанчунь, Чжаланьтунь: операцию построить на внезапности удара и использовании подвижных соединений фронта, в первую очередь 6-й гвардейской танковой армии.[63]
Директива Ставки адресованная командующему Приморской группы войск, требовала вторжением в Центральную Маньчжурию совместно с войсками Забайкальского и Дальневосточного фронтов разгромить Квантунскую армию и овладеть районами Харбин, Чанчунь, Сейсин.
Командующий 2-м Дальневосточным фронтом М.А. Пуркаев обязывался активно содействовать войскам Забайкальского фронта и войскам 1-го Дальневосточного фронта К.А. Мерецкова в разгроме Квантунской армии и в овладении районом Харбин.
5 июля с документами на имя генерал-полковника Васильева (из-за режима секретности. – А.М) я прибыл специальным поездом в Читу. Одет я был тоже в форму генерал-полковника.
По решению Ставки ВГК со мной приехали командующий ВВС Советской Армии Главный маршал авиации А.А. Новиков, заместитель командующего артиллерией Советской Армии маршал артиллерии М.Н. Чистяков, заместитель начальника войск связи Н.Д. Псурцев, заместитель начальника тыла генерал-полковник В.И. Виноградов и некоторые другие ответственные работники Наркомата обороны и Генштаба.
Прежде всего я познакомился с войсками Забайкальского фронта. Вместе с Р.Я. Малиновским побывал на основных участках. Поездка по войскам Забайкальского фронта оказалась полезной. Мы нашли возможным форсировать Большой Хинган войсками 6-й гвардейской танковой армии не на десятый день операции, как это планировалось, а не позднее пятого дня. Были значительно сокращены сроки выхода общевойсковых армий на Маньчжурскую равнину. Овладение укрепрайоном Хайлар 36-й армией наметили не на двенадцатый день, а на десятый день операции. В дальнейшем ей предстояло наступать на Цицикар. 53-ю армию поставили несколько правее, чем намечалось ранее – в затылок 6-й гвардейской танковой армии и приказали ей неотступно следовать за ней. Затем я совершил поездку по войскам Дальневосточных фронтов.
Ещё в январе 1945 года в ЦК партии были заслушаны доклады секретарей крайкомов Г.А. Боркова и Н.М. Пегова о состоянии дел в Хабаровском и Приморском краях в связи с подготовкой к войне. В постановлении, принятом по докладам, были намечены конкретные меры по переключению экономики Дальнего Востока на обеспечение потребностей Дальневосточных фронтов.
В апреле-мае и июле 1945 года ГКО принял ряд постановлений о мероприятиях по улучшению работы железных дорог Дальнего Востока, увеличению в 1945 году на 20 процентов добычи нефти в объединении «Дальнефть», развитию средств проводной связи Москвы с Дальним Востоком и Забайкальем, развитию военно-морских баз и торговых портов во Владивостоке, бухте Находка и Николаевске-на Амуре.
Морально-политическая подготовка личного состава фронтов и флота к войне против Японии проводилась в два этапа. На первом этапе, который начался в апреле 1945 года, главное внимание уделялось работе по разъяснению политического значения заявления Советского правительства от 5 апреля 1945 года о денонсации советско-японского пакта о нейтралитете, мобилизации личного состава на повышение бдительности и боеготовности частей. Партийно-политическая работа по подготовке личного состава к войне проводилась с учётом конкретных условий, в которых находились различные части и соединения. Так солдатам, сержантам и офицерам армий, перегруппируемых на Дальний Восток из Восточной Пруссии и района Праги, лишь в самых общих чертах было известно, что им, по-видимому, придётся драться против войск японской Квантунской армии. Они не знали и не могли знать конкретных сроков начала кампании, точных пунктов выгрузки и направлений боевых действий. В этих условиях командирами и политорганами, партийными и комсомольскими организациями проводилась большая работа по сохранению государственной и военной тайны на всём пути следования в эшелонах. После выгрузки и марша в районы сосредоточения и развёртывания партийно-политическая работа нацеливалась на быстрейшее овладение личным составом способами и приёмами боевых действий на новом театре, на изучение военно-политического положения Японии, структуры японских войск и их тактики, традиций и обычаев. Большую помощь в этом командованию, политорганам и войскам, прибывшим с запада, оказали воины, длительное время служившие в Забайкалье и на Дальнем Востоке.
Характерной особенностью предстоящей войны против Японии было совместное выступление двух братских социалистических государств –Советского Союза и Монгольской Народной Республики.
После разгрома советско-монгольскими войсками японских захватчиков в районе реки Халхин-Гол по просьбе правительства МНР советские части и соединения были оставлены на территории МНР. На базе их в начале Великой Отечественной войны была сформирована 17-я армия, вошедшая в состав Забайкальского фронта. Командиры и политработники двух союзных армий совместно готовили личный состав к проведению предстоящих операций. Регулярно устраивались встречи воинов братских армий-участников боёв против банд барона Унгерна в 1921 году, на озере Хасан в 1938 году и в районе Халхин-Гол в 1939 году против японских войск. Сам я лично не был в МНР в период подготовки к военным действиям. Появляться там мне Ставка категорически запретила. С маршалом Чойболсаном я встретился уже после окончания войны в Чанчуне.
Я регулярно информировал Верховного Главнокомандующего о ходе подготовки к боевым действиям. Наша телефонная связь работала безотказно. 16 июля ко мне в штаб войск Дальнего Востока, находившийся в 25 км юго-западнее Читы, позвонил из Потсдама И.В. Сталин. Это было накануне открытия Потсдамской конференции трёх великих держав.
Он спросил, как идёт подготовка к операции, и поинтересовался, нельзя ли её дней на десять ускорить. Я доложил, что сосредоточение войск и подвоз всего самого необходимого для них не позволяют сделать этого, и просил оставить прежний срок. Почему Сталин накануне конференции ставил передо мной этот вопрос – он мне не сказал.
Впоследствии нам стало известно, что в соответствии с американскими планами разгрома Японии, разработанными ещё до созыва Потсдамской конференции и утверждёнными президентом США 29 июня, высадка американских войск на остров Кюсю должна была произойти 1 ноября 1945 года, а высадка на остров Хонсю – не ранее 1 марта 1946 года. Известно и то, что президент Трумэн 18 июня 1945 года на совещании военных руководителей США заявил, что «одна из целей, которую он ставит перед собой на предстоящей конференции будет заключаться в том, чтобы добиться от Советского Союза максимальной помощи в войне против Японии». Известно было и другое: накануне Потсдамской конференции американцы провели первое испытание атомной бомбы в США, а через неделю, 24 июля, участник конференции, исполнявший обязанности президента, бывший вице-президент Г. Трумэн, отдал приказ командующему стратегическими военно-воздушными силами США сбросить в начале августа 1945 года атомную бомбу на один из следующих японских городов: Хиросима, Кокура, Ниигата, Нагасаки.
Получив в Потсдаме сообщение о результатах испытания бомбы, Трумэн попытался оказать политический нажим на советскую делегацию. Но он встретил с её стороны спокойную уверенность и сдержанную твёрдость. 16 июля в момент разговора со мной Сталин, по-видимому, не мог знать о том, что за несколько часов до этого в Лос-Аламосе взорвалась испытываемая американцами атомная бомба.
Надо полагать, интересуясь сроками начала операции, он руководствовался не этим фактом, а общими военно-политическими соображениями и сведениями о том, что на конференции американо-английские делегаты вновь будут настаивать на скорейшем вступлении Советского Союза в войну против Японии.
* * *
7 августа поступила директива Ставки. Войскам Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, гласила она, 9 августа начать боевые действия для выполнения задач, поставленных директивами Ставки от 28 июня; наземным войскам Забайкальского и 1-го Дальневосточного фронта границу Маньчжурии перейти утром 9 августа; 2-му Дальневосточному фронту – по моему указанию. Тихоокеанскому флоту перейти в оперативную готовность номер один, приступить к постановке минных заграждений, одиночное судоходство прекратить, транспорты направить в пункты сосредоточения, а в дальнейшем организовать судоходство конвоями под охраной военных кораблей, подводные лодки развернуть, боевые действия флота начать с утра 9 августа.[64]
Накануне наступления я позвонил Верховному Главнокомандующему, чтобы доложить о готовности советских войск начать боевые действия. А.Н. Поскрёбышев ответил, что Сталин смотрит кинофильм, и попросил меня позвонить попозже, что я и сделал. Хочу заметить в связи с этим, что Сталин любил кинокартины и смотрел их очень часто.
Едва ли какая-либо из вновь появившихся на экранах значительных картин, не говоря уже о военных, проходила мимо его внимания. Он интересовался сценариями кинокартин по наиболее крупным проблемам истории войны. Сталин, насколько я знаю, также проявлял живой интерес к театру и нередко бывал на спектаклях, а иногда подсказывал для них и тематику, как это было с пьесой А. Корнейчука «Фронт» и с другими. Упомянутый спектакль он смотрел не один раз и мне советовал сходить на него.
В обращении Главкома советскими войсками на Дальнем Востоке к китайскому народу перед началом операции подчёркивалось: «Красная Армия, армия великого советского народа, идёт на помощь союзному Китаю и дружественному китайскому народу. Она и здесь, на Востоке, поднимает свои боевые знамёна как армия-освободительница народов Китая, Маньчжурии, Кореи от японского гнёта и рабства»[65].
8 августа главнокомандование Народно-освободительной армии Китая направило Председателю Совета Министров СССР И.В. Сталину приветственную телеграмму, в которой говорилось: «От имени китайского народа мы горячо приветствуем объявление Советским правительством войны Японии. Стомиллионное население и вооружённые силы освобождённых районов Китая будут всемерно координировать свои усилия с Красной Армией и армиями других союзных государств в деле разгрома ненавистных захватчиков».[66]
В ночь на 9 августа передовые батальоны и разведывательные отряды трёх фронтов в крайне неблагоприятных погодных условиях – летнего муссона, приносящего частые и сильные дожди, — двинулись на территорию противника.
С рассветом главные силы Забайкальского и 1-гоДальневосточного фронтов перешли в наступление и пересекли государственную границу. Я в это время находился в районе штаба 1-го Дальневосточного фронта, который перед открытием военных действий перешёл из-под Ворошиловска (ныне Уссурийск – А.М) в тайгу, в специально построенные домики. А штаб Главного командования по-прежнему находился близ Читы.
10 августа в войну вступила Монгольская Народная Республика.
Во фронте Р.Я. Малиновского: Монгольская Народно-революционная армия маршала Хорлогийна Чойболсана наносила удар от Сайн-Шанда в пустыне Гоби по войскам князя Де Вана и Суйюаньской армейской группы в направлении Калагна (Чжанцзякоу); смешанная советско-монгольская конно-механизированная группа генерал-полковника И.А. Плиева – из Северной Гоби в направлении города Долоннор (Долунь); 17-я армия генерал-лейтенанта А.И. Данилова – от Югодзирь-Хида на Чифын, с целью разгрома войск левого крыла 44-й японской армии. В результате успешного решения этого замысла Квантунская армия была изолирована от войск Северного фронта, действовавшего в районе Бэйпина (Пекина), и потеряла возможность получить помощь с юга.
53-я армия генерал-полковника И.М. Манагарова и 6-я гвардейская танковая армия генерал-полковника танковых войск А.Г. Кравченко от Мамата наступали на Шэньян (Мукден), 39-я армия генерал-полковника И.И. Людникова из Тамцаг – Булагского выступа продвигалась вдоль железной дороги на Чанчунь (Синьцзян), где находился штаб Квантунской армии, а ей навстречу с востока выходила 5-я армия 1-го Дальневосточного фронта.
36-я армия генерал-лейтенанта А.А. Лучинского из Даурии через Хайлар наносила удар на Цицикар. С воздуха Забайкальский фронт поддерживала 12-я воздушная армия С.А. Худякова.
Враг не предполагал, что советские войска сумеют за неделю пройти сотни километров в тяжелейших условиях. Элемент неожиданности был столь велик, а удар, полученный Квантунской армией с севера-запада так силён, что она после него уж не смогла оправиться.
На 2-м Дальневосточном фронте Пуркаева 6 небольших войсковых группировок прикрывали железную дорогу в Забайкалье от устья реки Шилка до устья Зеи. 2-я Краснознамённая армия генерал-лейтенанта М.Ф. Терёхина с Буреинского плато через Малый Хинган продвигалась с севера в направлении Цицикара; 15-я армия генерал-лейтенанта С.К. Мамонова из Биробиджана против течения Сунгари наступала на Харбин; 5-й отдельный стрелковый корпус генерал-майора И.З. Пашкова от Бикина параллельно войскам Мамонова шёл с боями на Боли;
16-я армия генерал-лейтенанта Л.Г. Черемисова наносила удар из Северного Сахалина по Южному; воинские части Камчатского оборонительного района генерал-майора А.Р. Гнечко овладевали (согласно моему приказу от 15 августа) Курильскими островами. С воздуха войска фронта поддерживала 10-я воздушная армия генерал-полковника П.Ф. Жигарёва. Этот фронт теснейшим образом взаимодействовал с флотом и двумя флотилиями. Моряки и речники участвовали в высадке десантов на Курилах и Южном Сахалине, в форсировании Амура и Уссури, в боевых действиях на реке Сунгари. Интересный страницей сражений на Сахалине является также выброска нашего парашютного десанта в Тайохара (Южно-Сахалинске), чего противник никак не ожидал. Не менее изумительной по быстроте, ловкости и смелости выполнения являлась высадка морских десантов на острова Итуруп, Кунашир и Шикотан.
На 1-м Дальневосточном фронте 35-я армия генерал-лейтенанта Н.Д. Захватаева от Губерова и Лесозаводска наносила удар на Линькоу; 1-я Краснознамённая армия генерал-полковника А.П. Белобородова от озера Ханка через Мулин и Муданьцзян (штаб 1-го фронта Кв. армии) наступала на Харбин, где соединялась с 15-й армией; 5-я армия генерал-полковника Н.И. Крылова прорывалась от Гродекова на Гирин. 25-я армия генерал-полковника Чистякова продвигалась через Ванцин (штаб 3-й армии) с поворотом на Яньцзи к Корее и затем берегом Японского моря выходила к знаменитой 38-й параллели, ставшей позднее границей между КНДР и Южной Кореей, нанося удар по 17-му фронту японцев. С воздуха войска фронта поддерживала 9-я воздушная армия генерал-полковника авиации И.М. Соколова. 10-й мехкорпус генерал-лейтенанта танковых войск И.Д. Васильева вёл бои в полосе 5-й армии. С этим фронтом взаимодействовала основная часть сил Тихоокеанского флота. Согласованные операции подвижных частей с суши и десантников с моря по овладению корейскими портами Юки, Расин, Сейсин и Гензан были быстрыми и удачными. Отличились парашютисты, высадившиеся в Харбине, Гирине и Хамхынге – в далёком вражеском тылу: царившая в японских войсках растерянность, вызванная поражением Квантунской армии на фронте, облегчила парашютистам выполнение ответственных заданий. В правительстве Японии начало военных действий Советским Союзом вызвало панику.
«Вступление сегодня утром в войну Советского Союза, — заявил 9 августа премьер-министр Судзуки, — ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает невозможным продолжение войны».[67]
Таким образом, именно действия Советских Вооружённых Сил, по признанию японского руководства, а не атомная бомбардировка городов Японии американскими самолётами, произведённая 6 и 9 августа, решили судьбу Японии и ускорили окончание второй мировой войны.
Массовое уничтожение японских городов не диктовалось никакой военной необходимостью.
Атомная бомба была для правящих кругов США не столько актом конца второй мировой войны, сколько первым шагом к «холодной войне» против СССР.
Наступление советских войск проходило в условиях упорного сопротивления врага. Передовые части Забайкальского фронта уже 11 августа подошли к западным склонам Большого Хингана, а подвижные войска главной группировки преодолели его и вышли на Центрально-Маньчжурскую равнину.
Форсирование Хинганского хребта явилось подвигом, не имевшим себе равных в современной войне.
К исходу 14 августа войска Забайкальского фронта, пройдя расстояние от 250 до 400 км, вышли в центральные районы Маньчжурии и продолжали продвигаться к её столице Чанчуню и крупному промышленному центру Мукдену.
За это же время войска 1-го Дальневосточного фронта в условиях труднопроходимой горно-таёжной местности, прорвав сильную полосу обороны, напоминавшую «линию Маннергейма», только в больших масштабах и овладев семью мощными укрепрайонами, продвинулись вглубь Маньчжурии на 120-150 км и завязали бой за город Муданьцзян. Войска 2-го Дальневосточного фронта вели бои на подступах к Цицикару и Дзямусы. Таким образом, уже к исходу шестых суток нашего наступления Квантунская армия оказалась рассечённой на части. Огромную помощь войскам Дальнего Востока на протяжении всей кампании оказывали пограничники.
Только один Джалинский погранотряд под командованием Л.К. Попова уже в первом бою уничтожил 50 японцев, из них 13 офицеров, и 150 взял в плен. В последующем джалинцы ликвидировали пограничный полицейский отряд, 2 районных и 11 малых пограничных отрядов, 3 погранпоста, 9 отдельных войсковых групп, 2 парохода. Перед фронтом наступления отряд полностью очистил от противника территорию в 427 км по фронту и 80-90 км в глубину, занял 24 населённых пункта, в том числе один город. Также воевали с японскими милитаристами и другие пограничные отряды Забайкалья и Дальнего Востока.
Перед лицом неминуемого военного поражения 14 августа правительство Японии приняло решение капитулировать. На следующий день пал кабинет премьера Судзуки. Однако войска Квантунской армии продолжали упорно сопротивляться. В связи с этим после разговора со мной на эту тему Сталина 16 августа в советской печати было опубликовано разъяснение Генштаба, в котором говорилось:
- Сделанное японским императором 14 августа сообщение о капитуляции является только общей декларацией о безоговорочной капитуляции. Приказ вооружённым силам о прекращении боевых действий ещё не отдан, и японские вооружённые силы по-прежнему продолжают сопротивление. Следовательно, действительной капитуляции вооружённых сил Японии ещё нет.
- Капитуляцию вооружённых сил Японии можно считать только с того момента, когда японским императором будет дан приказ своим вооружённым силам прекратить боевые действия и сложить оружие и когда этот приказ будет практически выполняться.
- Ввиду изложенного Вооружённые Силы Советского Союза на Дальнем Востоке будут продолжать свои наступательные операции против Японии».[68]
В начале сентября советские войска вышли на линию 38-й параллели, установленную соглашением союзных держав. В Северной части страны трудящиеся под руководством коммунистов приступили к строительству первого в истории Кореи подлинно независимого, народно-демократического государства (КНДР).
Но южнее 38-й параллели, где по согласованию между союзниками высадились американские войска (в начале сентября 1945 года), у власти остались капиталисты и помещики, которые превратили Южную Корею в оплот антикоммунизма и реакции.
Советская авиация господствовала в воздухе на всём театре военных действий. Тихоокеанский флот прочно закрепил за собой побережье Северной Кореи. Квантунская армия терпела сокрушительное поражение.
В 17 часов 17 августа от главнокомандующего Квантунской армией была принята радиограмма о том, что он отдал японским войскам приказ немедленно прекратить военные действия сдать оружие советским войскам. Однако на большинстве участков японские войска продолжали не только оказывать сопротивление, но местами переходили в контратаки. В связи с этим я вынужден был тогда же передать генералу Отодзо Ямаде следующую радиограмму:
«Штаб японской Квантунской армии обратился по радио к штабу советских войск на Дальнем Востоке с предложением прекратить военные действия, причём ни слова не сказано о капитуляции японских вооружённых сил в Маньчжурии. В то же время японские войска перешли в контрнаступление на ряде участков советско-японского фронта.
Предлагаю командующему войсками Квантунской армии с 12 часов 20 августа прекратить всякие боевые действия против Советских войск на всём фронте, сложить оружие и сдаться в плен. Указанный выше срок даётся для того, чтобы штаб Квантунской армии мог довести приказ о прекращении сопротивления и сдаче в плен до своих войск. Как только японские войска начнут сдавать оружие, советские войска прекратят боевые действия».
18 августа в 3 часа 30 минут Ямада ответил по радио Советскому Главнокомандованию о готовности выполнить все условия капитуляции.
18 августа на многих участках фронта японские части начали сдаваться в плен.
Для захвата важных военных и промышленных объектов и приёма капитуляции их гарнизонов были высажены воздушные десанты в Мукдене,Чанчуне, Порт-Артуре, Дальнем, Харбине и Гирине. Вслед за воздушными десантами в Мукден, Чанчунь, Порт-Артур и Дальний вступили передовые отряды, а затем части и соединения 6-й гвардейской танковой армии.
Японские военнослужащие, застигнутые врасплох, сдавались в плен. Среди пленных оказался и маньчжурский император Генри Пу-И. В 1933 году в возрасте 27 лет этот представитель Цинской династии был произведён японскими хозяевами в императоры Маньчжурии, став на самом деле их марионеткой. Его неотлучным спутником и постоянным советником стал японский генерал Иосиока.
При императоре имелось японское посольство, которое возглавлял командующий Квантунской армией.
Когда 19 августа 1945 года наше воздушно-десантное подразделение приземлилось на Мукденском аэродроме, Пу-И со свитой, включая его японских советников, уже готовился улететь в Японию, но вместо этого вынужден был сдаться в плен советским военнослужащим[69].
С 19 августа японские войска почти повсеместно начали капитулировать. У нас в плену оказалось 148 японских генералов, 594 тыс. офицеров и солдат. К концу августа было полностью закончено разоружение Квантунской армии и других сил противника, располагавшихся в Маньчжурии и Северной Корее. Успешно завершились операции по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов. Военная кампания Вооружённых Сил СССР на Дальнем Востоке увенчалась блестящей победой. Официально кампания длилась 24 дня. Были наголову разбиты ударные силы врага. Крах Квантунской армии ускорил капитуляцию Японии в целом.
Окончание войны на Дальнем Востоке спасло от гибели сотни тысяч американских и английских солдат, избавило миллионы японских граждан от неисчислимых жертв и страданий и предотвратило дальнейшее истребление и ограбление японскими оккупантами народов Восточной и Юго-Восточной Азии.
В результате разгрома Японии создались благоприятные условия для победы народных революций в Китае, Северной Корее и во Вьетнаме. Народно-освободительная армия Китая получила огромные запасы трофейного оружия. Только два наших фронта захватили у бывшей Квантунской армии и передали представителям НОА 3,7 тыс. орудий, миномётов, гранатомётов, 600 танков, 861 самолёт, около 1,2 тыс. пулемётов, почти 680 различных воинских складов, а также корабли Сунгарийской военной речной флотилии. Позднее была передана значительная часть советского оружия.
Не подлежит сомнению, что без решающей помощи Советского Союза китайский народ не смог бы так быстро сбросить ярмо японских милитаристов и добиться освобождения своей страны.
С разрешения Ставки я совершил поездку по освобождённой Маньчжурии. Прибывший из Москвы А.И. Микоян присоединился ко мне, и мы побывали в ряде городов, ознакомившись с состоянием оружия и складского хозяйства Квантунской армии. Судя по тому, что боевая техника, боеприпасы, обмундирование и продовольствие хранились в больших размерах и в хорошем состоянии, Япония намеревалась долго пребывать на Китайской земле.
Разгром японского милитаризма способствовал мощному подъёму национально-освободительного движения во всей Азии. 17 августа была провозглашена независимая Индонезийская республика.
2 сентября 1945 года, когда японский министр иностранных дел Сигемицу и начальник ГентабаУмедзу подписывали акт о безоговорочной капитуляции, президент Хо Ши Мин провозгласил Демократическую республику Вьетнам.
12 октября лаосские патриоты провозгласили Патет-ЛАО (свободную страну ЛАО).
Родина достойно оценила подвиг своих сынов. 93 воина стали Героями Советского Союза, а шестеро из них Золотую Звезду Героя получили во второй раз. Свыше 300 тыс. человек получили ордена и медали. Всем участникам войны с Японией была вручена медаль «За победу над Японией». И вот окончилась вторая мировая война.
Но окончание войны сразу же поставило перед партией и правительством новые задачи, и главные из них – это восстановление страны и перевод её и Вооружённых Сил на условия мирной жизни.
4 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР был упразднён Государственный Комитет Обороны. Прекратила свою деятельность и Ставка Верховного Главнокомандования. Непосредственно руководство Вооружёнными Силами было возложено на Наркомат Вооружённых Сил, в который вошёл и Военно-Морской Флот, Наркомат вскоре вместе с другими наркоматами был переименован в Министерство.
Находясь со своим штабом после разгрома Квантунской армии в Хабаровске, я в конце сентября 1945 года получил указание Сталина не позднее 29 сентября быть в Москве. Дальнейшее руководство на Дальнем Востоке и начавшимся за несколько дней до этого частичным выводом советских войск из Маньчжурии мне было приказано возложить на маршала Малиновского.
29 сентября я прибыл в Москву и вечером был принят И.В. Сталиным в его кремлёвском кабинете в присутствии большинства членов Политбюро. Из военных присутствовали при этом прибывший со мною в Кремль А.И. Антонов.
Сталин и члены Политбюро задали мне ряд вопросов, относящихся к нашей Дальневосточной кампании, к характеристике боеспособности японских войск и оценке японского командования, а также об отношениях к нам китайского населения и о положении в Китае в целом.
Затем Сталин, говоря о переходе страны и её Вооружённых Сил к мирным условиям, подчеркнул, что выработка более приемлемых и правильных направлений дальнейшего строительства, организации и развития Вооружённых Сил, расстановка руководящих кадров являются для ЦК партии и правительства одной из важнейших задач.
Поинтересовался при этом Сталин и моим настроением, планами на дальнейшее. Я ответил, что готов работать там, где укажет партия. Сталин порекомендовал мне прежде всего как следует отдохнуть с семьёй в одном из санаториев, а по возвращении будет решён вопрос о моей работе.
После этого он поздравил меня с наступающим 50-летием и тепло распрощался со мной.
На следующий день рано утром я взял «Правду» и с большим волнением и глубочайшей благодарностью прочитал на первой странице газеты приветствие в мой адрес ЦК ВКП(б) и Совета Народных комиссаров и Указ Президиума Верховного Совета СССР о моём награждении четвёртым орденом Ленина.
Через несколько дней я уехал на Кавказ. В марте 1946 года на заседании Политбюро ЦК ВКП(б), на котором рассматривался вопрос о расстановке в Вооружённых Силах руководящих кадров, я был вновь назначен начальником Генерального штаба, а Алексей Иннокентьевич, с его согласия, стал моим первым заместителем. С этого момента началась для меня новая полоса службы в дорогих мне Вооружённых Силах.
Послесловие
В заключение книги мне хотелось бы поделиться мыслями о руководящих советских военачальниках, о специфике и стиле полководческого труда. Звание полководца – это своего рода общенациональное признание военных заслуг военачальника, его умения руководить войсками в битвах и сражениях, его выдающихся побед на войне. Тот, кто не исполнял командную должность крупного масштаба, тот не имеет никаких перспектив на честь называться полководцем. В годы войны такие командующие, как Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский уже считались полководцами, находясь при определённых должностях. Для них и должность и звание полководца представляли одно признание их высоких заслуг перед Родиной, Вооружёнными Силами.
В первый год войны мы постоянно испытывали нехватку в генералах на руководящие должности. Но уже тогда у нас было немало хорошо подготовленных полководцев, таких как Г.К. Жуков, Б.М. Шапошников, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, Н.Ф. Ватутин, Р.Я. Малиновский, Л.А. Говоров, С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин, М.В. Захаров и многие другие.
Я уже отмечал, что Маршал Советского Союза Г.И. Кулик не смог ни командовать армией, ни выполнять обязанности представителя Ставки. И определялось это не возрастом, а недостаточной подготовкой, личными качествами. Он просто оказался не на месте.
Я писал, что командующий Южным фронтом Д.Т. Козлов во многом виновен, что операция по освобождению Крыма в 1942 году провалилась, за что он был отстранён от работы. Но Д.Т. Козлов – честный и преданный Родине генерал. Он не справился с возложенными на него обязанностями командующего фронта лишь потому, что эта должность оказалась ему не под силу. Когда же Д.Т. Козлов был назначен заместителем командующего фронтом, он работал успешно.
Полководческий стиль К.А. Мерецкова, которого Сталин шутливо называл «мудрым Ярославцем», на мой взгляд, отличали обстоятельность и предусмотрительность в хорошем понимании этих слов. Кирилл Афанасьевич предпочитал свои решения по фронту предварительно согласовывать с Генеральным штабом, обязательно выяснял мнение «Высшей инстанции» по той или иной разрабатываемой проблеме.
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что самой яркой фигурой среди полководцев в период Великой Отечественной войны являлся Г.К. Жуков. Военный талант Г.К. Жукова всё отчётливее проявлялся из года в год. Блестяще справился он с обязанностями командующего советскими войсками, которые, выполняя интернациональный долг, вместе с братской армией Монгольской Народной Республики наголову разбили вторгшихся в районе реки Халхин-Гол японских милитаристов. За успешное руководство разгромом японского агрессора Г.К. Жуков был удостоен звания Героя Советского Союза, а впоследствии и звания Героя Монгольской Народной Республики. Будучи членом Ставки Верховного Главнокомандования, а с августа 1942 года заместителем Верховного Главнокомандующего, он внёс большой вклад в разработку и осуществление операций по разгрому вражеских сил. Сила полководческого искусства и воля Г.К. Жукова особенно ярко нашли своё проявление в гигантских сражениях 1943-1945 годов.
Мне посчастливилось вместе с Георгием Константиновичем провести немало времени в размышлениях о мероприятиях по организации отпора врагу, выполнять важные поручения ГКО и Ставки Верховного Главнокомандования, помогать фронтовому командованию успешно решать боевые задачи. Я всегда восхищался его неукротимой энергией, широтой и глубиной стратегического мышления. Характерной чертой было его постоянное стремление научить командующих и войска искусству побеждать врага с наименьшими потерями и в короткие сроки. Нельзя не сказать при этом о его блестящем организаторском таланте.
Жуков не выглядел полководцем, стоящим над солдатской массой. При подготовке операций он держал теснейший контакт не только с командирами объединений и соединений, но и с офицерами частей и подразделений, особенно действовавших на главном направлении. И это давало ему возможность глубоко знать настроения подчинённых, управлять их действиями, направлять усилия воинов к победе.
При жизни, как известно, Георгий Константинович был увенчан высшими знаками отличий. Но лучшей наградой для него было то, что советские люди искренне уважали его как военачальника, столь много сделавшего для разгрома фашизма в годы второй мировой войны. Георгий Константинович Жуков был маршалом, четырежды Героем Советского Союза, но всё же высшим для себя званием он считал звание коммуниста, члена ленинской партии, в которой состоял 55 лет.
Закончить воспоминание о своём друге, я хотел бы его собственными словами. Они взяты из книги «Воспоминания и размышления», над которой Г.К. Жуков работал до последних дней своей жизни: «Я всегда чувствовал, что нужен людям, что постоянно им должен. А это, если думать о смысле человеческой жизни, самое главное. Моя судьба лишь маленький пример в общей судьбе советского народа».
Человеку, который чувствует такую слитность личной доли и личного дела с долей и делом народа, можно только позавидовать. Жизнь и деятельность такого человека достойны подражания.
О Борисе Михайловиче Шапошникове я уже довольно подробно высказал своё мнение в этой книге как об опытнейшем полководце. К Великому сожалению, серьёзнейшая болезнь вырвала его из наших рядов 26 марта 1945 года, то есть за сорок четыре дня до нашей великой победы, ради которой он отдал всё, что мог.
Пожалуй, близкий к Жуковскому по настойчивости и силе воли был характер у другого выдающегося полководца Великой Отечественной войны – Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева. Сын бедного крестьянина Вологодской губернии, рядовой солдат первой мировой войны. В двадцать лет он – военный комиссар Никольского уезда, руководитель сформированного им отряда. С этим же отрядом он выступил на фронт Гражданской войны. Вскоре И.С. Конева назначили комиссаром бронепоезда, оперировавшего в Забайкалье. Затем он комиссар бригады, дивизии, корпуса. Великую Отечественную войну Иван Степанович начал в должности командующего армией. Вступив в командование Калининским фронтом в тяжёлые дни обороны Москвы, он на протяжении всех последующих лет войны возглавлял фронты. Сражения под Москвой, на Курской дуге, форсирование Днепра и жаркие бои за расширение плацдармов на его противоположном берегу, наступление на Правобережной Украине и в западных её областях, операции гигантского масштаба в Польше, на берлинском направлении, в Чехословакии – таковы этапы боевого пути замечательного полководца, дважды Героя Советского Союза Ивана Степановича Конева. Зная его по работе на фронте, должен прежде всего сказать, что он любил много бывать в войсках.
Незабываемый К.К. Рокоссовский был щедро одарён полководческим талантом. Его также отличало особое умение прочно опираться на штаб при решении оперативных вопросов и в управлении войсками. С начальником же штаба генералом М.С. Малининым у Константина Константиновича были самые тёплые отношения.
Безусловно, талантливым полководцем был Р.Я. Малиновский. Он рос в Одессе. В 1914 году начал свой жизненный путь в окопах первой мировой войны. По возвращении в 1919 году из Франции, где Р.Я. Малиновский находился в составе русских экспедиционных войск, он, не раздумывая, добровольно вступил в ряды Красной Армии и отважно сражался с белогвардейцами. В 1927 году командир батальона Р.Я. Малиновский поступил в Военную академию имени М.В. Фрунзе, которую окончил по первому разряду. Полученные знания пригодились в первой же схватке с фашизмом, когда Родион Яковлевич под именем «полковника Малино» сражался в рядах добровольцев, защищая республиканскую Испанию. За самоотверженное выполнение интернационального долга он был награждён орденами Ленина и Красного Знамени. Незадолго до начала Великой Отечественной войны старший преподаватель Академии имени М.В. Фрунзе генерал-майор Р.Я. Малиновский был назначен командиром 48-го стрелкового корпуса, принявшего на себя первые удары немецко-фашистских войск на пограничной реке Прут. В 1942 году Родион Яковлевич занимал ряд ответственных командных должностей, в том числе командующего 2-й гвардейской армией, которая совместно с другими войсками Сталинградского фронта нанесла сокрушительный удар по группировке Манштейна, пытавшего разорвать извне кольцо, замкнувшее под Сталинградом 330 тысяч отборных немецко-фашистских войск. В начале февраля 1943 года Р.Я. Малиновский был назначен командующим Южным фронтом. С этого времени и до конца войны он возглавлял войска ряда фронтов.- Юго-Западного, 2-го и 3-го Украинских, Забайкальского. Его полководческий почерк зримо преступал в операциях по освобождению Ростова-на Дону, Донбасса, юга Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии, а также в разгроме Квантунской армии в Маньчжурии.
Требовательным и настойчивым был Л.А. Говоров. Внешне он казался сухим и даже угрюмым, но на самом деле был добрейшим человеком. Он никогда ни на кого не повысил голоса, и если был чем-то недоволен, то либо смолчит, либо пробурчит что-то про себя. Организованности Леонида Александровича можно было позавидовать. Ни один офицер управления фронта не сидел у него без дела. Он отлично знал работу штаба, но не брал на себя функции, которые надлежало выполнять начальнику штаба.
Много положительного было в работе В.Д. Соколовского, особенно это касалось разработки планов операций. Он успешно справлялся с обязанностями как начальника штаба фронта, так и командующего войсками фронта. Однако наиболее ярко он проявил себя на штабной работе – в качестве начальника штаба фронта, а после войны – начальника Генерального штаба.
Несомненно, одарённым полководцем является И.Х. Баграмян. Он обладает и командным и штабным опытом, что помогало ему успешно решать как вопросы руководства войсками, так и разработки планов операций. При этом он старался изыскать кратчайшие пути к победе. Характер у Ивана Христофоровича также твёрдый, непреклонный.
Как-то я прибыл с фронта в Ставку. Дела на фронте шли хорошо. Верховный Главнокомандующий был доволен представителями Ставки. Помню, обращаясь ко мне, он сказал:
— Товарищ Василевский, вы вот такой массой войск руководите и у вас это неплохо получается, а сами, наверно, и мухи никогда не обидели. Это была шутка. Но скажу откровенно, что не всегда легко было оставаться спокойным и не позволять себе повысить голоса. Но. Сожмёшь, бывало, до боли кулаки и смолчишь, удержишься от ругани и окрика. Умение вести себя в отношении подчинённых с достоинством – непременное качество советского военачальника.
Деятельность Генерального штаба находила понимание и поддержку со стороны командующих фронтами. Положительно отозвался о ней Г.К. Жуков. Должен с удовлетворением отметить, пишет он, что наш Генеральный штаб «был на большой высоте в искусстве планирования крупных стратегических и наступательных операций и кампаний».
Период оборонительных боёв был наиболее трудным. Управление войсками осуществлялось под сильным воздействием противника. Естественно, что не всё получалось так, как хотелось бы, допускались просчёты. Установка на то, чтобы вести не просто оборонительные действия, а активную оборону, повысила требования к командующим фронтами и армиями. В активной обороне ярко проявилось полководческое дарование Г.К. Жукова. Настало долгожданное время наступления советских войск. Не всем это удавалось. Помню, как трудно осваивал наступательные действия командующий Северо-Кавказским фронтом И.Е. Петров. Он умело руководил оборонительными действиями Приморской армии под Севастополем, показал знание оперативного искусства и личное мужество. Но встав во главе наступающего фронта, он подрастерялся, и мы почувствовали перебои в действиях войск, и кое-кто уже внёс предложение об его освобождении. Но Верховный Главнокомандующий ответил:
— Петрова нужно не освобождать от работы, а научить вести наступление. Учтите, что он ни разу в жизни не наступал. Прошло какое-то время и И.Е. Петров стал неплохо проводить наступательные операции.
Советская стратегия была реалистической, основывалась на глубоком и правильном понимании политической обстановки и общих условий ведения вооружённой борьбы.
Характерна в этом отношении оценка советского военного руководства, которую дал Франк Гальдер, бывший с сентября 1938 года по сентябрь 1942 года начальником генерального штаба германских сухопутных войск и считавшийся одним из крупнейших немецких специалистов: «Исторически небезынтересно исследовать, как русское военное руководство, потерпевшее крушение со своим принципом жёсткой обороны в 1941 году, развивалось до гибкого оперативного руководства и провело под командованием своих маршалов ряд операций, которые по немецким масштабам заслуживают высокой оценки, в то время как немецкое командование под влиянием полководца Гитлера отказалось от оперативного искусства и закончило его бедной по идее жёсткой обороной, в конечном итоге приведшей к полному поражению».
Буржуазная пропаганда, особенно западногерманская, пытается запачкать грязью доброе имя Советского воина-освободителя, распускает немало различных небылиц о якобы «зверствах» советских войск на территории Германии, истреблении мирного населения и т.д.
Всё это злостная клевета, так же далекая от правды, как небо от земли. Лютовали гитлеровцы в нашей стране. Советские воины, напротив, помогали мирным немцам, спасали попавших в беду. Если бы не безрассудное упрямство гитлеровских властей, их нежелание капитулировать, то жертв среди мирного населения и в войсках с обеих сторон было бы значительно меньше.
Завершая свою книгу, я хочу отдать должное главному герою Великой Отечественной войны — советскому рядовому бойцу и партизану, младшему, среднему и старшему командному и политическому составу наших славных Вооружённых Сил.
Из переписки с читателем
В 1973 году в издательстве политической литературы вышла моя книга воспоминаний «Дело всей жизни». С тех пор в мой адрес поступило множество писем читателей, в которых они высказывают своё мнение, пожелания, просят разъяснить те или иные положения. Поэтому я решил дать ответ читателям через «Военно-исторический журнал»[70], редакция которого столь любезно предложила его страницы.
Пишут мне и о том, что, дескать, всем известно, что Коммунистическая партия и Советское правительство в предвоенные годы прилагали максимум усилий к тому, чтобы поднять боеготовность страны и её Вооружённых Сил до такой степени, чтобы фашистская Германия не могла застать нас врасплох. Тогда почему же нападение летом 1941 года оказалось для страны столь неожиданным? Почему вооружённые силы фашистов в первый год войны оказались более мощными, чем Советские? Отвечаю: в силу того, что Германия оказалась поначалу в более выгодных условиях. Она уже два года воевала и перевела на военные рельсы всё производство. Кроме того, в её распоряжении оказались военно-экономические ресурсы почти всей Западной Европы. Оккупировав Францию и прекратив почти полностью воздушные налёты на Англию, Гитлеровская Германия, по существу, уже не вела военных действий на западе. Это дало ей возможность бросить против СССР почти все сухопутные и воздушные силы.
Серьёзной причиной наших неудач явились просчёты в оценке возможного времени нападения на нашу страну фашистской Германии и упущения в подготовке к отражению первых ударов. Возглавлявший руководство партией и страной И.В. Сталин стремился оттянуть военное столкновение с Германией, чтобы использовать время для подготовки армии и страны к войне.
Он не давал согласия на приведение войск приграничных округов в полную боевую готовность, считая, что этот шаг может быть использован фашистскими правителями третьего рейха как предлог для войны. Войска, находившиеся в приграничных районах, оказались недостаточно подготовленными к отражению агрессии. Мощный удар гитлеровской военной машины обрушился на них внезапно. На направлении своих главных ударов враг имел тройное и даже пятикратное превосходство в силах. Наши приграничные войска вынуждены были вступить в борьбу разрозненно, без необходимого воздушного прикрытия и артиллерийской поддержки. Поэтому они не смогли задержать фашистов на оборонительных рубежах и тем самым дать возможность более организовано вступить в сражение войскам, которые подходили из глубины страны. В ходе подготовки к войне были допущены и другие просчёты. Мы неверно определили направление главного удара немецко-фашистских войск и, как следствие, неправильно распределили силы и средства своих войск. В нашем оперативном плане обороны главным направлением считалось Юго-Западное, а Гитлеровская Германия сосредоточила максимум сил и средств на Западном с целью захвата Москвы. Она оказалась в более выгодном стратегическом положении. Несколько слов о том, почему советское командование запоздало с привлечением войск приграничной зоны в полную боевую готовность. Здесь почти всё зависело от позиции Сталина. Должен отметить, что он правильно считал, что в вопросе с привлечением Вооружённых Сил в боевую готовность нужна была тогда максимальная осторожность, выдержка и хладнокровие, так как затрагивалась внешняя политика Советского Союза, его международные позиции. Не соглашаясь на приведение войск приграничной зоны в боевую готовность, Сталин не хотел давать ни малейшего повода для провокации гитлеровской Германии, для обвинения СССР в агрессивности. Принимая во внимание тот факт, что для большой войны наша страна была ещё недостаточно готова, он стремился выиграть время, чтобы лучше укрепить обороноспособность государства. Нам были крайне нужны год-два мирного развития, чтобы решить задачи военного плана.
Но вина его состоит в том, что он не увидел, не уловил того предела, дальше которого такая политика становилась не только ненужной, но и опасной. Такой предел следовало смело перейти, максимально быстро привести Вооружённые Силы в полную боевую готовность, осуществить мобилизацию, превратить страну в военный лагерь. Следовало, видимо, тянуть время где-то максимум до июня, но работу, какую можно вести скрытно, выполнить ещё раньше. Доказательств того, что Германия изготовилась для военного нападения на нашу страну, имелось достаточно – в наш век их скрыть трудно. Опасения, что на Западе поднимется шум по поводу якобы агрессивных устремлений СССР, нужно было отбросить. Мы подошли волей обстоятельств, не зависящих от нас, к рубикону войны, и нужно было твёрдо сделать шаг вперёд этого требовали интересы нашей родины.
Бои начались[71]
Сочетая усилия пехоты, артиллерии и незначительного количества танков, комбинируя их действия, мы стремились нанести противнику как можно большой урон. И это нам удавалось на протяжении всех боёв под Луцком и под Новоград-Волынским (июнь 1941 г. – А.М).
За отличия в этих боях все командиры дивизий 9-го мехкорпуса, многие командиры полков и другие офицеры и политработники были отмечены правительственными наградами. Получил орден наш неутомимый начальник штаба. В числе товарищей и я был награждён четвёртым орденом Красного Знамени…
Система ячеечной обороны оказалась для войны непригодной. Мы обсудили в своём коллективе и мои наблюдения и соображения офицеров, которым было поручено приглядеться к пехоте на передовой. Все пришли к выводу, что надо немедленно ликвидировать систему ячеек и переходить на траншеи.
В тот же день всем частям группы были даны соответствующие указания.
Послали донесение командующему Западным фронтом. Маршал Тимошенко с присущей ему решительностью согласился с нами. Дело пошло на лад проще и легче. И оборона стала прочнее.
Были у нас старые солдаты, младший комсостав времён первой мировой войны, офицеры, призванные по мобилизации. Они траншеи помнили и помогли всем быстро усвоить эту несложную систему.
Волоколамское направление
Обрадовала нас прибывшая из Сибири 78-я стрелковая дивизия. Её привёл под Москву замечательный боевой командир полковник А.П. Белобородов. Состояла она преимущественно из сибиряков, а среди наших прекрасных солдат сибиряки всегда отличались особой стойкостью.
С Г.К. Жуковым мы дружили многие годы. Судьба не раз сводила нас и снова надолго разлучала. Впервые мы познакомились ещё в 1924 году в Высшей кавалерийской школе в Ленинграде. Прибыли мы туда командирами кавалерийских полков: я из Забайкалья, он с Украины. Учились со всей страстью. Естественно, сложился дружный коллектив командиров – коммунистов, полных энергии и молодости. Помнится, там были Баграмян, Синяков, Ерёменко и другие товарищи.
Жуков, как никто, отдавался изучению военной науки. Заглянем в его комнату – всё ползает по карте, разложенной на полу. Уже тогда дело, долг для него были превыше всего.
В самом начале тридцатых годов наши пути сошлись в Минске, где мне довелось командовать кавалерийской дивизией в корпусе С.К. Тимошенко, а Г.К. Жуков в этой же дивизии командиром полка.
Накануне войны мы встретились в ином качестве: генерал армии Жуков командовал Киевским Особым военным округом, а я, в звании генерал-майора, – кавалерийским, а затем механизированным корпусом. Георгий Константинович рос быстро. У него всего было через край – и таланта, и энергии, и уверенности в своих силах.
И вот на Западном фронте во время тяжёлых боёв на подступах к Москве мы снова работаем вместе (когда Г.К. Жуков был командующим Западным фронтом, а К.К. Рокоссовский командующим 16 армией (зима 1941-1942гг. – А.М).
Но теперь наши служебные отношения порой складываются не очень хорошо. В моём представлении Георгий Константинович Жуков остаётся человеком сильной воли и решительности, богато одарённым всеми качествами, необходимыми крупному военачальнику. Главное, видимо, состояло в том, что мы по-разному понимали роль и форму проявления волевого начала в руководстве. На войне же от этого многое зависит.
Высокая требовательность – необходимая и важнейшая черта военачальника. Но железная воля у него всегда должна сочетаться с чуткостью к подчинённым, умением опереться на их ум и инициативу.
Наш командующий в те тяжёлые дни не всегда следовал этому правилу. Бывал он и несправедлив, как говорят, под горячую руку.
Спустя несколько дней после одного из бурных разговоров с командующим фронтом я ночью вернулся с истринской позиции, где шёл жаркий бой. Дежурный доложил, что командарма вызывает к ВЧ Сталин… Идя к аппарату, я представлял, под впечатлением разговора с Жуковым, какие же громы ожидают меня сейчас. Во всяком случае, приготовился к худшему. Взял разговорную трубку и доложил о себе. В ответ услышал спокойный, ровный голос Верховного Главнокомандующего. Он спросил, какая сейчас обстановка на истринском рубеже. Докладывая об этом, я сразу же пытался сказать о намеченных мерах противодействия. Но Сталин мягко остановил, сказав, что о моих мероприятиях говорить не надо. Тем подчёркивалось доверие к командарму. В заключение разговора Сталин спросил, тяжело ли нам. Получив утвердительный ответ, он сказал, что понимает это:
— Прошу продержаться ещё некоторое время, мы вам поможем…
Нужно ли добавлять, что такое внимание Верховного Главнокомандующего означало очень многое для тех, кому оно уделялось. А тёплый, отеческий тон подбадривал, укреплял уверенность. Не говорю уже, что к утру прибыла в армию и обещанная помощь…
Начиная с первых же боёв основным средством противодействия вражеским танкам, которые подавляли своей массой и подвижностью, являлась прежде всего артиллерия. Неувядаемой славой покрыла она себя в битве под Москвой.
Артиллерия и миномёты как в обороне, так и в наступлении оказались на высоте. И я считаю своим долгом это подчеркнуть. Ещё задолго до начала Великой Отечественной войны наша партия и её Центральный Комитет, предвидя значение и роль артиллерии на полях сражений, приняли надлежащие меры для обеспечения Вооружённых Сил страны артиллерийским и миномётным оружием совершенных образцов. В целой сети учебных заведений (артучилища, Артиллерийская академия, курсы усовершенствования и переподготовки) ковались высококвалифицированные офицерские кадры.
К чести лиц высшего командного состава, возглавлявших артиллерию Советской Армии, нужно отнести то, что наша артиллерия по своим качествам, по уровню подготовки офицеров и всего личного состава была намного выше артиллерии армий всех капиталистических стран. И она это доказывала на протяжении всей Великой Отечественной войны.
Памятные уроки
Вечером мы все решили пойти на собрание, посвящённое Международному женскому дню (1942г. – А.М). В нашей штаб-квартире, как обычно, работали вместе со мной Малинин, Казаков и ещё несколько офицеров штаба. Я уже взялся за ручку подписать приказ. За окном разорвался бризантный снаряд, и осколок угодил мне в спину. Сильный удар… Невольно сорвались слова:
— Ну кажется попало. – Выговорил их с трудом, почувствовал, что перехватило дыхание.
Ранение оказалось тяжёлым: по распоряжению командующего фронта меня эвакуировали на самолёте в Москву, в госпиталь, занимавший тогда здания Тимирязевской академии.
Это было уже третье ранение за время службы в рядах Красной Армии. И всё вышло не так, как раньше.
7 ноября 1919 года мы совершили набег в тыл белогвардейцам. Отдельный Уральский кавалерийский дивизион, которым я тогда командовал, прорвался ночью через боевые порядки колчаковцев, добыл сведения, что в станице Караульная расположился штаб омской группы, зашёл с тыла, атаковал станицу и, смяв сопротивление белых частей, разгромил этот штаб, захватив пленных, в их числе много офицеров. Во время атаки при единоборстве с командующим омской группой генералом Воскресенским я получил от него пулю в плечо, а он от меня – смертельный удар шашкой.
В июне 1921 года Красная Армия добивала барона Унгерна на границе с Монголией. У станицы Желтуринская, командуя 35-м кавполком, я атаковал прорвавшуюся через нашу пехоту унгерновскую конницу и, зарубив несколько вражеских всадников, был второй раз ранен в ногу с переломом кости. Те раны были получены в жаркой схватке. Враги сходились грудь с грудью.
А вот третье ранение… Комнатная обстановка, перо в руке, случайно разорвавшийся близ дома снаряд. Не то время… Не та война. И должность не та.
* * *
В начале июля (1942г. – А.М) меня вызвал к ВЧ Г.К. Жуков. Он спросил, справится ли с должностью командарма Малинин. Недоумевая, я ответил утвердительно. Тогда Жуков сказал, что Ставка намерена назначить меня командующим Брянским фронтом.
— Предупреди Малинина и, как получишь распоряжение Ставки, срочно выезжай в Москву…
В Ставке я был тепло принят Верховным Главнокомандующим. Он в общих чертах познакомил меня с положением на воронежском направлении, а после этого сказал, что если у меня имеются на примете дельные работники, то он поможет мне их заполучить для укомплектования штаба и управления Брянского фронта… Я назвал М.С. Малинина, В.И. Казакова, Г.Н. Орла и П.Я. Максименко.
Сталин тут же отдал командующему Западным фронтом (Жукову. – А.М) распоряжение откомандировать этих товарищей. Он пожелал мне успеха на новой должности, велел не задерживаться долго в Генеральном штабе, а быстрее отправляться на место, потому что обстановка под Воронежем сложилась весьма серьёзная…
Незадолго до Воронежской операции снова пришлось быть в Москве на докладе у Верховного Главнокомандующего. Кончив дела, я хотел подняться, но Сталин сказал:
— Подождите, посидите.
Он позвонил Поскрёбышеву (его помощник. – А.М) и попросил пригласить к нему генерала, только что отстранённого от командования фронтом. И далее произошёл такой диалог:
— Вы жалуетесь, что мы несправедливо вас наказали?
— Да. Дело в том, что мне мешал командовать представитель центра.
— Чем же он вам мешал?
— Он вмешивался в мои распоряжения, устраивал совещания, когда нужно было действовать, а не совещаться, давал противоречивые указания… Вообще подменял командующего.
— Так. Значит он вам мешал. Но командовали фронтом вы?
— Да, я…
— Это вам партия и правительство доверили фронт… ВЧ у вас было?
— Было.
— Почему же не доложили, хотя бы раз, что вам мешают командовать?
— Не осмеливался жаловаться на вашего представителя.
— Вот за то, что не осмелились снять трубку и позвонить, а в результате провалили операцию, мы вас и наказали…
Я вышел из кабинета Верховного Главнокомандующего с мыслью, что мне, человеку, недавно принявшему фронт, был дан предметный урок. Поверьте, я постарался его усвоить.
В августе 1942 года к нам на пополнение прибыла стрелковая бригада, сформированная из людей, осуждённых за различного рода уголовные преступления. Вчерашние заключённые добровольно вызвались идти на фронт, чтобы ратными делами искупить свою вину.
Правительство поверило чистосердечным их порывам, и таким образом и появилась эта бригада у нас на фронте… «Беспокойная» бригада воевала неплохо. За доблесть в боях с большинства её бойцов судимость была снята, а у многих появились на груди ордена и медали. Жизнь убедила меня, что можно верить даже тем, кто в своё время по каким-то причинам допустил нарушение закона. Дайте такому человеку искупить свою вину, и увидите, что хорошее возьмёт в нём верх, любовь к Родине, к своему народу, стремление во что бы то ни стало вернуть их доверие сделают его отважным бойцом.
* * *
Меня срочно вызвал Верховный Главнокомандующий. Он сказал, что в связи с тяжёлым положением – врагу местами удалось прорваться к Волге – наша операция отменяется, а предназначавшиеся для неё войска направляются под Сталинград. Мне следует вылететь туда же и принять командование Сталинградским фронтом.
Остальные указания получите на месте от моего заместителя Жукова, который тоже вылетает под Сталинград. Вышел я от Верховного с невесёлыми мыслями. Опять не удалось осуществить правильно задуманный контрудар. Единственным утешением была мысль, что меня посылают туда, где сейчас идут напряжённые бои, а не возвращают на спокойный участок.
Жуков приказал мне принять командование Сталинградским фронтом (который вскоре был переименован в Донской, а Юго-Восточный – в Сталинградский)…. Я попросил предоставить мне возможность самому командовать войсками в духе общей задачи, поставленной Ставкой, сообразуясь со сложившейся обстановкой…
Чтобы выручить окружённые под Сталинградом войска, немецко-фашистское командование решило нанести контрудар на котельниковском направлении… Командующий Сталинградским фронтом генерал А.И. Ерёменко, опасаясь как бы враг не прорвался к своим войскам, обратился в Ставку с просьбой передать ему прибывавшую под Сталинград 2-ю гвардейскую армию для использования её против группы Манштейна.
Переговоры на эту тему А.М. Василевский вёл по ВЧ в моём присутствии. Передав мне трубку, он предупредил, что решается вопрос о передаче прямо с похода 2-й гвардейской армии в Сталинградский фронт.
В трубке послышался голос Сталина. Он спросил меня, как я отношусь к такому предложению. Я ответил отрицательно. Тогда Сталин продолжил переговоры с Василевским. Представитель Ставки настойчиво доказывал необходимость передачи армии Малиновского Сталинградскому фронту, так как Ерёменко сомневается в возможности имеющимися силами отразить наступление противника.
После этого тут же по ВЧ Сталин сообщил мне, что он согласен с доводами Василевского, что моё решение разделаться сначала с окружённой группировкой, используя для этого 2-ю гвардейскую армию смелое и заслуживает внимания, но в сложившейся обстановке оно слишком рискованное, поэтому я должен армию Малиновского, не задерживая, спешно направить под Котельниково в распоряжение Ерёменко. Вскоре после этого разговора пришла директива Ставки о передаче всех войск, задействованных под Сталинградом, в состав Донского фронта. Это мероприятие было своевременным…
Конец вражеской группировки
Дело прошлое, но мне думается, что было бы всё же более целесообразно 2-ю гвардейскую армию использовать так, как вначале намеревалась поступить Ставка, т.е. быстро разделаться с окружённой группировкой. Этот смелый вариант открывал огромные перспективы для будущих действий наших войск на южном крыле советско-германского фронта. Как говорится игра стоила свеч.
Конечно, меня снова могут упрекнуть, что сейчас, когда всё стало ясным, можно смело рассуждать о чём угодно, но я и тогда был сторонником использования 2-й гвардейской армии в первую очередь для разгрома окружённой группировки, предлагая в случае приближения вражеских сил к котлу повернуть против них всю 21-ю армию. Ставка предпочла принять другой вариант, надёжно гарантирующий от всяких неожиданностей.
…. Приказываю (командующему 65-ой армии Батову П.И. – А.М) прекратить наступление, отвести войска в исходное положение и перейти к обороне, ведя силовую разведку, с тем чтобы держать противника в напряжении.
Конечно, за такое самовольство мне могло крепко влететь. И я уже привык в подобных случаях обращаться непосредственно к Сталину: Чаще всего он утверждал решение командующего фронтом, если тот приводил всякие доводы и умел проявить настойчивость в доказательство своей правоты.
Так было и в данном случае. Сталин выслушав меня внимательно, вначале слегка вспылил, а затем согласился с моим решением. Это помогло нам сберечь силы, технику и боеприпасы для решающей битвы.
Победа была достигнута в очень трудных условиях. На это были способны только советский народ и его Красная Армия, руководимые Ленинской Коммунистической партией.
Отношение к военнопленным (взятым в Сталинграде) со стороны бойцов и командиров Красной Армии было поистине гуманным, я бы сказал больше – благодарным. И это невзирая на то, что нам всем было известно, как бесчеловечно относились фашисты к нашим людям, оказавшимся у них в плену.
4 февраля (1943г. – А.М) по распоряжению Ставки меня и Воронова вызвали в Москву. Поэтому мы не смогли присутствовать на митинге, организованном в Сталинграде по случаю разгрома врага и окончательного освобождения города.
Приземлились на Центральном аэродроме. Во время подруливания самолёта к месту высадки меня удивил и несколько даже насторожил вид встречавших нас генералов и офицеров: на их плечах золотом сияли погоны.
… Все разъяснилось: у нас в Красной Армии были введены погоны, о чём мы до этого не знали. В тот же день мы направились в Кремль и были приняты Сталиным. Завидя нас, он быстрыми шагами приблизился и, не дав нам по-уставному доложить о прибытии, стал пожимать нам руки, поздравляя с успешным окончанием операции по ликвидации вражеской группировки.
Чувствовалось, что он доволен ходом событий. Беседовали мы долго. Сталин высказал некоторые соображения о будущем развитии боевых действий.
Напутствуемые пожеланиями новых успехов, мы оставили его кабинет. Не могу умолчать о том, что Сталин в нужные моменты умел обворожить собеседника теплотой и вниманием и заставить надолго запомнить каждую встречу с ним.
Курский выступ
Перед прощанием Сталин предупредил, что на меня возлагается новая задача, от успешного решения которой зависит многое. В Ставке Верховного Главнокомандования ознакомили с общим планом развития наступления на курском направлении. Ради этого и создавался новый фронт, который был назван Центральным.
Крах цитадели
Знакомясь с войсками 60-й армии, переданной нам из Воронежского фронта, я внимательно приглядывался к генералу М.Д. Черняховскому. Это был замечательный командующий. Молодой, культурный, жизнерадостный. Изумительный человек! Было видно, что в армии его очень любят. Мне казалось, что с Черняховским каждому легко работать. Но вот член Военного совета армии А.И. Запорожец никак не мог найти с ним общий язык…
И начались у него стычки с молодым, растущим командармом. Как мы с К.Ф. Телегиным (член Военного совета фронта. – А.М) ни старались сгладить их отношения, ничего не вышло. Было видно, что это разные люди, дружной работы не получится. Пришлось доложить Верховному Главнокомандующему. Сталин выслушал, подумал немного и согласился:
— Да, их надо развести.
Через два дня Запорожец был отозван в Москву.
На белорусской земле
Меня (командующего 1-ым Белорусским фронтом) вызвал к аппарату Сталин. Спросил, нет ли у меня на примете хорошего командарма, который мог бы возглавить армию под Ленинградом. И подчеркнул, что я, по-видимому, понимаю, как это важно. Не задумываясь, я назвал фамилию генерала И.И. Федюнинского. Сталин, поблагодарив меня, приказал немедленно направить Ивана Ивановича самолётом в Москву.
Рекомендуя его на ответственный и важный участок фронта, я был уверен, что Иван Иванович именно тот кандидат, который требуется. И в этом я не ошибся.
Не успели мы обосноваться на новом месте – меня вызвали к аппарату. Сталин сказал, что у Ватутина неблагополучно, что противник перешёл там в наступление, овладел Житомиром. Положение становится угрожающим. Если так и дальше пойдёт, то гитлеровцы могут ударить и во фланг войскам Белорусского фронта.
В голосе Сталина чувствовалось раздражение и тревога. В заключение он приказал мне немедленно выехать в штаб 1-го Украинского фронта в качестве представителя Ставки, разобраться в обстановке на месте и принять все меры к отражению наступления врага…
Перед самым выездом мне вручили телеграмму с распоряжением Верховного: в случае необходимости немедленно вступить в командование 1-м Украинским фронтом, не ожидая дополнительных указаний…
Н.Ф. Ватутина я знал давно: в Киевском особом военном округе он был начальником штаба. Высокообразованный в военном отношении генерал. Всегда спокойный и выдержанный. Сообща наметили, как выправить положение. Забегая вперёд, скажу, что Ватутин блестяще справился с задачей, нанёс такие удары, которые сразу привели гитлеровцев в чувство и вынудили их спешно перейти к обороне.
Свои выводы об обстановке, о мероприятиях, которые уже начали проводиться войсками 1-го Украинского фронта, и о том, что Ватутин, как командующий фронтом, находится на месте и войсками руководит уверенно, я по ВЧ доложил Верховному Главнокомандующему и попросил разрешения вернуться к себе. Сталин приказал донести обо всём шифровкой, что я и сделал в тот же день.
А на следующее утро мне уже вручили депешу из Ставки с разрешением вернуться к себе на Белорусский фронт.
С Ватутиным мы распрощались очень тепло.
Возглавлял в это время Генеральный штаб А.И. Антонов. Я относился к нему с большим уважением, но, при всех его положительных качествах крупного оперативного работника, он редко брался отстаивать какой-либо вопрос перед Верховным Главнокомандующим. Мне приходилось, бывая в Ставке, неоднократно обращаться к нему с просьбами относительно обеспечения намечаемой операции, и ответ был обычно один: «Пусть этот вопрос решит сам товарищ Сталин».
В марте (1944г. – А.М) Верховный Главнокомандующий пригласил меня к аппарату ВЧ, в общих чертах ориентировал относительно планируемой крупной операции и той роли, которую предстояло играть в ней 1-му Белорусскому фронту. Затем Сталин поинтересовался моим мнением. При разработке операции он и раньше прибегал к таким вот беседам с командующими фронтами.
Для нас – сужу по себе – это имело большое значение.
Окончательно план наступления (в Белоруссии. – А.М) отрабатывался в Ставке 22 и 23 мая. Наши соображения о наступлении войск левого крыла фронта на люблинском направлении были одобрены, а вот решение о двух ударах на правом крыле подверглось критике.
Верховный Главнокомандующий и его заместитель настаивали на том, чтобы нанести один главный удар – с плацдарма на Днепре (район Рогачёва), находившегося в руках 3-й армии. Дважды мне предлагали выйти в соседнюю комнату, чтобы продумать предложение Ставки. После каждого такого «продумывания» приходилось с новой силой отстаивать своё решение. Убедившись, что я твёрдо настаиваю на нашей точке зрения, Сталин утвердил план операции в том виде, как мы его представили.
— Настойчивость командующего фронтом, — сказал он, – доказывает, что организация наступления тщательно продумана. А это надёжная гарантия успеха. Вся операция получила условное название «Багратион» (всё это было уже продумано и согласовано, но Сталин решил немного «повоспитывать» командующего фронта.
Варшава
Но те, кто толкнул варшавян на восстание, не думали о соединении с приближавшимися войсками Советского Союза и Польской армии. Они боялись этого. Они думали о другом, заложив в восстание элементы политиканства захватить в столице власть до прихода в Варшаву Советских войск. Так приказывали господа из Лондона.
Деятельное участие в выяснении событий в Варшаве приняли польские товарищи из Люблина. Спустя некоторое время стало известно, что восстание было организовано группой офицеров АК и началось 1 августа по сигналу польского эмигрантского правительства из Лондона. Руководил восстанием генерал Бур-Комаровский и его помощник генерал Монтер (командующий Варшавским военным округом).
Главенствующую роль играла Армия Крайова… К восстанию примкнули все патриотически настроенные варшавские жители…
А вот тем, кто поднял народ Варшавы на восстание в такой исключительно невыгодной обстановке, следовало подумать, решаясь на этот шаг.
Продолжались бои и севернее Праги (предместье Варшавы на правой стороне Вислы. – А.М), на модлинском направлении.
Разыгравшаяся в Варшаве трагедия не давала покоя. Сознание невозможности предпринять крупную операцию для того, чтобы выручить восставших, было мучительным.
В этот период со мной беседовал по ВЧ Сталин. Я доложил обстановку на фронте и обо всём, что связано с Варшавой. Сталин спросил, в состоянии ли войска фронта предпринять сейчас операцию по освобождению Варшавы. Получив от меня отрицательный ответ, он попросил оказать восставшим возможную помощь, облегчить их положение. Мои предложения, чем и как будем помогать, он утвердил…
С 13 сентября по 1 октября 1944 года авиация фронта произвела в помощь восставшим 4821 самолётовылет, в том числе с грузами для повстанческих войск – 2535.
Наши самолёты по заявкам повстанцев прикрывали их районы с воздуха, бомбили и штурмовали немецкие войска в городе.
Решаясь на героический десант, польские воины 1-й польской армии в составе 1-го Белорусского фронта шли на самопожертвование, стремясь выручить попавших в беду соотечественников, но их предали те, для кого интересы власть имущих были дороже интересов родины.
С этого момента руководство АК начало подготовку к капитуляции, о чём в архивах сохранился довольно богатый материал. Наши предложения о помощи желающим эвакуироваться из Варшавы на восточный берег не были приняты во внимание. Уже после капитуляции удалось перебраться на нашу сторону Вислы всего нескольким десяткам повстанцев. Так трагически закончилось варшавское восстание.
В пределы Германии
Вернувшись на фронтовой КП, связался с Москвой. Доложил о моём решении прекратить наступление (на Варшаву. – А.М).
Сталин ответил не сразу, попросил немного подождать. Вскоре он снова вызвал меня на ВЧ. Сказал, что с предложением согласен.
Приказал наступление прекратить и приступить к подготовке новой наступательной операции.
Только мы собрались в столовой поужинать, дежурный офицер доложил, что Ставка вызывает меня к ВЧ. У аппарата был Верховный Главнокомандующий.
Он сказал, что я назначаюсь командующим войсками 2-го Белорусского фронта. Это было столь неожиданно, что, не подумав, я тут же спросил:
— За что такая немилость, что меня с главного направления переводят на второстепенный участок?
Сталин ответил, что я ошибаюсь: тот участок, на который меня переводят, входит в общее западное направление, на котором будут действовать войска трёх фронтов – 2-го Белорусского, 1-го Белорусского и 1-го Украинского; успех этой решающей операции будет зависеть от тесного взаимодействия этих фронтов, поэтому на подбор командующих Ставка обратила особое внимание.
Касаясь моего перевода, Сталин сказал, что на 1-й Белорусский назначен Г.К. Жуков.
— Как Вы смотрите на эту кандидатуру?
Я ответил, что кандидатура вполне достойная. По-моему, Верховный Главнокомандующий выбирает себе заместителя из числа наиболее способных и достойных генералов. Жуков таким и является.
Сталин сказал, что доволен таким ответом, и затем в тёплом тоне сообщил, что на 2-й Белорусский фронт возлагается очень ответственная задача, фронт будет усилен дополнительными соединениями и средствами:
— Если не продвинетесь вы и Конев, то никуда не продвинется и Жуков.
Заканчивая разговор, Сталин заявил, что не будет возражать, если я возьму с собой на новое место тех работников штаба и управления, с которыми сработался за долгое время войны.
Поблагодарив за заботу, я сказал, что надеюсь и на новом месте встретить способных сотрудников и хороших товарищей. Сталин ответил коротко:
— Вот за это благодарю.
Этот разговор по ВЧ происходил примерно 12 ноября (1944. – А.М), а на другой день я выехал к месту нового назначения. Маршал Жуков тогда ещё не прибыл. Спустя некоторое время я решил поехать, встретиться с ним и попрощаться с товарищами. Был как раз праздник артиллерии (19 ноября. – А.М), и мы провели вечер в тесной командирской семье. Я стал собираться в путь: вызвали в Ставку. Задачу ставил лично Верховный Главнокомандующий. Нам предстояло наступать на северо-запад.
Сталин предупредил, чтобы мы не обращали внимания на восточно-прусскую группировку противника: её разгром возлагается всецело на 3-й Белорусский фронт. Даже не упоминалось о взаимодействии между нами и нашим правым соседом (впоследствии, как известно, жизнь внесла поправку, и нам пришлось большую часть войск повернуть на север).
Особо предупреждалось о самом тесном взаимодействии с 1-м Белорусским фронтом. Мне запомнилась даже такая деталь: когда Сталин рассматривал нашу карту, он собственноручно красным карандашом вывел стрелу, направленную во фланг противнику. И тут же пояснил:
— Так вы поможете Жукову, если замедлится наступление войск 1-го Белорусского фронта.
В последующей беседе со мной Сталин ещё раз подчеркнул, что назначаюсь я не на второстепенное, а на важнейшее направление, и высказал предположение, что именно трём фронтам – 1-му и 2-му Белорусским и 1-му Украинскому предстоит закончить войну на Западе.
На два фронта
Двадцатого января 1945 года, когда наши войска уже подходили к Висле и готовились форсировать её с ходу, Ставка приказала 3, 48, 2-ю Ударную и 5-ю гвардейскую танковую армии повернуть на север и северо-восток для действий против вражеской восточно-прусской группировки. … То, что 20 января наши главные силы были повёрнуты на север, доказывает гибкость и оперативность руководства Ставки. Убедившись в отставании войск 3-го Белорусского фронта, она немедленно вносит поправки в ранее принятый план.
Правда, такой оборот событий можно было и следовало предусмотреть раньше.
Начиная со Сталинграда наша Ставка и Генеральный штаб с высоким мастерством планировали и осуществляли крупнейшие стратегические операции с участием нескольких фронтов. Но я не могу сказать этого о Восточно-Прусской операции. По-моему, в её организации было немало просчётов.
Ещё задолго до вступления на территорию фашистской Германии мы на Военном совете обсудили вопрос о поведении наших людей на немецкой земле. Столько горя принесли гитлеровские оккупанты советскому народу, столько страшных преступлений совершили они, что сердца наших солдат законно пылали лютой ненавистью к этим извергам. Но нельзя было допускать, чтобы священная ненависть к врагу излилась в слепую месть по отношению ко всему немецкому народу. Мы воевали с гитлеровской армией, но не с мирным населением Германии.
И когда наши войска пересекли границу Германии, Военный совет фронта издал приказ, в котором поздравлял солдат и офицеров со знаменательным событием и напоминал, что мы и в Германию вступаем как воины-освободители.
Красная Армия пришла сюда, чтобы помочь немецкому народу избавиться от фашистской клики и того дурмана, которым она отравляла людей. Военный совет призывал бойцов и командиров соблюдать образцовый порядок, высоко нести честь советского солдата.
… Нужно сказать, что наши люди на германской земле проявили подлинную гуманность и благородство.
Восточная Померания
По мере продвижения войск к северу всё больше оголялся наш левый фланг: ведь сосед слева – 1-й Белорусский фронт оставался на месте. Противник стал всё чаще наносить удары во фланги и тылы нашим наступающим частям.
С опаской мы поглядывали на Ной-Штеттин. Этот город, остававшийся западнее разграничительной линии нашего фронта, кишел гитлеровскими войсками, которые в любой момент могли ринуться на наш открытый фланг.
Я сообщал об этом в Ставку. Вскоре меня вызвал к ВЧ Верховный Главнокомандующий. Я доложил ему обстановку на нашем фронте и положение, складывающееся на левом крыле. Сталин спросил:
— Что, Жуков хитрит?
Я ответил, что не думаю, чтобы он хитрил, но что его войска не наступают и этим создаётся угроза на обнажённом нашем фланге, я могу подтвердить. Для обеспечения фланга у нас сейчас сил нет, резерв весь исчерпан.
Поэтому прошу усилить фронт войсками или обязать 1-й Белорусский фронт быстрее перейти в наступление. Рассказал я и о положении в районе Ной-Штеттина.
— А войска вашего фронта не смогут занять Ной-Штеттин? Если вы это сделаете, в вашу честь будет дан салют.
Я ответил, что попытаемся взять этот город, но в дальнейшем это не изменит положение.
Сталин обещал поторопить 1-й Белорусский фронт с началом наступления…. По всему чувствовалось, что Верховный Главнокомандующий доволен ходом событий.
Геббельсовская пропаганда вбила в головы немцев столько клеветы о советских войсках, что люди в ужасе покидали насиженные места, лишь заслышав о нашем приближении.
Захватив с собой домашний скарб, они целыми семьями бежали куда глаза глядят. Шоссе и просёлки были забиты обезумевшими людьми. Одни бежали на запад, другие на восток. Беженцы вскоре убеждались, что никто их не трогает, что вся геббельсовская болтовня – дикая ложь, и, успокоенные, возвращались домой.
Одер-Эльба
Как мы и предполагали, после ликвидации восточно-померанской группировки противника нам предстояло принять участие в Берлинской операции. По решению Ставки нашему фронту следовало в кратчайшие сроки перегруппировать войска на запад, на штеттин-ростокское направление и сменить части 1-го Белорусского фронта на рубеже Кольберг, устье Одера и далее по восточному берегу этой реки до Шведта.
Только вчера войска наступали на восток, сейчас им нужно было повернуть на запад и форсированным маршем преодолеть 300-350 километров по местам, где только что закончились ожесточённые сражения…, а работы по расчистке дорог и восстановлению переправ через многочисленные реки, речки и каналы только начинались…
В первых числах апреля меня вызвали в Ставку. Здесь была уточнена и утверждена задача войскам 2-го Белорусского фронта… Почти полностью прекратив сопротивление против союзников, гитлеровцы создавали крупную группировку против советских войск…
В общих чертах операция должна развиваться следующим образом. Удар в общем направлении на Берлин наносит 1-й Белорусский фронт, одновременно частью сил обходя город с севера; 1-й Украинский фронт наносит рассекающий удар южнее Берлина, обходя город с юга. Наш, 2-й Белорусский, наносит рассекающий удар севернее Берлина, обеспечивая правый фланг 1-го Белорусского фронта от возможных контрударов противника с севера, и ликвидирует все вражеские войска севернее Берлина, прижимая их к морю.
Начало операции устанавливалось Ставкой для войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 16 апреля, для нас – 20 апреля (Раньше мы не могли в связи с перегруппировкой войск с востока на запад).
Рекогносцировку мы провели 10 апреля… То что нам удалось увидеть, не радовало. Наши войска и позиции противника разделяла река, которая на этом участке образовала два широких русла – Ост-Одер и Вест-Одер. Между ними пойма, которая в это время была затоплена. Так что перед нами лежала сплошная полоса воды шириной пять километров.
Павел Иванович Батов сказал задумчиво:
— Наши солдаты уже определение дали, по-моему, очень точное: «Два Днепра, а посередине Припять»…
Итак, утром 20 апреля форсирование реки Вест-Одер началось почти одновременно на широком фронте всеми тремя армиями главной группировки фронта… К концу дня на Ост-Одере действовали девять десантных и четыре паромные переправы и 50-тонный мост…
К 25 апреля части 65-й и 70-й армий, подкреплённые фронтовыми средствами усиления продвинулись до 8 километров, хотя Батову пришлось часть своих войск развернуть фронтом на север, против штеттинской группировки врага… Тем временем войска соседа слева – 1-го Белорусского фронта – уже завязали бои в Берлине, а правофланговыми соединениями охватывали германскую столицу с севера. Наше наступление не давало противнику перебрасывать резервы к Берлину и тем способствовало успехам соседа… Бои 26 апреля носили ожесточённый характер… Как смертельно раненый зверь огрызается в диком безумии, так и фашисты дрались до последнего… с ожесточением самоубийц.
3 мая 3-й гвардейский танковый корпус Панфилова юго-западнее Висмара установил связь с передовыми частями 2-й британской армии…
Много хлопот доставил нам датский остров Борнхольм… На Борнхольме было обезоружено и взято в плен свыше 12 тысяч немецких солдат и офицеров и большие военные трофеи.
Стоило войскам остановиться на привал, у походных солдатских кухонь сбивались голодные немецкие детишки. А потом подходили и взрослые. Знали, что советские солдаты поделятся всем, что они имеют…
Счастье солдата
В моей душе росло чувство гордости за наших воинов, за наш народ, который в титанической борьбе поставил врага на колени. Гордости за то, что и я принадлежу к этому народу-великану и что какая-то крупица и моего труда заложена в одержанной победе… Это было именно чувство гордости…
8 мая был подписан акт о полной, безоговорочной капитуляции немецко-фашистских вооружённых сил.
Не описать энтузиазм солдат. Не смолкает стрельба. Стреляют из всех видов оружия и наши, и союзники…
Наши солдаты ликовали. Я смотрел на их восторженные лица и радовался вместе с ними. Победа! Это величайшее счастье для солдата – сознание того, что ты помог своему народу победить врага, отстоять свободу Родины, вернуть ей мир. Сознание того, что ты выполнил свой солдатский долг, долг тяжкий и прекрасный, выше которого нет ничего на земле!..
Великая Отечественная война была всенародной. И победа над врагом тоже была победой всенародной. Армия и народ праздновали её одной дружной семьёй. И от этого ещё полнее, ещё больше было наше солдатское счастье.
* * *
В 1949г. в военной карьере К.К. Рокоссовского произошёл новый поворот[72]. Он в то время отдыхал в Сочи. Неожиданно позвонил А.Н. Поскрёбышев:
— Товарищ Сталин дважды интересовался вами:
«Три дня, как Рокоссовский на отдыхе, а нам почему-то не показывается. Не обиделся ли на нас с вами, Александр Николаевич?» Я высылаю за вами машину.
Сталин, встретив Рокоссовского сказал:
— Здравствуйте, Константин Константинович.
Затем предложил выпить коньяку, а сам сославшись на возраст, редкими глотками пил «Хванчкару». Сталин спросил о семье Рокоссовского.
— У вас говорят, хорошая дочь. Это замечательно! А у меня…
Сталин оборвал фразу и резко изменил тему разговора, интересуясь ситуацией в Польше, где расположилась Северная группа войск. Рокоссовский рассказал.
Неожиданно Сталин поднялся, подошёл к Константину Константиновичу.
— Берут снова попросил вас стать министром обороны. Обстановка такова, что нужно, чтобы вы возглавили армию Народной Польши. Все советские звания остаются за вами, а там вы станете Министром обороны, заместителем председателя Совета Министров, членом Политбюро и маршалом Польши. Я бы очень хотел, Константин Константинович, чтоб вы согласились, иначе мы можем потерять Польшу. Наладите дело – вернётесь на своё место.
— Я, товарищ Сталин, коммунист. Как решит ЦК, так и будет.
— Другого мы и не ждали. Давайте ещё попьём чайку, а?
— С удовольствием, товарищ Сталин.
Что имел в виду И.В. Сталин, говоря об опасности «потерять» Польшу? Вероятно можно согласиться с Р. Воффом, считающим, что на него огромное воздействие оказала независимая позиция И.Б. Тито, в результате которой произошёл разрыв Советского Союза с Югославией.
Делегирование Рокоссовского в польское руководство было одной из тех мер, посредством которых Сталин «намеревался предупредить поляков от подражания югославской «ереси».
По мнению некоторых исследователей, «назначение Рокоссовского, с точки зрения Москвы, могло не только резко усилить советский контроль в Войске Польском, но и внедрить «своего человека» в высший эшелон ПОРП», тем самым ослабить влияние на Б. Берута настроенных в реформистском духе членов Политбюро Я. Бермана, Г. Минца, и Р. Замбровского.
Бывший президент Польши В. Ярузельский отмечал, «Назначение Рокоссовского – трудная проблема. Его польское происхождение было широко известно; я, например, знал его сестру – она вообще всю жизнь прожила в Варшаве. Но он стал министром с должности командующего советской группой войск в Польше и на многие посты назначал советских генералов, которые не знали ни нашего языка, ни страны. Уже начиналась холодная война, и Польшу сделали частью противостояния между Востоком и Западом. Войско Польское при Рокоссовском конечно усилилось, но и очень увеличилось, и большая армия стоила стране колоссальных средств».
Ярузельский, упоминая о назначении на многие посты «советских генералов», не преувеличивал. Генштаб Советской Армии произвёл отбор, подготовку и до 1951 г. откомандировал в Войско Польское в качестве командиров и начальников более 50 генералов и свыше 12 тыс. офицеров.
По мнению Р. Воффа, для многих поляков Рокоссовский оставался «символом сталинского репрессивного режима», пережив покушение одного из польских генералов.
В этой связи приведём свидетельство доктора исторических наук Ф.Д. Свердлова, которому Рокоссовский поведал следующее: «Нельзя сказать, что весь офицерский корпус Вооружённых Сил Польши тепло принял меня. Часто во время приездов в дивизии из глубины построенных на плацах для встречи войск слышались одиночные, а иногда и групповые выкрики: «Уезжайте в Россию!», «Долой красного маршала»! Рокоссовский подтвердил и информацию о покушении на него: «В январе 1950 г. при посещении артиллерийских частей в Люблине в меня стреляли из пистолета. Выстрел был произведён с большого расстояния, и пуля пролетела мимо. Стрелявшего не нашли. Через три месяца в Познани по моей машине дали автоматную очередь. Оказался раненым сопровождавший офицер, было разбито вдребезги заднее стекло, но я не пострадал. И на этот раз стрелявших не нашли. Выступали против меня в основном бывшие участники Армии Крайовой и формирований «Национальных Вооружённых «Сил». Поэтому работать в Польше было трудно».
6 ноября 1949 г. президент Польши Б. Берут заявил на совместном заседании Государственного Совета и Совета Министров: «Принимая во внимание, что маршал Рокоссовский является поляком по национальности и пользуется популярностью в польском народе, мы обратились к советскому правительству с просьбой, если это возможно, направить маршала Рокоссовского в распоряжение польского правительства, для прохождения службы в рядах Войска Польского. Советское правительство, учитывая дружественные отношения, которые связывают СССР и Польшу… выразило согласие удовлетворить просьбу…»
К.К. Рокоссовский был назначен министром национальной обороны ПНР. В 1950 г. его избрали членом Политбюро ЦК Польской объединённой рабочей партии, а в 1952 г. он стал заместителем председателя Совета министров ПНР.
В своём первом приказе по Войску Польскому от 7 ноября 1949 г. маршал Рокоссовский подчёркивал: «Мне выпало на долю в течение многих лет служить делу трудящегося народа в рядах героической Советской Армии. Волею военной судьбы я был командующим тем фронтом, в составе которого героически сражались на славном пути от Ленино через Варшаву, Гданьск, Гдыню, Колобжег, Поморский Вал вплоть до Берлина солдаты вновь возникшего Войска Польского, солдаты 1-й дивизии, а позднее и 1-й армии.
Во исполнение обязанностей, возложенных на меня страной и Президентом, во исполнение обязанностей перед польскими трудящимися и польским народом, среди которого я вырос и с которым всегда чувствовал себя связанным всем своим сердцем, а также перед братским советским народом, который воспитал меня как солдата и полководца, я принимаю доверенный мне пост, чтобы все свои силы посвятить дальнейшему развитию и укреплению нашего Войска Польского и обороны Речи Посполитой…»
Одной из задач Рокоссовского на новом посту было техническое перевооружение польской армии, совершенствование её организационно-штатной структуры, организация боевой и оперативной подготовки. Одновременно произошло увеличение численности армии с 200 тыс. человек в 1949 г. до 280 тыс. в 1955 г.
В эти же годы в Польше была создана военная промышленность, построены предприятия по выпуску артиллерийской, танковой, авиационной и другой техники.
В Польше были открыты Академия Генерального штаба имени Кароля Сверчевского, Военно-техническая академия имени Ярослава Домбровского, Военно-политическая академия имени Ф.Э. Дзержинского.
В Польше К.К. Рокоссовский продолжал встречаться с актрисой Валентиной Серовой. На Константина Константиновича завели «дело» и вскоре о нём доложили Сталину. Он, бегло просмотрев папку, начертал на обложке «Суворова сейчас нет. В Красной Армии есть Рокоссовский. Прошу это учесть при разборе этого дела. Сталин».
Затем позвонил Константину Константиновичу в Варшаву, спросил о положении дел в Войске Польском, о взаимоотношениях министра обороны с польскими руководителями, справился о здоровье, потом неожиданно добавил:
— Не надо, Константин Константинович, продолжать роман с Валентиной Серовой. В Москве об этом много судачат. Не надо. Серова часто бывает у вас, в Варшаве. Об этом знают и ваша жена и Симонов. Подумайте…
Несмотря на очевидные заслуги Рокоссовского в создании и развитии польской армии, отношение к нему в Польше было неоднозначным. Особенно негативным оно стало в середине 50-х годов.
В январе 1955 г на III пленуме партийное руководство во главе с Б. Берутом подверглось резкой критике как за промахи в экономической политике, так и за попустительство бесконтрольному функционированию органов государственной безопасности, постоянно нарушавших законность. Вместе с тем вплоть до осени 1956 г. силовые структуры в Польше (армия, органы безопасности, в меньшей степени милиция и внутренние войска) продолжали контролироваться Москвой посредством развитого института советников и путём непосредственного внедрения в соответствующие службы ПНР генералов и офицеров из числа бывших граждан СССР (как правило, польского происхождения).
28 июня 1956 г. в польском городе Познани прошла демонстрация рабочих, недовольных условиями труда, низкой заработной платой и дефицитом продовольствия. Стотысячная толпа демонстрантов атаковала здания и открыла ворота городской тюрьмы, выпустив на свободу 250 заключённых. Местная милиция и правоохранительные органы оказались бессильны и не смогли предотвратить мятеж. На подавление восстания польское правительство отправило около 10 тыс. солдат и 300 танков. Всего, по разным данным, во время восстания погибли от 58 до 100 человек, более тысячи получили ранения и около 135 мятежников были арестованы.
Это была первая попытка государственного переворота, профинансированная и организованная спецслужбами США, Великобритании («так называемая первая попытка «цветной революции»).
Руководство КПСС, опасаясь радикальных перемен и, прежде всего, удаления из центральных органов ПОРП деятелей чётко выраженной просоветской ориентации, прибегло к политике силового давления на Варшаву.
В соответствии с приказом министра обороны СССР маршала Г.К. Жукова от 18 октября Северная группа войск и Балтийский флот были приведены в повышенную степень боевой готовности.
19 октября в польскую столицу внезапно прибыла делегация КПСС в составе членов Президиума ЦК Н.С. Хрущёва, Л.М. Кагановича, А.И. Микояна и В.М. Молотова и главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами государств – участников Варшавского договора Маршала Советского Союза И.С. Конева. По свидетельству Хрущёва маршал Рокоссовский сказал, что «антисоветские, националистические и реакционные силы выросли и что если необходимо предотвратить рост этих контрреволюционных элементов силой оружия, то он (Рокоссовский) в нашем распоряжении».
В Бельведерском дворце Варшавы состоялись нелёгкие переговоры, результат которых отразила следующая рабочая запись заседания Президиума ЦК, заслушавшего информацию о поездке в Варшаву: «Выход один – покончить с тем, что есть в Польше. Если Рокоссовский будет оставлен, тогда по времени потерпеть».
Угроза вооружённого конфликта между странами, входившими в Варшавский договор, вынудила делегацию КПСС пойти на удовлетворение ряда требований внутрипартийной оппозиции. 20 октября состоялись выборы Политбюро ЦК ПОРП, Рокоссовский в его состав не вошёл: из 75 участников пленума за него подали голоса только 23 человека.
Первым секретарём ЦК ПОРП был избран В. Гомулка, который с трибуны пленума высказался за пересмотр польско-советских отношений на основе равноправия.
21 октября Президиум ЦК КПСС принял решение о том, чтобы отозвать советников из силовых структур Польши. На следующий день в письме, направленном в ЦК ПОРП и подписанном Н.С. Хрущёвым, советская сторона выразила согласие на отзыв из Войска Польского офицеров и генералов Советских Вооружённых сил. В их числе оказался и маршал двух народов Рокоссовский.
13 ноября он подал в отставку со всех государственных постов ПНР и через два дня возвратился в Москву.
Внешне расставание было обставлено по всем нормам дипломатии, даже правительство ПНР направило в адрес маршала письмо, в котором выражалась благодарность за работу в послевоенной Польше и за освобождение Польши от гитлеризма.
К.К. Рокоссовский, вернувшись в Советский Союз, был назначен заместителем министра обороны СССР, а в июле 1957 г. – главным инспектором – заместителем министра обороны СССР.
Гремят колокола громкого боя[73]
Давно известно, что наибольший эффект в войне даёт только правильно «сбалансированный» флот, то есть флот, имеющий достаточно надводных и подводных кораблей всех нужных классов и типов. Обеспечить это соотношение кораблей ещё в предвоенные годы было прямой обязанностью наркома ВМФ и Главного морского штаба.
Не случайно на памятнике С.О. Макарову в Кронштадте были высечены слова «Помни войну». Здесь нельзя ссылаться ни на высшие органы, ни на промахи на местах. Очень болезненно, особенно на Балтийском флоте, сказалось нехватка тральщиков и тральных средств. Подводя итоги первого месяца войны, Военный состав флота оценил минную опасность как главную. Нам надо было во все колокола бить тревогу уже после первых сведений о появлении новых немецких электромагнитных мин и о больших потерях, которые несли от них англичане в 1939-1941 годах.
Готовясь к нападению на Советский Союз, германское командование держало наготове в Северной Норвегии и Северной Финляндии один финский и два немецких корпуса, сведённых в армию «Норвегия». Планом операции намечалось овладеть Мурманском и главной базой Северного флота – Полярным, захватить Кировскую железную дорогу и тем самым изолировать Кольский полуостров от центральных районов страны, оккупировать Советскую Карелию и овладеть всем бассейном Белого моря до Архангельска включительно.
Командующим Северным флотом Сталиным был назначен летом (1941г. – А.М) А.Г. Головко, бывший командующий Амурской флотилией. Успешные действия флота на Севере – лучшая аттестация для командующего. Головко был одним из наиболее образованных военачальников нашего ВМФ и пользовался большим авторитетом.
С первых дней войны на Северном флоте начали формировать части морской пехоты.
Через два дня, на очередном докладе, я разложил перед И.В. Сталиным карту Балтийского моря. Остров Эзель и Берлин соединяла на ней чёткая прямая линия. Тут же были даны окончательные расчёты: самолёт может взять одну 500-килограммовую бомбу или две по 250. Удар по Берлину имел бы в случае удачи огромное значение. Ведь гитлеровцы трубили на весь мир, что советская авиация разгромлена.
И Ставка утвердила наше предложение. «Вы лично отвечаете за выполнение операции», — было сказано мне на прощание.
В ночь на 8 августа наши 15 самолётов ДБ-3 бомбили Берлин.
«А нельзя ли вместо 500-килограммовой бомбы или двух бомб по 250 килограммов нести на Берлин до тысячи килограммов, то есть брать по две пятисотки?» — такой вопрос возник у Верховного Главнокомандующего.
В Ставку был приглашён опытный лётчик-испытатель В.К. Коккинаки. «Можно брать две пятисотки», — помнится, заявил он. Попытка Коккинаки поднять бомбы весом в одну тонну кончилась неудачей: два самолёта потерпели аварию.
В Ставку были вызваны командующий ВВС ВМФ С.Ф. Жаворонков, до тех пор неотлучно руководивший полётами на месте, и командующий ВВС Красной Армии П.Ф. Жигарёв. И.В. Сталин нередко поступал так по отношению к какому-либо наркому. Этим он как бы говорил: «Вот я сейчас вас проверю. Вот сейчас послушаем, что скажут практические работники».
Когда Жигарёв, Жаворонков и я вошли, Сталин сердито посмотрел на нас… Больше всего досталось П.Ф. Жигарёву, который направил для пополнения авиации КБФ самолёты с изрядно поношенными моторами.
Что же касается нас, моряков, то И.В. Сталин хотя и не признал наши доводы правильными, но теперь уже не приказывал брать для бомбардировки Берлина бомбы весом по тонне. Налёты на Берлин повторялись ещё не раз. Последний был 5 сентября. Когда пришлось оставить Таллин, полёты с островов стали невозможны. Всего за десять налётов на Берлин было сброшено 311 бомб и зарегистрировано 32 пожара.
Оборона Таллина и прорыв в Кронштадт
Как известно, в первые месяцы войны три наши главные военно-морские базы – Таллин, Севастополь, Полярный – оказались под угрозой захвата противником. В августе началась героическая оборона столицы Эстонии.
Я сообщил в Ставке о предложении Военсовета КБФ перенести свой ФКП в Лужскую губу и о решении главнокомандования Северо-Западного направления оставить Военсовет в Таллине. «Таллин нужно оборонять всеми силами», — заметил И.В. Сталин, и я понял его слова как одобрение нашего решения. Я советовал командующему КБФ адмиралу В.Ф. Трибуцу поскорее привести в порядок и использовать старые форты[74].
Я доложил Ставке о критическом положении в Таллине, просил разрешить эвакуацию этой главной базы КБФ. 26 августа Ставка отдала приказ об эвакуации защитников Таллина и прорыва флота в Кронштадт для усиления обороны Ленинграда.
Днём 29 августа отряд главных сил прибыл в Кронштадт. Из 195 кораблей, транспортных и вспомогательных судов 53 погибли при переходе. Транспорты и корабли приняли на борт 23 тысячи человек. Погибло более 4 тысяч. При этом ни один боевой корабль не был потоплен пикирующими бомбардировщиками, несмотря на их многочисленные атаки.
Встречи с союзниками
В первых числах июля 1941 года в Москву прибыли члены английской военной миссии. Чаще всего мне приходилось встречаться с контр-адмиралом Майлсом, но первым меня посетил генерал Макфарлан.
12 июля меня вызвали в Кремль и передали, что предстоит подписание англо-советского соглашения…, в эти дни английский посол Криппс имел две беседы с И.В. Сталиным. После подписания соглашения Сталин долго беседовал с Макфарланом – старшим Военным представителем нашего союзника Англии. Соглашение предусматривало взаимную помощь и содержало обязательства не заключать сепаратного мира. С подписанием соглашения рассеялись, между прочим, и наши сомнения относительно миссии сидевшего в Англии гитлеровского посланца Гесса: англичане не пошли на сговор с фюрером. Московское соглашение нарушило замыслы Гитлера воевать поочерёдно на Западе и на Востоке. Теперь ему предстояло вести войну одновременно на два фронта.[75]
С Майлсом же виделся часто. Уже при первой встрече у нас зашёл разговор о совместном обеспечении намечавшихся морских коммуникаций. В двух областях опыт и техника английского флота могли быть нам полезны: у англичан был большой, хотя и печальный, опыт борьбы с электромагнитными минами, а, кроме того, их боевые корабли имели более совершенные радиолокаторы. Испытав на себе силу подводного оружия в первую мировую войну, англичане долго и упорно искали средства борьбы с подводными лодками.
И вот появился «асдик» — прибор, который позволял на ходу и на сравнительно большом расстоянии обнаруживать подводные лодки. Забегая вперёд, хочу подчеркнуть, что особой помощи от англичан по минному делу мы не получили. Они предоставили нам лишь несекретные образцы мин, не имевшие большой ценности.
Мы же со своей стороны, всячески стремились помочь союзникам, когда в наших руках оказывались образцы немецких мин и торпед.
В Москве ждали прибытия представителя США. Им оказался ставший известным в годы войны влиятельный советник и специальный представитель президента Ф. Рузвельта Гарри Гопкинс.
«Да, видимо, нам придётся вступить в войну», — запомнились мне слова Гопкинса, которые повторил в разговоре с нами И.В. Сталин. Вечером 1 августа Гопкинс улетел на Британские острова. При его значительном содействии в сентябре-октябре 1941 года состоялась Московская конференция представителей СССР, Англии и США. На конференции были решены важные вопросы объединения усилий трёх великих держав для достижения победы над фашистской Германией и вопросы помощи Советскому Союзу снабжением.
Дальновидный политический деятель Ф. Рузвельт был прогрессивнее многих, и в частности – прогрессивнее своего преемника Г. Трумэна. За это его до сих пор осуждают реакционеры-соотечественники. Его коллега по тройственной коалиции У. Черчилль, как известно, не скрывал своей неприязни к Советскому строю. Но он вынужден был, учитывая мощь Красной Армии, отдавать ей должное, хотя ряд бесед между ним и Сталиным, на которых я присутствовал, свидетельствовал не только об имевшихся противоречиях, но порою, даже о вражде, плохо скрываемой Черчиллем. И понятно, почему вскоре после окончания войны в марте 1946 года Черчилль произнёс речь в Фултоне (США), где снова взялся за антикоммунистическое оружие.
Погибаю, но не сдаюсь! Моонзунд и Ханко
Моонзундский архипелаг, расположенный у входа в Финский залив, имеет богатое прошлое. С тех пор, как на островах Эзель и Даго укрывались морские пираты, и вплоть до наших дней на Балтике не было ни одного крупного военно-политического события, в котором не сыграл бы своей роли этот архипелаг.
На острова нападали датчане, затем рыцари Ливонского ордена и шведы после победы над Данией в XVII веке.
Когда Пётр 1 боролся со Швецией за выход к Балтийскому морю, он стремился привлечь на свою сторону эстов, населяющих острова… Во время Крымской войны на архипелаг нападали англичане, в годы первой мировой войны – немцы.
В один из последних дней июня И.В. Сталин спросил меня: — Нельзя ли некоторое количество артиллерии с островов выделить для укрепления линии обороны на пути к Москве?…
Но и тогда было известно, сколь много значит Моонзундский архипелаг для обороны Ирбенского пролива, а также в случае попытки немецкого флота войти в Финский залив или высадить десант на самих островах. Поэтому я попросил не ослаблять оборону островов, объяснив, как трудно перевозить тяжёлые орудия береговой артиллерии. Сталин согласился с моими доводами…
Полтора месяца сравнительно небольшой гарнизон Моонзундских остовов сражался в глубоком тылу врага. В самые напряжённые дни обороны Ленинграда он отвлёк на себя две вражеские дивизии с частями усиления (свыше 50 тысяч человек), а также значительные силы авиации и флота гитлеровцев…
Несмотря на мирный договор, заключённый с Финляндией в марте 1940 года, мы не обольщали себя надеждой, что правительство Рюти в случае войны не станет сателлитом фашистской Германии. Ещё до нападения немцев это правительство открыто вело дело к войне.
Одесса
18 ноября 1940 года Сталину в присутствии Ворошилова, Тимошенко, Микояна и Вознесенского был доложен разработанный Генштабом план инженерной подготовки. Докладывал тогдашний начальник Генштаба К.А. Мерецков. После доклада, глядя на карту, Сталин стал задавать вопрос за вопросом. Помнится, он спрашивал:
— Как план строительства новых укреплённых районов предусматривает использование старых крепостей? С какими предложениями обращался к вам по вопросам обороны военно-морских баз Нарком ВМФ Кузнецов?Был ли привлечён к разработке плана Борис Михайлович Шапошников?[76] Почему не привлекли к работе Главный морской штаб?
В самом конце декабря переработанный Генштабом план инженерной подготовки будущих театров военных действий был вновь доложен И.В. Сталину, уже в присутствии Б.М. Шапошникова, и одобрен без особых поправок и замечаний.
Вероломное нападение Гитлера на Советский Союз помешало нам осуществить этот план.
Наркомат ВМФ горячо поддерживал мнение Военного совета флота о том, что оставлять Одессу с её береговыми батареями и хотя небольшими, но стойкими обученными частями было бы неправильным. Генштаб счёл моё мнение правильным и подтвердил, что Одессу нужно удерживать. Мне обещали, что об этом доложат И.В. Сталину.
В дневнике бывшего начальника штаба сухопутных войск Германии генерал-полковника Гальдера есть такое свидетельство: «Оборона Одессы носила характер сопротивления, без мысли отступления; оборона отличалась наступательными действиями, была активной».
Наши войска, к счастью, не испытали на себе фланговых ударов с моря. В дневнике Гальдера записано: «Румыния считает, что только в сентябре им удастся занять Одессу. Это слишком поздно. Без Одессы мы не сможем захватить Крым…»
Ещё 22 августа тот же Гальдер писал: «Захват Крымского полуострова имеет первостепенное значение для обеспечения подвоза нефти из Румынии».
Сопротивление героически оборонявшихся войск Приморской армии и моряков до 16 октября 1941 года оказало огромное влияние на ход войны. Оставшаяся в немецко-румынском тылу Одесса вообще мешала захватчикам уверенно чувствовать себя не только в море, но и на суше. Противнику удалось занять Одессу только после того, как мы в ночь на 16 октября по решению Ставки ВГК оставили её, нанеся огромный урон румынским войскам.
Но в начале августа наступавший враг отрезал части Приморской армии и Одесской базы от основных сил Южного фронта. Меня вызвали в Ставку.
— Кто персонально возглавит оборону? – спросил меня Сталин.
Я ответил, что там есть командир военно-морской базы контр-адмирал Жуков. Однако окончательного решения тогда принято не было. В Одессу была послана телеграмма Ставки: «Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности, привлекая к делу Черноморский флот…»
Чувствовалось неопределённость функций командующего флота.
Выбрав момент, я снова предложил поставить во главе обороны Одессы моряка-командира военно-морской базы, подчинённого командующему флотом. На этот раз было решено создать Одесский оборонительный район (ООР), подчинив его Военному совету Ч.Ф. Командующим был назначен Г.В. Жуков. Директива Ставки о создании ООР была подписана 19 августа. (Одесса с 8 августа находилась на осадном положении).
В трудное для Одессы время, в двадцатых числах сентября, с боевых кораблей был высажен морской десант в район Григорьевки. Высадкой десанта командовал контр-адмирал С.Г. Горшков. В результате успешных действий десанта и войск ООР, плацдарм был расширен и Одесский порт стал недосягаемым для артиллерии противника…
Такая телеграмма была получена в Одессе в середине сентября 1941 года: «Передайте просьбу Ставки ВГК бойцам и командирам, защищающим Одессу, продержаться 6-7 дней, в течение которых они получат подмогу в виде авиации и вооружённого пополнения… Сталин»
Не удивительно, что подобные обращения Верховного Главнокомандования быстро находили путь к сердцу рядовых бойцов. Мне известны раздумья И.В. Сталина в связи с эвакуацией Одессы. Он приказал мне запросить Военный совет ЧФ о целесообразности оставления в Одессе части войск, до двух дивизий, чтобы ещё держать город и отвлекать на себя силы противника.
Главный морской штаб и Военный совет ЧФ доложили мне о нецелесообразности такой полумеры. Положение с каждым днём осложнялось не только на юге, но и под Москвой. До середины октября из Одессы было вывезено свыше 100 тысяч человек. В ночь на 16 октября были эвакуированы части прикрытия – более 30 тысяч человек. 73 дня героической обороны Одессы остались позади.
Трудная осень
Общая численность моряков-балтийцев, действовавших на суше (включая и морскую бригаду, переданную Карельскому фронту) превышала 125 тысяч человек. Воевали они отлично.
30 августа утром я выехал через Ораниенбаум в Кронштадт. Форт Красная Горка и плацдарм около Ораниенбаума, как известно, в течение всей блокады Ленинграда оставались в наших руках и оказали большую помощь фронту сначала в обороне, а затем в наступлении. Конец августа — начало сентября… Это были самые тревожные дни в Ленинграде.
Немалая заслуга спасателей и в том, что менее чем за месяц в начале 1942 года по дну Ладожского озера были проложены трубопроводы, по которым осаждённый Ленинград стал получать нефть и бензин.
Не успел я после приезда ознакомиться с обстановкой, как меня вызвали в Кремль, причём в необычное время – около полудня. Обычно вызывали по вечерам. Когда я вошёл И.В. Сталин был один и разговаривал с кем-то по телефону. Дождавшись конца разговора, я попытался доложить о положении на Балтийском флоте, но Сталин перебил меня:
— Известно ли вам, что в Ленинград вместо Ворошилова назначен Жуков?
Когда я ответил, что мне это неизвестно, он сказал, что только вчера состоялось такое решение и Г.К. Жуков, видимо уже в Ленинграде. Сталин задал мне несколько вопросов. Его интересовало, какие корабли у нас на Балтике, где они сейчас стоят и участвуют ли в обороне Ленинграда.
Сталин считал положение Ленинграда исключительно серьёзным.
— Ни один боевой корабль не должен попасть в руки противника, — сказал он.
Переспросив, понял ли я, Сталин подчеркнул, что в случае невыполнения этого приказа виновные будут строго наказаны.
— Составьте телеграмму командующему и отдайте приказание, чтобы всё было подготовлено на случай уничтожения кораблей.
— Я такой телеграммы подписать не могу, — вырвалось у меня. Сталин, очевидно не ожидавший подобного ответа, остановился и удивлённо посмотрел на меня.
— Почему?
— Товарищ Сталин! – как обычно, начал я и доложил:
— Флот оперативно подчинён командующему Ленинградским фронтом. Поэтому директиву ему можно дать только за вашей подписью. – Затем я добавил: — Чтобы дать такое ответственное задание, требуется особый авторитет и одних указаний наркома ВМФ недостаточно.
После короткого размышления Сталин приказал мне отправиться к начальнику Генштаба и заготовить телеграмму за двумя подписями: маршала Б.М. Шапошникова и моей. После этого я уже возражать не мог. Разговор с Борисом Михайловичем оказался таким, как я и предполагал.
— Что вы, голубчик! – изумился он, когда я передал ему указание Сталина. – Это дело чисто флотское, и я своей подписи ставить не буду.
— Но есть указание товарища Сталина, — повторил я.
Тогда он изменил тон. Решили заготовить телеграмму и вдвоём отправиться к Сталину, чтобы убедить его поставить свою подпись. Сталин согласился. Однако документ оставил у себя. Впоследствии я убедился, что поступил очень правильно, не подписав её один.
Да, Сталин считался с возможностью оставления Ленинграда, иначе он не принял бы такого серьёзного решения. Но это ещё не значит, что Верховный Главнокомандующий признавал безнадёжным положение Ленинграда.
Спустя приблизительно год, когда напряжение в Ленинграде ослабло и вопрос об уничтожении флота отпал, в адрес Сталина пришла телеграмма.
Автор её, очевидно не знавший всех подробностей, обвинял командующего флотом В.Ф. Трибуца в паникёрстве и преждевременном минировании кораблей.
Копия этой телеграммы была и у меня. Пришлось срочно напомнить И.В. Сталину, как всё происходило, чтобы отвести незаслуженное и весьма серьёзное обвинение от командования Б.Ф.
Помню, в кабинете у Сталина состоялось совещание, на котором присутствовал и я. Обсуждался план наших действий на случай, если возникнет конфликт с Финляндией. Командующий Ленинградским военным округом К.А. Мерецков весьма оптимистически смотрел на вещи.
Б.М. Шапошников подходил к делу со свойственной ему осторожностью. Он высказал мнение, что стоило бы дополнительно подтянуть войска, подготовленные к действиям в условиях северной зимы. И.В. Сталин, которому, по-моему, понравилась решительность Мерецкова, с предложениями Шапошникова не согласился. Когда началась война с гитлеровской Германией, маршал Шапошников – с 1 августа 1941 года – вновь стал начальником Генштаба.
Держаться до последней возможности
Опыт Севастопольской обороны в прошлом веке и второй мировой войны, полыхавшей в Западной Европе, заставлял заботиться о подготовке Севастополя к круговой обороне. Но практически к её созданию приступили только после того, как война уже началась.
В десяти-двенадцати километрах от города строился главный оборонительный рубеж, ближе к городу, в трёх-шести километрах от него, шёл тыловой рубеж.
Севастополь имел мощную береговую оборону: одиннадцать батарей только крупного и среднего калибра, готовых вести огонь по морским и береговым целям. Могла быть использована также эскадра Черноморского флота. Стратегическое значение Севастополя высоко оценивалось не только нами, но и противником.
Севастополь стал особенно важен для гитлеровцев, когда фронт продвинулся к берегам Азовского моря.
Оставив в тылу осаждённую Одессу, 11-я фашистская армия устремилась в Крым. В начале сентября определилось направление наступления противника – на Перекоп.
12 сентября 1941 года батарея Черноморского флота № 725 у Перекопа дала первый залп по врагу. Прорвав Ишуньские позиции и выйдя на степные просторы, войска 11-й немецкой армии устремились на Саки и Бахчисарай, чтобы отрезать путь нашим войскам, отходившим на Севастополь и Алушту, и оседлать шоссе на Керчь.
51-я армия отходила к Керченскому полуострову, получив задание прочно оборонять его. Приморской армии было указано направление на Севастополь.
30 октября — произошло событие, с которого началась 250-дневная героическая оборона Севастополя. Береговая батарея № 54… в 16 часов 35 минут открыла огонь по колонне вражеских танков. Генерал И.Е. Петров 5 ноября на Военном совете флота признал, что только «на базе созданного уже флотом с приходом Приморской армии Севастополь можно держать». К 9 ноября 1941 года сухопутная оборона была организована. Оборонительный район был разбит на четыре сектора. 7 ноября за подписью Сталина, Шапошникова и автора этих строк в Севастополь на имя Левченко была направлена телеграмма. Чтобы сковать силы противника в Крыму и не допустить его на Кавказ через Таманский полуостров, Ставка Верховного Главнокомандования приказывала считать главной задачей Черноморского флота активную оборону Севастополя и Керченского полуострова; Севастополь не сдавать ни в коем случае. С 29 октября в Севастополе было объявлено осадное положение. Г.И. Левченко – замнаркома ВМФ, тогда он командовал «всеми войсками Крыма».
У стен Москвы
Непосредственная и серьёзная угроза столице стала особенно чувствоваться в начале октября.
Я попросил, чтобы меня срочно приняли в Ставке и получил там указание временно эвакуировать Наркомат ВМФ, оставив в Москве лишь самую необходимую часть людей. Распорядился все управления эвакуировать в Куйбышев и Ульяновск.
Тревожность обстановки чувствовалась во всём. Даже в том, как выглядел кабинет Сталина, где в те дни мне пришлось бывать неоднократно. На письменном столе – обычно там лежали груды бумаг и книг – теперь стало пусто. Со стен были сняты картины. С 20 октября в столице было введено осадное положение. В тот же день тогдашний председатель Моссовета В.П. Пронин, как он мне рассказывал, отдал приказание ничего не взрывать. Тогда же было официально объявлено, что И.В. Сталин находится в Москве, и это успокаивающе подействовало на население. А вскоре по улицам провели первых немецких пленных, захваченных в боях под Москвой… Генштаб запросил Наркомат ВМФ: сможет ли он срочно выделить несколько батарей и направить их в район Вязьмы. Особая артиллерийская группа ВМФ (ОАГ ВМФ) состояла из двух артиллерийских дивизионов – 199-го и 200-го. В первый вошли три батареи, во второй – пять. Для вооружения дивизионов были использованы свободные 100-130-миллиметровые орудия, находившиеся в Ленинграде, одна опытная 152-мм. батарея на механической тяге – она только что прошла испытания на морском полигоне – и старая батарея, состоявшая из орудий, славно послуживших ещё в первую мировую войну на крейсере «Рюрик».
В начале июля на вопрос И.В. Сталина: «Как обстоит дело с морской артиллерией?»» — Я ответил: «Она уже на колёсах». Провозглашённый Сталиным в те дни лозунг «Смерть немецким оккупантам!» стал общенародным.
5-6 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой. 8 декабря заглянул ко мне П.Ф. Жигарёв, тогда командующий ВВС Красной Армии, и радостно сообщил: — Немцы бегут!
Внезапность и беспечность
7 декабря 1941 года, в то время, когда шла битва под Москвой, японская авиация с авианосцев напала на Перл-Харбор и разгромила основные линейные силы американского флота в Тихом океане. Как стало известно позднее, японцам удалось напасть внезапно… Мощь американского флота сразу была подорвана, и это открыло японцам дорогу на юг, в районы богатые сырьём, без которого Япония не в силах была вести длительную войну… Началась решительная схватка между США и Японией. Война стала поистине мировой. Военный союз СССР, Англия и США становился прочнее. Однако наши дальневосточные границы не стали безопасными после начала американо-японской войны.
Некоторые любопытные подробности мне довелось услышать от главнокомандующего ВМС США адмирала Э. Кинга на Крымской и Потсдамской конференциях в 1945 году. Скрывать прошлое уже не имело смысла, и Кинг был откровенен.
— Да, конечно, мы допустили непростительную халатность[77], — признался он.
— Сколько времени продолжался налёт? – спросил я у Кинга.
— Самолёты улетели через час сорок минут. То что творилось в гавани, было ужасно, — ответил адмирал.
Ещё накануне злополучного дня 7 декабря 1941 года США вели переговоры с Японией. Переговоры двигались туго и явно не сулили благоприятного исхода. Судя по всему, война становилась неизбежной, но США не приняли необходимых в таких случаях мер.
С палуб японских авианосцев один за другим взлетали самолёты с полным запасом топлива и грузом бомб и торпед. 183 машины было в первой группе, 170 – во второй. Американский флот понёс невиданный за всю свою историю урон. 18 боевых и вспомогательных кораблей было уничтожено и повреждено. Из 8 линейных кораблей, стоявших в гавани, четыре оказались потопленными и четыре получили сильные повреждения.
ВВС США потеряли 272 самолёта, а несколько десятков машин были повреждены. Потери в людях составили 3400 человек убитыми и ранеными. Японцы за всю операцию против Перл-Харбора потеряли всего 55 человек лётного состава с 29 сбитых самолётов, 1 большую подводную лодку и 5 «карликовых».
Керчь и Феодосия
Когда Закавказский фронт под командованием генерал-лейтенанта Д.Т. Козлова получил указание готовиться к овладению Керченским полуостровом, стало ясно, что Ставка стремился перейти от обороны к наступлению.
В описываемый мной период (конец 1941 года) Ставка не всегда вызывала Наркома ВМФ. Видимо там полагали, что все необходимые указания моряки могут получить от Генштаба.
Кроме намеченных мест высадки в районе Керчи и у горы Опук Ставка приказала высадить десант также непосредственно в Феодосии. Для проведения операции были выделены две армии (всего 41930 человек) и более 300 рыболовецких шхун, всевозможных барж и даже шлюпок.
17 декабря начался второй штурм Севастополя. 20 декабря Ставка рассматривала вопрос об обороне Севастополя. Специальная директива подчинила СОР Закавказскому фронту; вице-адмиралу Октябрьскому приказывалось немедленно выбыть в Севастополь; перебросить одну стрелковую дивизию, две стрелковые бригады и маршевое пополнение в 3 тысячи человек.
Помощь Ставки и смелый успешный переход боевых кораблей, а за ними и транспортов под руководством командующего ЧФ вице-адмирала Октябрьского, героизм защитников Севастополя сыграли решающую роль в отражении декабрьского штурма. Это непредвиденное обстоятельство– отвлечение сил на помощь Севастополю вынудило нас проводить десантирование в Керченско-Феодосийской операции по этапам…
В телеграмме Сталина, полученной в те дни, отмечалось, что при освобождении Керчи и Феодосии особенно отличались войска генералов А.Н. Первушина, В.Н. Львова и соединение кораблей под командованием капитана 1 ранга Н.Е. Басистого.
Гитлер, разъярённый неожиданной утратой Керчи и Феодосии, приказал отдать командира 42-го немецкого корпуса Шпонека под суд, и тот был приговорён к расстрелу.
Это была самая крупная десантная операция наших войск в Великую Отечественную войну, хорошо разработанная, несмотря на крайне сжатые сроки её подготовки…
Бывший гитлеровский адмирал Ф. Руге, признал, что эта операция отодвинула на полгода взятие немецко-фашистскими войсками Севастополя.
1941 год закончился нашими бесспорными успехами в Крыму. Феодосия, Керчь и значительная часть Керченского полуострова были освобождены. В январе противник снова захватил Феодосию.
В Крыму накапливались силы и для весеннего наступления. Наши войска на Керченском полуострове и в Севастополе в мае 1942 года оказались в очень тяжёлом положении.
— А кого бы вы предложили командующим Севастопольским оборонительным районом (СОР) вместо Октябрького? – спросил Сталин. Я ответил, что самый подходящей кандидатурой я считаю генерала С.И. Кабанова, который хорошо проявил себя на Ханко и в Ленинграде. Но и на этот раз решение принято не было. Мне показалось, что И.В. Сталин по-прежнему не убеждён в необходимости такой замены. Смущало его, кажется и то, что в случае назначения Кабанова ему пришлось бы подчинить все армейские части во главе с генералом И.Е. Петровым, известным к тому времени военачальником.
Новые испытания
Новый 1942 год я встретил в своей квартире на улице Серафимовича. В последнюю минуту заехал командующий ВВС Красной Армии П.Ф. Жигарёв.
— Позвоним товарищу Сталину! – предложил Павел Фёдорович. Я набрал номер и не без волнения стал ждать ответа. Откликнулся знакомый бас Поскрёбышева.
— Можно товарища Сталина? — спросил я.. И вскоре раздался спокойный голос И.В. Сталина:
— Слушаю.
— Примите, товарищ Сталин, наши поздравления и пожелания успехов, здоровья, — сказал я и добавил, что рядом со мной Жигарёв.
— Спасибо! – услышал я в ответ. Сталин поздравил нас с Новым годом.
Переход Красной Армии к обороне летом 1942 года совершался в обстановке, невыгодной для нас, при значительном превосходстве противника. Возможности наших Вооружённых Сил в то время были ещё недостаточными, чтобы вести стратегическую оборону и одновременно проводить крупные наступления…
Помню, как в августе 1942 года, в самый разгар боёв на подступах к Сталинграду и Северному Кавказу, в Москву прилетел для переговоров У. Черчилль… Черчилль сообщил Сталину о подготовке к высадке англо-американских войск в Африке…
В общем, США и Англия вместо открытия второго фронта летом 1942 года сократили число идущих в Архангельск и Мурманск конвоев с грузами, а именно тогда мы нуждались в них особенно остро. Как известно, второй фронт не был открыт и в следующем, 1943 году. Черчилль рассчитывал на дальнейшее ослабление Советского Союза и Германии, надеялся, что благодаря этому потребуется меньше усилий для вторжения во Францию, останется больше «козырей» для послевоенных переговоров с бывшим союзником. Для британских политических деятелей подобный приём был не новым…
У. Черчилль был верным оруженосцем своего класса и последовательным врагом коммунизма (России. – прим. ред.). Особенно отчётливо это «постоянство натуры» Черчилля проявилось в тяжёлом для нас 1942 году.
28 апреля 1942 года мы с Будённым – главкомом Северо-Кавказского направления – вылетели на Керченский полуостров. Не задерживаясь, мы выехали в село Ленинское, где размещался командный пункт фронта. С.М. Будённого встретил командующий фронтом генерал-лейтенант Д.Т. Козлов.
Едва начались деловые разговоры, как представитель Ставки Л.З. Мехлис взял инициативу в свои руки, решительным тоном внося то или иное предложение. Таков уж был у него характер.
19 мая наши войска оставили Керчь и через пролив были переправлены на Таманский полуостров последние части… По уточнённым после войны данным с Керченского полуострова удалось эвакуировать до 120 тысяч человек.
Но несколько тысяч бойцов, укрывшихся в каменоломнях, под руководством полковника П.М. Ягунова ещё долгие месяцы продолжали борьбу.
Сталин был весьма расстроен столь неудачным исходом борьбы на Керченском полуострове. 4 июня Ставка издала директиву в которой указывались причины неудач Крымского фронта и делались соответствующие выводы.
В ноябре-декабре 1941 года подземный гарнизон Аджимушкая выдержал 45-дневную осаду до подхода наших десантных частей. Он существенно помог нашим войскам в освобождении Керчи.
В 1942 году около 20 тысяч патриотов, среди которых были не только военные, но и сугубо гражданские люди заняли Аджимушкайские каменоломни.
Немцы бросили против них крупные силы, однако советские люди более пяти с половиной месяцев (с мая по октябрь) не только оборонялись, но и сами атаковали врага. Враг не решился наступать на Тамань, пока у него в тылу оставался сражавшийся Севастополь.
Ленинград наносит удары
В тревожные дни 1942 года наибольшие трудности выпали на долю Черноморского флота. Но и зажатый в крохотном районе между Кронштадтом и Ленинградом Краснознамённый Балтийский флот продолжал сражаться. В 1941-1942 годах почти половина личного состава КБФ защищала Ленинград на сухопутном фронте. Флотская артиллерия с её большой дальнобойностью и точностью стрельбы умело подавляла батареи врага. Контрбатарейная борьба длилась все 900 дней Ленинградской блокады.
В 1941 году нам удалось удержать ораниенбаумский плацдарм благодаря тому, что в районе Кронштадтской базы по южному берегу Финского залива своевременно соорудили оборонительные рубежи. Немцы потом очень сожалели, что не смогли овладеть этим плацдармом.
Они сокрушались, что не удалось «вытеснить с материка состоявшие главным образом из морской пехоты русские войска, которые с целью защиты Кронштадта удерживали в районе Ораниенбаума и западнее плацдарм 50 километров шириной и 26 километров глубиной». Так пишет в «Истории второй мировой войны» Типпельскирх.
Именно с этого плацдарма наши войска, поддержанные КБФ, нанесли первый мощный удар по обороне противника в январе 1944 года, когда начались бои за окончательное освобождение города Ленина от фашистской блокады.
Ещё 30 августа 1941 г. ГКО обязал Военный совет Ленинградского фронта принять меры для доставки в город всего необходимого, в первую очередь продовольствия. Военный совет фронта поручил Ладожской военной флотилии и Северо-Западному речному пароходству все перевозки из Новой Ладоги и Волховстроя в Ленинград и обратно. На западном берегу не существовало специально оборудованного места выгрузки, и в бухте Осиновец пришлось строить порт.
12 сентября к берегу бухты, где ещё не было оборудованных причалов, пришли две первые баржи, каждая с ценным грузом в 800 тонн зерна. Дорогой жизни называли этот единственный путь в блокированный Ленинград.
В нашей печати, литературе, в различных устных выступлениях Дорогу жизни иногда отождествляют с ледовой трассой. И Ледовая трасса и водная коммуникация – всё вместе взятое являлось Дорогой жизни для Ленинграда.
Только с 12 сентября по 1 декабря 1941 года было доставлено через Ладогу 40 тысяч человек и более 60 тысяч тонн грузов.
В разговорах со мной Б.М. Шапошников требовал увеличить перевозки в Ленинград и уменьшить потери. «Вы понимаете, что это значит?» — передал он мне однажды слова И.В. Сталина. Это было в октябре 1941 года.
В ту тяжёлую осень Ладожской флотилии приходилось заниматься не только перевозкой войск и грузов в Ленинград. В октябре-ноябре обострилась обстановка на Волховском фронте. Пал Тихвин. Возникла угроза Волховстрою. По решению Ставки из Ленинграда на Волховский фронт через Ладогу срочно направили две стрелковые дивизии и бригаду морской пехоты. Им пришлось с ходу вступить в бой. Волховстрой был спасён.
Суровой зимой ладожцы готовились к навигации 1942 года. Сооружали порты, монтировали секционные металлические и строили деревянные баржи.
Навигация 1942 года открылась в конце мая, а закончилась только в начале января 1943 года. Дорога жизни через Ладогу действовала, пока не была прорвана блокада Ленинграда. По ней перевезли в обоих направлениях около 2 миллионов человек, причём более миллиона – по воде. На судах же ладожцы доставили 1 миллион 690 тысяч тонн грузов.
Выполняя личный приказ Гитлера вражеская авиация днём и ночью бомбила трассу. Только за лето 1942 года фашисты сбросили здесь 6400 бомб.
Борясь за коммуникации на Ладоге, немцы и финны попытались высадить десант на остров Сухо, который прикрывал восточную часть трассы.
На рассвете 22 октября 1942 года более 20 военных судов, вооружённых артиллерией и крупнокалиберными пулемётами, под прикрытием 15 самолётов были обнаружены на подходе к нашему побережью. Меры, принятые командованием Ладожской флотилии и БФ были незамедлительны и энергичны. Всего враг потерял 17 десантных судов и 14 самолётов.
После боя у острова Сухо наша флотилия стала полностью господствовать в водах Ладоги и обеспечила бесперебойное движение по Дороге жизни.
За мужество и героизм, проявленные её моряками Ладожская флотилия в июле 1944 года была награждена орденом Красного Знамени.
7 августа 1941 года по предложению моряков главнокомандование Северо-Западного направления в предвидении операций на Онежском озере приняло решение о формировании флотилии. Численность флотилии на 1 октября составляла лишь около 500 человек. Для начала 5 буксиров были переоборудованы под канонерские лодки с установкой на них небольших пушек.
Флотилии предстояло взаимодействовать с 7-й и 32-й армиями. Сухопутные части чувствовали необходимость помощи со стороны Онежского озера, поэтому в октябре на флотилию спешно перебросили из Зеленодольска 4 бронекатера, было вооружено несколько тральщиков.
В апреле 1942 года приказом наркома ВМФ на Онежском озере был сформирован Онежский отряд кораблей, более сильный, чем флотилия, и подчинённый непосредственно Наркомату ВМФ.
Он состоял из дивизиона канонерских лодок (7 единиц), дивизиона бронекатеров (8 единиц), дивизиона катерных тральщиков (5 единиц), 4 сторожевых и различных вспомогательных кораблей. Всего к лету 1942 года на Онежском озере насчитывалось уже около 30 кораблей.
В состав отряда включили плавучую 76-миллиметровую батарею и 31-й отдельный батальон морской пехоты. Численный состав отряда вырос до 2 тысяч человек.
В самом конце 1942 года отряд был переформирован в Онежскую военную флотилию.
Непобеждённый Севастополь
Летом 1942 года гитлеровцы надеялись добиться перелома в ходе войны в свою пользу. А потому ещё до завершения боёв за Керчь начали стягивать к Севастополю крупные силы. Бои за Севастополь в июне 1942 года поражают своим упорством и ожесточённостью.
Стремление Манштейна любой ценой выполнить приказ фюрера, заранее подарившего ему бывший Воронцовский дворец в Алупке…
Третий штурм Севастополя начался 7 июня 1942 года, хотя фактически борьба за город не прекращалась с ноября 1941 года. Почти месяц шли непрерывные жестокие бои за город. Такого упорного сопротивления враг не ждал.
Вся тяжесть перевозок легла на корабли эскадры. С февраля по июнь они сделали 92 рейса. Пришлось привлекать и подводные лодки. 27 из них совершили в мае-июне 1942 года 80 переходов с целью доставки грузов и вывозом раненых.
Командующий ЧФ Октябрьский говорил:
«На основании неопровержимых и точных данных 19 апреля, т.е. почти за три недели до наступления армии Манштейна на Керченском полуострове я лично доложил Военному совету Крымского фронта о готовящемся ударе».
Готовясь к штурму, противник сосредоточил вокруг Севастополя около 204 тысяч солдат и офицеров, 670 орудий калибра от 75 до 420 миллиметров, 655 противотанковых пушек, 720 миномётов, батарею сверхтяжёлых 600-миллиметровых мортир, 450 танков и 600 самолётов.
Численность войск СОР составляла около 106 тысяч человек, из них в боевых частях насчитывалось 82 тысячи. На вооружении этих сил имелось 600 орудий разных калибров, около 2 тысяч миномётов, 38 танков, 53 исправных самолёта.
Флот был готов даже на тех немногих аэродромах, которыми мы располагали в районе Севастополя принять ещё сотню истребителей, готов был перевезти танки даже на линкоре, если они будут поданы в Поти или Туапсе. Однако после потери Керчи все силы и средства крайне нужны были в другом месте: враг готовился наступать на Волгу и Кавказ.
Командующий Приморской армией генерал И.Е. Петров почти всю войну прошёл вместе с флотом.
После наших неудач у Керчи мои доклады о героической борьбе защитников Севастополя вызывали у И.В. Сталина, как я видел, явно тёплое чувство.
12 июня Верховный главнокомандующий послал телеграмму:
«Вице-адмиралу Октябрьскому, генерал-майору Петрову. Горячо приветствую доблестных защитников Севастополя – красноармейцев, краснофлотцев, командиров и комиссаров, мужественно отстаивающих каждую пядь советской земли и наносящих удары немецким захватчикам и их румынским прихвостням. Самоотверженная борьба севастопольцев служит примером героизма для Красной Армии и советского народа.
Уверен, что славные защитники Севастополя с достоинством и честью выполнят свой долг перед Родиной, Сталин»
Борьба за Севастополь воскрешала его эпопею в годы Крымской войны.
Кроме людей лидер «Ташкент» взял ещё знаменитую панораму «Оборона Севастополя», спасённую матросами из огня. В последние дни июня обстановка в Севастополе резко ухудшилась. По обстановке было ясно: Севастополь придётся оставить. Переговорив по телефону со Сталиным, я в 16 часов 40 минут послал Военному совету ЧФ телеграмму о том, что эвакуация разрешена. Таким образом, 30 июня Ставка приняла решение оставить город.
История войн знает немало случаев упорной обороны приморских городов и военно-морских баз, но найти что-либо равное обороне Севастополя трудно.
Подвиг Севастополя можно, пожалуй, сравнить с подвигом Ленинграда.
Л.Н. Толстой писал: «не может быть, чтобы при мысли, что вы в Севастополе, не проникло в вашу душу чувство какого-то мужества, гордости и чтобы кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах».
На северных морских дорогах
В 1942 году война в Заполярье стала позиционной. Однако оборону главной базы флота и Кольского залива Ставка Верховного Главнокомандования возложила на Северный флот. В конце июля был создан Северный оборонительный район (СОР). Командующего районом генерал-лейтенанта береговой службы С.И. Кабанова сразу подчинили Командующему СФ.
Для фашистской Германии морские пути на Севере были важны ещё и потому, что по ним вывозилось ценное стратегическое сырьё: никелевая руда из Петсамо (Никель), молибден, целлюлоза и железная руда из Киркенеса.
Подводные лодки СФ в 1941-1942 годах потопили 77 транспортных судов и 27 военных кораблей, т.е. свыше 60 процентов тоннажа, потерянного противником на Северном морском театре за это время.
Первые внешние конвои начали приходить после того, как на Московской конференции трёх держав – СССР, Англии и США– 29 сентября-1 октября 1941 года было подписано соглашение о взаимных поставках.
Самые короткие пути – по Балтийскому и Чёрному морям – были блокированы противником. Пришлось использовать менее удобные пути – Северный, Тихоокеанский и Иранский.
Тихоокеанские коммуникации, по которым шло около половины грузов, предназначенных для СССР, проходили от портов западного побережья США до Владивостока, Николаевска-на-Амуре, и Петропавловска-Камчатского.
Переход судов занимал в среднем 18-20 суток. К этому следует добавить время, требовавшееся для перевозки грузов по железной дороге на американской и советской территории. Когда началась война между Японией и США, морские перевозки могли осуществлять только советские транспорты. Несмотря на строгое соблюдение Советским Союзом нейтралитета, японцы всячески препятствовали судоходству на Тихом океане, а порой даже топили наши суда.
Ещё более долгим и трудным был путь через Персидский залив в Иран. Переход конвоя от Нью-Йорка до берегов Ирана вокруг мыса Доброй Надежды занимал до 75 дней.
Ограниченные возможности иранских портов и сухопутных дорог удлиняли сроки доставки грузов. Только после капитуляции Италии и восстановления свободного судоходства по Средиземному морю в 1943 году этот путь значительно сократился.
Путь из Англии и США через Северную Атлантику и Баренцево море в Мурманск и Архангельск был наиболее коротким. 1800-2000 миль конвои проходили за 10-14 суток. К тому же порты на Севере были ближе других к фронту и промышленным районам, куда направлялись прибывшие грузы. Незамерзающий Мурманский порт круглый год мог принимать суда.
Этот путь проходил в зоне активных действий немецких морских и воздушных сил. С баз в Северной Норвегии они могли вести разведку и нападать на конвои. Большая протяжённость маршрута, а в летнее время долгий полярный день помогали врагу.
Когда в октябре 1941 года я прилетел в Москву из Куйбышева, меня вызвали в Кремль, к И.В. Сталину. Тревожные дни, которые переживала столица, наложили свой отпечаток и на обстановку в Кремле, но в облике самого И.В. Сталина ничто не изменилось.
Одетый по-прежнему в серый френч с отложенным воротником, он ходил вдоль длинного стола, временами ломая папиросы «Герцеговина флор» и набивая их табаком трубку.
— Вам нужно спешно отправиться на Северный флот, — начал Сталин и пояснил, что он не уверен, всё ли там подготовлено для встречи конвоев союзников. Обеспечить охрану конвоев СФ было нелегко. Но в октябре 1941 года основные морские силы немцев находились ещё на Западе.
В тёмные осенние ночи конвои шли без особых помех и быстро разгружались в Архангельске или Мурманске. В первых числах ноября на Северной Двине появился первый лёд – предвестник суровой полярной зимы.
В те дни мы обсуждали, как долго смогут транспорты приходить до Бакарицы, что немного выше Архангельска, или до Северодвинска, когда и в какое время до начала ледостава, можно использовать аванпорт Экономия.
Когда вскоре после нападения фашистской Германии на СССР встал вопрос об открытии второго фронта, Сталин в послании Черчиллю 18 июля писал, что «положение Советского Союза, равно как и Великобритании, было бы значительно улучшено, если бы был создан фронт против Гитлера на Западе (Северная Франция) и на Севере… Легче создать фронт на Севере. Здесь потребуется действия английских морских и воздушных сил без высадки войскового десанта, без высадки артиллерии».[78] Речь шла, собственно говоря о высадке в Северной Норвегии лишь небольших сил англичан (одной лёгкой дивизии) или, скорее, норвежских добровольцев «для повстанческих действий против немцев». Однако Черчилль отклонил даже такой вариант «второго фронта», сославшись на трудности и недостаток сил. Вопрос этот не сходил с повестки дня вплоть до июня 1944 года, когда войска союзников начали высадку в Нормандии… 13 сентября 1941 года Сталин предложил, чтобы Англия высадила 25-30 дивизий в Архангельске или перевезло их через Иран в южные районы СССР. Однако Черчилль не захотел посылать в бой свои войска и предложил в качестве помощи заменить наши части в Иране или послать английские войска на Кавказ «для охраны нефтяных районов».
Суть этого неслыханного предложения сразу прояснила истинные причины, по которым Англия всячески тянула с открытием второго фронта не только в 1941-1942 годах, но и в течение всего 1943 года.
Союзники уклонились от организации второго фронта в 1942 году, когда этого не только настоятельно требовала обстановка, но сам вопрос был уже фактически согласован. Этот факт остаётся неоспоримым.
Сейчас появилось достаточно документов и мемуаров, где с полной откровенностью рассказывается об истинных побуждениях руководителей Англии и США не спешить с открытием второго фронта, пока не определится решительный перелом в ту или иную сторону. Опасность и степень угрозы непосредственно для Британских островов, а значит и для США, являлись для руководителей США и Англии главным критерием необходимости открытия второго фронта, связанного с риском и потерями. Их высказывания в то время теперь хорошо известны всему миру.
К тому же, когда на Западе думали о втором фронте, обязательно принимали в расчёт и положение на Дальнем Востоке.
Кое-кто в США всё ещё надеялся, что Япония выступит наконец против Советского Союза. Случись это, Америке удалось бы отвести удар от своих владений на Тихом океане в нашу сторону.
Формула «не вмешиваться в борьбу немцев и русских, пока нет крайней необходимости» сработала безотказно.
Среди различных причин, в силу которых правительство Англии не торопилось с открытием второго фронта, не последнюю роль играло мнение некоторые влиятельных английских военных, которые считали, что «Россия вскоре потерпит поражение». Но вернёмся на Север.
Пунктами, где в 1941-1943 годах формировались конвои, являлись порты Лох-ю и Скапа-Флоу в Англии и Рейкьявик в Исландии. Маршрут конвоев проходил из Англии или Исландии через остров Ян-Майен и Медвежий – в Мурманск и Архангельск.
Осенью 1941 года была установлена разграничительная линия между зонами действий английского и нашего флотов по обеспечению перехода конвоев. Сначала она проходила по меридиану 18°, а затем – по меридиану 20°.
Британская военно-морская миссия в СССР имела свои отделения в Полярном и Архангельске, где были радиостанции для связи со своим адмиралтейством, базой в Исландии, кораблями и конвоями в море.
Под давлением адмиралтейства, опасаясь дальнейших потерь, Черчилль пытался прекратить отправку конвоев до наступления полярной ночи.
Каждый год с наступлением полярного дня британское адмиралтейство почти прекращало отправку конвоев в СССР.
Здесь уместно рассказать о трагической судьбе конвоя «PQ-17», состоявшего из 34 транспортов. Конвой вышел из Исландии 27 июня 1942 года. От подводных лодок и авиации его охраняли 6 эсминцев, 2 корабля ПВО, 4 корвета, 2 подводные лодки и 7 тральщиков; от надводных кораблей прикрывали 2 английских и 2 американских крейсера и 3 эсминца под командованием адмирала Гамильтона, которому подчинялись и корабли непосредственного охранения.
Наши подводные лодки находились на вероятном пути немецкого линкора «Тирпиц», который, как это бывало прежде, мог выйти вместе с другими кораблями для удара по конвою.
Советские эсминцы готовились встретить конвой на подходе к Мурманску.
Английское адмиралтейство дополнительно сосредоточило западнее конвоя для его прикрытия линкор «Дьюк ОВ Йорк» и американский линкор «Вашингтон», авианосец «Викториес», 2 крейсера и 14 эсминцев.[79]
При таком преимуществе в силах можно было не особенно опасаться линкора «Тирпиц», если бы тот появился.
Однако начальник английского морского штаба адмирал Дадли Паунд, узнав, что «Тирпиц» вышел в море, приказал всем силам прикрытия отойти на запад.
Адмирал Гамильтон получив этот странный приказ, «перевыполнил» его. Он распорядился отойти тем боевым кораблям, которые непосредственно охраняли конвой. Транспорты остались совершенно беззащитными.
Из 34 транспортных и 2 спасательных судов конвоя погибло 24. Командование СФ приняло меры для поиска и спасения уцелевших транспортов. Обнаруженные в самых различных пунктах, вплоть до Новой Земли, уцелевшие транспорты под охраной наших кораблей пришли в Архангельск.
В 1968 году вышел объёмный труд Д. Ирвинга «Разгром конвоя «PQ-17». Автор со знанием дела описывает события. Ирвинг пишет, что «Тирпиц» и другие немецкие корабли ещё стояли на якорях в Альтен-фьорде, когда на английскую эскадру из Уойтхолла поступила радиограмма: «Секретно. Весьма срочно. Крейсерам на полной скорости отойти на запад». Это было 4 июля 1942 года в 21 час 11 минут. И тогда была получена вторая депеша: «Секретно. Срочно. Ввиду угрозы надводных кораблей конвою рассеяться и следовать в русские порты». Вот так ещё до выхода «Тирпица» в море была решена судьба конвоя с грузом стоимостью свыше 700 миллионов долларов, с грузами, которые так нужны были советским войскам. Вечером 4 июля фашистские торпедоносцы совершили первую атаку. О трагическом случае с конвоем «PQ-17» я доложил И.В. Сталину.
— Была ли необходимость бросить конвой? – спросил меня Сталин.
Я ответил, что Адмирал Паунд не захотел рисковать своими крупными кораблями ради конвоя, шедшего в СССР.
Черчилль взял под защиту адмирала Паунда. Вместо объективного разбора он использовал трагедию конвоя «PQ-17» для того, чтобы вообще отложить движение конвоев до наступления полярной ночи. Об этом он написал 18 июля Сталину, излагая трудности проводки конвоев Северным путём и обещая усилить снабжение через Иран.
23 июля Сталин с присущей ему прямотой ответил Черчиллю «Приказ Английского Адмиралтейства 17-му конвою… наши специалисты считают непонятным и необъяснимым… Но в обстановке войны ни одно большое дело не может быть осуществлено без риска и потерь. Вам, конечно, известно, что Советский Союз несёт несравненно более серьёзные потери».[80]
Пока в Москве и Лондоне велись переговоры, уходило драгоценное время. Только 7 сентября из Исландии вышел следующий конвой из 40 транспортов и 31 корабля охранения.
В английской зоне обеспечение оказалось недостаточным, и конвой потерял 13 транспортов, а после встречи конвоя нашими эсминцами и авиацией был потерян всего один транспорт. Однако Английское Адмиралтейство вновь прекратило отправку конвоев. За годы войны из наших северных портов – Архангельска и Мурманска – было отправлено 717 транспортов. Потери от кораблей и авиации противника составили около 90 транспортов, из них 11 советских. Уполномоченным ГКО в Архангельске и Мурманске, ведающим разгрузкой транспортов, был назначен И.Д. Папанин. Ему-то и пришлось пережить все трудности борьбы со льдами. Много конвоев формировалось в Галифаксе, в Канаде, куда собирались транспорты.
Не следует забывать, что поставки союзников составляли лишь незначительный процент того, что требовала война от Советского Союза.
Не буду приводить цифры: они не раз публиковались в различных изданиях. Но напомнить об этом необходимо, так как буржуазные фальсификаторы истории второй мировой войны продолжают непомерно раздувать роль поставок союзников в нашу страну.
Военные моряки сотрудничали с работниками Главсевморпути и перед войной, когда переводили военные корабли Северным морским путём для усиления флота на Дальнем Востоке, и во время войны, когда боевые корабли шли обратным путём с Тихого океана на Север.
Наши внутренние и внешние морские коммуникации в том районе защищала Беломорская военная флотилия, входившая в состав Северного флота. Её сформировали в августе 1941 года. Морские перевозки во время арктической навигации охраняли Северный отряд (Отряд Карского моря), 2-я авиагруппа Севморпути и четыре береговые батареи.
Появление немецкого флота на Северном морском пути привлекло внимание Верховного Главнокомандующего. Я выслушал серьёзный упрёк за то, что «под носом у Головко» (т.е. вблизи главной базы флота) проходят неприятельские корабли. Упрёк был справедливый (рейд линкора «Адмирал Шеер» в арктические воды).
В первый период войны транспортные суда на арктических трассах наших внутренних коммуникаций совершили 1300 переходов. Наши потери за это время составили 7 транспортов, 7 кораблей охранения и 10 вспомогательных судов.
Враг остановлен
Новороссийск – неспокойный порт. Внезапный ветер с гор – «бара» — заставляет быть начеку. Летом 1942 года гитлеровцы развернули наступление на Сталинград и Кавказ. Да, бесспорно, Черноморский флот помешал «вторжению на Кавказ с моря».
Когда 12 мая я вернулся в Москву, в Ставке… беспокоились о создании рубежей обороны на Таманском полуострове, которые преградили бы путь врагу к Туапсе и Новороссийску. Последнему Ставка придавала большое значение. «Немцы не должны завладеть Новороссийском», — сказал мне Сталин в тяжёлые дни борьбы за Кавказ.
17 августа был создан Новороссийский оборонительный район (НОР). Командующим НОР был назначен командующий 47-й армией генерал-майор Г.П. Котов, а его заместителем по морской части и членом Военного совета района – командующий Азовской флотилией контр-адмирал С.Г. Горшков.
В конце августа (1942г) противник вышел на ближние подступы к Новороссийску. Ценой огромных потерь врагу всё же удалось захватить почти весь город. В наших руках осталась лишь его окраина – берег Цемесской бухты. Но из-за этого фашисты так и не смогли использовать Новороссийский порт, самый крупный в северной части Кавказского побережья.
При обороне Туапсе 4 октября 1942 года получил тяжёлое ранение мой заместитель адмирал И.С. Исаков, бывший в то время членом Военного совета Закавказского фронта. Ногу пришлось ампутировать и в Сочи был срочно направлен главный хирург флота. Из госпиталя Иван Степанович послал телеграмму Сталину и наркому ВМФ. Он сообщил о своём тяжёлом состоянии и просил в случае смерти назвать его именем один из новых эсминцев. Не успел я прочесть эту телеграмму, как Сталин сам позвонил мне, что делал нечасто.
— Вы получили телеграмму Исакова?
Я сказал, что получил и что к раненому командирован главный хирург флота.
— Немедленно напишите ответ. – При этом он объяснил, каково должно быть содержание ответа.
Через несколько минут я прочёл по телефону текст заготовленной телеграммы:
«Сочи. Адмиралу Исакову. Не теряйте мужества, крепитесь. По мнению врачей, вы можете выздороветь. Ваша жена вылетела к вам. В случае трагического исхода лучший эсминец Черноморского флота будет назван «Адмирал Исаков». Желаем здоровья»
— От чьего имени посылаете телеграмму?
— От вашего, товарищ Сталин.
— Нет, — сказал он, — пошлём за двумя подписями: Сталин, Кузнецов.
Ивана Степановича удалось спасти.
Сталинград
Тяжёлыми, очень тяжёлыми были лето и осень 1942 года. Немецкие армии дошли до Кавказского хребта, развернули бои на улицах Сталинграда.
Сталинградская битва с новой силой показала превосходство советского военного искусства и советской техники.
Гитлеру ничего не оставалось, как отметить своё поражение под Сталинградом общенациональным трёхдневным трауром. Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки Советских Вооружённых Сил.
В октябрьские дни (1941г.) наступления немцев на Москву учебный отряд преобразовали в Волжскую военную флотилию. В неё вошли 7 канонерских лодок, оборудованных из речных судов, 15 бронекатеров, около 30 тральщиков и 2 плавучие батареи. В июле 1942 года гитлеровская авиация начала минирование фарватера. На всём протяжении реки от Астрахани до Саратова… в воду падали мины.
За время Сталинградской битвы через реку под огнём противника было перевезено более 120 тысяч человек, свыше 13 тысяч тонн различных грузов, 1925 ящиков с минами, более 400 автомобилей. Различные плавучие средства сделали более 35 тысяч рейсов через Волгу.
Победная поступь. Черноморцы наступают
К началу 1943 года на Чёрном море мы имели линейный корабль, 4 крейсера, лидер эсминцев, 7 эскадренных миноносцев, 2 сторожевых корабля, 67 торпедных катеров, 31 тральщик, 29 подводных лодок.
В ВВС флота находилось в строю 280 различных самолётов. Пополнялась Азовская военная флотилия. Противник в это время имел на Чёрном море вспомогательный крейсер, 4 эсминца, 3 миноносца, 10 канонерских и 12 подводных лодок, 130 различных катеров и более 100 самоходных десантных барж и морских паромов, авиация насчитывала 360 самолётов.
Перед черноморцами остро встала задача нарушать морские сообщения противника.
Эти меры дали свои результаты. С 8 февраля по 3 марта 1943 года враг был вынужден снабжать свои войска в Тамани, по существу, лишь воздушным путём. Этим занимались 250 транспортных самолётов 8-го воздушного флота. Но и им такая задача была не под силу, ведь на Северном Кавказе у гитлеровцев было 398 тысяч солдат и офицеров, 110 тысяч лошадей, 2500 автомашин.
Во второй половине ноября 1942 года, в разгар Сталинградской битвы, меня вызвали в Ставку. Принял И.В. Сталин. Сообщил, что Генштаб разрабатывает наступательную операцию на юге. От меня требуются предложения о действиях флота.
Внезапно я узнал, что в районе Новороссийска предложено высадить новый крупный десант. Ещё 11 февраля Ф.С. Октябрьский докладывал мне и командующему Северо-Кавказскому фронтом: «Перебросить тяжёлую артиллерию, танки, автомашины не на чем». Будучи на ЧФ я убедился, что флот действительно не в состоянии был осуществить такой крупный десант.
Вернувшись в Москву, я доложил своё мнение Ставке. Сталин не согласился с моим мнением. По его распоряжению под Новороссийск выехала специальная группа во главе с Г.К. Жуковым, чтобы на месте уточнить положение дел. С этой группой выехал и я.
В годы войны мне редко доводилось выезжать в войска вместе с маршалом Г.К. Жуковым. Он глубоко и всесторонне вникал в обстановку, схватывал главное, умел доверять и проверять. Вместе с маршалом Жуковым мы приняли меры чтобы усилить перевозки на Мысхако.
И всё же Г.К. Жуков, оценив сложившуюся обстановку, согласился с нами, что высаживать сейчас новый крупный десант на Малую Землю нецелесообразно. При мне он по телефону доложил это мнение в Ставку. Москва согласилась.
По предложению Г.К. Жукова было решено прекратить наступление войск Северо-Кавказского фронта, чтобы как следует подготовить их для новых решительных действий.
После возвращения в Москву я числа 22-го или 23 апреля был вызван в Ставку. Сталин спросил меня, кого бы я рекомендовал на должность командующего ЧФ.
Я знал, что Верховный недоволен Ф.С. Октябрьским. Но не думал, что недовольство зашло так далеко. По видимому, сыграл свою роль и неудачный десант в Южную Озерейку.
Я предложил назначить вместо него вице-адмирала Л.А. Владимирского, до этого командовавшего эскадрой и проявившего себя решительным и вдумчивым военачальником. За все предшествовавшие месяцы войны ни один командующий флотом у нас не был сменён. Смещение Ф.С. Октябрьского тоже оказалось временным. Менее чем через год, в марте 1944 года, он был возвращён с Амурской флотилии и снова стал командовать ЧФ.
Блокада прорвана
Когда я снова прилетел в Ленинград в ноябре 1942 года, город ещё находился в тяжёлом положении. Всё ещё трудно было с продовольствием.
Несмотря на огромные трудности, подводники Балтики в 1942 году успешно действовали на морских коммуникациях противника. Они потопили только за одно лето 56 вражеских транспортов водоизмещением 150 тысяч тонн.
Подводные лодки мы очень берегли и старались использовать их с максимальной эффективностью. Помню, когда над Ленинградом нависла особая угроза и даже возник вопрос о возможном уничтожении кораблей, кое-кто из флотских товарищей предлагал воспользоваться Зундом-проливом, связывающим Балтийское и Северное моря, чтобы перевести часть подводных лодок на Северный флот.
Я доложил Ставке о готовящейся операции (хотя в душе и не совсем соглашался с этим замыслом). И.В. Сталин хмуро выслушал меня и ответил довольно резко, в том смысле, что не об этом следует думать, надо отстаивать Ленинград, а для этого и подводные лодки нужны, а коль отстоим город, тогда подводникам и на Балтике дела хватит.
На Балтике подводникам было трудно, особенно в Финском заливе. Глубины здесь небольшие. Поэтому каждая мина становится особенно опасной, так как лодка не может уйти на глубину. Наши подводные лодки наводили на врага такой страх, что он не жалел сил и средств для борьбы с ними.
Немцы перекрыли Финский залив в самом узком месте, в районе Нарген-Порккала-Удд, мощными противолодочными средствами.
Для охраны этого района он сосредоточил 14 сторожевых кораблей, более 50 тральщиков и свыше 40 различных катеров.
В ближних районах моря – в Финском заливе – действовали главным образом пикировщики и штурмовики.
Морские лётчики и здесь добились внушительного успеха: они потопили 23 и повредили более 30 фашистских судов. По данным самих же немцев – Ю. Майстера, Ф. Руче и других – с начала войны до конца 1943 года всеми средствами нашего морского оружия (в том числе и от мин) были потоплены или получили серьёзные повреждения 400 фашистских кораблей.
Вернувшись из Ленинграда в конце ноября, я доложил Ставке о состоянии флота и его действиях. Коснулся событий, связанных с отражением десанта противника на острове Сухо в Ладожском озере. Сталин проявил к этому вопросу повышенный интерес, попросил развернуть карту, стал расспрашивать о кораблях флотилии и железнодорожной артиллерии в этом районе.
Я старался ответить со всей обстоятельностью, понимая, чем вызван этот интерес: речь шла о стыке Ленинградского и Волховского фронтов. Сталин и на этот раз не раскрыл деталей предстоящей операции. Генштаб ознакомил нас с ними чуть позже, когда подготовка к наступлению развернулась полным ходом.
Вести с фронтов радовали. Наши войска добивали окружённую армию Паулюса. Гитлеровцы начали отступать с Кавказа. Инициатива уже полностью перешла к Красной Армии.
Перед Ленинградским и Волховским фронтами была поставлена задача деблокировать героический город на Неве.
Первый мощный удар для ликвидации так называемого Шлиссельбургско-Синявинского выступа противника должна была нанести 67-я армия Ленинградского фронта при содействии артиллерии и авиации Балтийского фронта.
Прежде чем начать наступление, предстояло усилить 67-ю армию. Перед моряками была поставлена задача обеспечить оперативные перевозки. Они начались 13 декабря и продолжались до начала января, когда лёд уже сковывал озеро.
За этот короткий срок из Кабоны в Осиновец было доставлено более 38 тысяч человек и 1678 тонн различного груза.
Основная тяжесть легла прежде всего на Ладожскую флотилию (командующий капитан 1 ранга В.С. Чероков). Как рассказывает В.С. Чероков, из-за холодной и затяжной весны навигация (1942 года – пр. ред.) открылась позднее обычного – 22 мая и закрылась она позднее – 13 января, когда параллельно уже действовала и ледовая трасса.
За лето и осень судами флотилии было переброшено огромное количество грузов. Войска фронта и флот получили более 300 тысяч человек пополнения. Кроме того через Ладогу было переправлено около 780 тысяч тонн продовольствия и боеприпасов, 300 тысяч тонн промышленного оборудования, 271 паровоз и тендер, более 1000 груженых вагонов. В дни прорыва блокады Ленинграда морская артиллерия выпустила по врагу 29101 снаряд.
16 января 1943 года моряки, можно сказать, выручили наши войска. Вражеский натиск был отражён в основном мощным огнём морской артиллерии. И вот настал день, когда два фронта соединились. Это означало – блокада прорвана.
Главная водная магистраль страны
После сталинградской победы противник был отброшен от Волги. Красная Армия с каждым днём получала всё больше самолётов, танков и другой техники. Фронты постоянно требовали горючего. Активизация Балтийского и Северного флотов также увеличила спрос на горючее. В связи с этим Волга по-прежнему оставалась важной стратегической коммуникацией, по которой могла идти нефть.
С ранней весны, как только прошёл лёд немецкие самолёты начали минирование фарватеров… В конце апреля и самом начале мая на минах подорвалось несколько барж с топливом. Нефть горела, разлившись по реке. Движение караванов замедлилось, а в районе Каменного Яра скопилось сорок нефтяных барж.
Однажды утром из секретариата И.В. Сталина мне позвонил А.Н. Поскрёбышев: «Немедленно приезжайте! Разбирается вопрос о плавании по Волге».
В кабинете Сталина в Кремле собрались члены ГКО и работники Генштаба.
— О значении Волги и перевозок по ней вам, я думаю, говорить не нужно? – сказал он мне и взял со стола какую-то телеграмму. Задав ряд вопросов, Сталин дал мне указание:
— Вам надлежит выехать на место, разобраться во всём и принять самые решительные меры для обеспечения движения судов.
По обыкновению, он тут же спросил, когда я намерен вылететь в Сталинград. Я попросил разрешения задержаться на сутки, чтобы переговорить с А. И. Микояном и наркомом речного флота З.А. Шашковым. Тогда же произошла смена командования Волжской флотилии. Командующему предстояло в спешном порядке организовать борьбу с немецкими минами на всём протяжении реки от Астрахани до Куйбышева.
Я остановился на контр-адмирале Ю.А. Пантелееве, член Военного совета флотилии. И.В. Рогов предложил назначить капитана 1 ранга Н.П. Зарембо опытного политработника с Тихого океана. Доложили Сталину. Он долго выпытывал сведения о каждом. Потом сказал:
— Хорошо. Сами представьте их Государственному Комитету Обороны.
8 мая с З.А. Шашковым и Ю.А. Пантелеевым я вылетел в Сталинград. На Волге в короткий срок сотни гражданских судов-буксиров, катеров – были переоборудованы в тральщики. На берегах реки появилось более четырёхсот наблюдательных постов, следивших за каждым вражеским самолётом и за каждой сброшенной миной.
И это дало свои результаты: суда перестали подрываться. Обстановка на Волге докладывалась в Ставку ежедневно. Для решительного усиления противовоздушной обороны караванов было спешно сформировано двести отдельных зенитных взводов. Они сопровождали караваны.. На берегу удалось создать 15 береговых батарей ПВО. Эти батареи прикрывали места стоянок караванов.
Каждый караван на всём пути от Астрахани до места назначения охранялся кораблями флотилии.
Налёты на Саратов и Энгельс были последними попытками немцев в борьбе за Волгу. За лето по реке прошло 8 тысяч судов. Они доставили более 7 миллионов тонн нефтепродуктов.
— Ну как с перевозками на Волге? – спросил меня Сталин однажды в середине августа.
— По-моему, неплохо, — ответил я.
Верховный похвалил моряков.
— В победе под Курском есть и их вклад, — сказал он. — Передайте это вашим товарищам.
Немцы не выдержали напряжения борьбы за Волжский путь и прекратили её.
На Волге выросли замечательные кадры моряков. Уже в конце лета 1943 года мы стали черпать оттуда кадры для вновь создаваемой Днепровской флотилии. Моряки уходили для вновь создаваемой Днепровской флотилии. Моряки уходили на Днепр со своими кораблями: катера грузили на платформы и перевозили по железной дороге. Много бронекатеров вместе с командами перебрасывались на юг. Они участвовали в Керченско-Эльтигенской десантной операции, а затем действовали на Дунае.
В июне 1944 года Волжская флотилия была расформирована.
Десант в Новороссийский порт
18 августа по указанию И.В. Сталина я вылетел в Краснодар к командующему Северо-Кавказским фронтом генерал-полковнику И.Е. Петрову. Моряки прониклись любовью и уважением к Петрову ещё при обороне Одессы и Севастополя, когда он командовал Отдельной Приморской армией. Он ознакомил с замыслом операции. Цель её заключалась в том, чтобы разгромить всю вражескую Таманскую группировку. Прежде чем приступить к прорыву Голубой линии, предусматривалось освободить Новороссийск. 16 сентября Новороссийск был полностью освобождён. Штурм города… осуществлялся одновременно с суши и с моря. В день освобождения Новороссийска я был в Кремле. И.В. Сталин, довольный, слушал по радио звучный голос Левитана, читающий приказ Верховного Главнокомандующего. Потом мы наблюдали салют. Верховный улыбался. – Хорошо поработали, — проговорил он, поглаживая усы. Ещё в конце января 1943 года я поднял в Ставке вопрос о целесообразности воссоздания Азовской флотилии… Получив согласие Верховного Главнокомандования, я 3 февраля 1943 года подписал соответствующий приказ. Возглавил флотилию её прежний командующий контр-адмирал С.Г. Горшков. В Ейске формировалась основная база флотилии. В ту пору флотилия содействовала главным образом частям 44-й армии Южного фронта.
В ночь на 30 августа она высадила десант в районе Безымановки (западнее Таганрога), 8 сентября — у посёлка Ялта, 10 сентября – два технических десанта в Мелехино. В ночь на 17 сентября сошедший с корабля десант из 900 человек занял порт Осипенко (Мариуполь), лишив противника возможности эвакуировать из этого района свои войска. В сентябре же флотилия способствовала освобождению Бердянска.
20 сентября с помощью морского десанта была освобождена Анапа. 3 октября войска 18-й армии во взаимодействии с морским десантом освободили город Тамань.
Двое суток спустя на косу Тузла, в центральной части Керченского пролива был высажен ещё один десант. Весь Таманский полуостров был теперь в наших руках.
В студёных широтах
В отличие от Балтийского и Черноморского Северный флот, взаимодействуя с 14-й армией Карельского фронта всю войну был подчинён непосредственно наркому ВМФ.
За первые четыре месяца 1943 года наши лодки потопили и повредили более сорока вражеских судов.
В 1942-1944 годах моряки получили 2 лёгких крейсера, 6 эсминцев и сторожевых кораблей, 29 подводных лодок, свыше 450 боевых катеров, около 300 различных тральщиков, свыше 1100 вспомогательных судов и различных плавучих средств.
Сухопутных путей сообщения у нас на Севере в то время почти не было. Кировская железная дорога и Беломорско-Балтийский канал бездействовали –их перерезал противник. Морем перевозились грузы из Мурманска в Архангельск. Связь с районами восточнее Архангельска осуществлялась главным образом Северным морским путём: по нему шли транспорты с импортными грузами с Дальнего Востока; в Архангельске эти грузы перегружались на железную дорогу. По этому пути шли грузы и на Дальний Восток.
Действовали четыре основные направления перевозок: Кольский залив-Белое море; Белое море-Арктика; Кольский залив-Мотовский залив; между портами Белого моря. О значении внутренних водных путей на Севере свидетельствуют хотя бы такие цифры: за войну по ним было переброшено около 1 миллиона 200 тысяч человек пополнения для фронта и флота и свыше 1 миллиона 600 тысяч тонн различных грузов.
Незадолго перед моим приездом ГКО возложил на Северный флот задачу вывезти из Арктики в Белое море ледокол «Иосиф Сталин» и ледорез «Литке» — они были нужны для проводки союзных конвоев в зимнее время. Ледоколы были доставлены в целости и сохранности.
Бросок в Крым
Осенью 1943 года блокированные в Крыму вражеские войска могли снабжаться только морем. Перед нашими моряками остро встаёт проблема срыва вражеских перевозок. На войне потери неизбежны. Но случай с тремя эсминцами «Харьков», «Беспощадный», и «Способный» (они погибли в Чёрном море 7 октября 1943 года, возвращаясь из набега к Ялте и Феодосии от вражеской авиации) ничем нельзя оправдать.
Вернувшись в Москву, я со всей откровенностью, признавая и свою вину, доложил обо всём И.В. Сталину. В ответ услышал горький упрёк. Он был справедлив. Обстрел кораблями побережья Крыма осуществлялся с согласия генерала И.Е. Петрова. Ему тоже досталось от Верховного. А больше всего, конечно командующему флотом Л.А. Владимирскому. Урок был тяжёлый – на всю жизнь.
В начале октября 1943 года маршал А.М. Василевский в штабе Южного фронта ознакомил меня с доложенным в Ставку планом овладения Крымом. Но вернувшись в Москву, я узнал, что Ставка приняла другой план. Было решено сначала высадкой десантов захватить плацдарм на Керченском полуострове, а затем совместно с войсками Южного фронта повести решительное наступление на Крым. В директиве Ставки говорилось: «Задачу по овладению Крымом надо решать совместными ударами войск Толбухина и Петрова с привлечением Черноморского флота и Азовской флотилии».
В двадцатых числах октября Верховный Главнокомандующий приказал мне вылететь на Черноморский флот.
— Не задерживайтесь там, — сказал он и добавил: — Там находится Тимошенко, — намекая, что я обязан встретиться с представителем Ставки. Я вылетел в Краснодар. И.Е. Петров при первой же встрече пожаловался, что ЧФ не может добиться полного господства в Керченском проливе и что средств высадки недостаточно, и к тому же они по своим размерам сильно зависят от погоды.
Остановился у командира Новороссийской базы Г.Н. Холостякова. Ему предстояло руководить высадкой десанта в самом узком месте пролива. В Геленджике находился и комфлот Л.А. Владимирский. Покончив с делами в Геленджике, я выехал на Азовскую флотилию. По обеим сторонам дороги от Новороссийска до Темрюка стояли разбитые, а то и совершенно исправные немецкие орудия, танки, машины. Да, на Таманском полуострове гитлеровцы потерпели основательный разгром.
В Темрюке я встретился с контр-адмиралом С.Г. Горшковым. Вместе с ним мы отправились к командующему армией генерал-лейтенанту А.А. Гречко. Его штаб размещался недалеко от Темрюка. Как флотилия, так и армия готовились к крупной и серьёзной десантной операции.
В те дни она ещё называлась Керченско-Эльтигенской. На Таманском полуострове я встретился с представителем Ставки маршалом С.К. Тимошенко. Ориентировочно высадка десантов и перевозка 5 эшелонов 56 армии должна продолжаться 15 суток, а 18 армии – 30.
Общее руководство всей операцией осуществлял генерал-полковник Петров, штаб которого находился в Варенниковской. Высадку десанта предполагали произвести в ночь на 28 октября. Но неожиданно резко ухудшилась погода, и десантирование перенесли на 1 ноября 1943 года. Как много зависело от первого броска, понимали все. Не случайно на причале Кротово десантников провожали командующий 18-й армией генерал-лейтенант К.Н. Леселидзе и начальник политотдела армии полковник Л.И. Брежнев.
Всего Азовская военная флотилия переправила 75040 человек, 2712 лошадей, более 450 орудий разного калибра вплоть до 152-мм. гаубиц, 187 миномётов, 764 автомашин (из них 58 с установками РС), 128 танков, 7180 тонн боеприпасов и большое количество других грузов.
Десанты нанесли противнику большой урон. Войска Отдельной Приморской армии, захватив Еникальский полуостров, оттянули на себя с перекопского направления значительные силы Крымской группировки врага. Тем самым они облегчили наступление войскам 4-го Украинского фронта со стороны Перекопа. Керченско-Эльтигенская операция была одной из крупнейших по размаху: она осуществлялась войсками целого фронта с участием ЧФ и Азовской военной флотилии. Упорные бои за Керчь продолжались много дней. Считается, что Керченская десантная операция завершилась 11 декабря 1943 года. При освобождении Керчи наши люди проявили величайшее мужество. Поэтому заслуженно Керчи ныне присвоено почётное звание «Город-герой»: 14 сентября 1974 года член Политбюро ЦК КПСС Министр обороны Маршал Советского Союза А.А. Гречко вручил городу высокую награду.
Враг отброшен от Ленинграда
С началом войны работа в управлениях Наркомата и в Главном морском штабе шла круглые сутки. Люди посменно отдыхали по нескольку часов в день. Такой распорядок был установлен Сталиным для всего центрального аппарата. В любой момент мог раздаться звонок, вызывающий в Ставку или Генштаб. По замыслу Ставки в операции по освобождению Ленинградской области и Новгорода должны были участвовать войска Ленинградского фронта (командующий генерал армии Говоров) и Волховского (командующий генерал армии К.А. Мерецков) фронтов во взаимодействии с КБФ (командующий адмирал В.Ф. Трибуц) и при содействии сил 2-го Прибалтийского фронта (командующий генерал армии М.М. Попов), дальней авиации и партизанских соединений.
Балтийский флот должен был помочь в переброске 2-й ударной армии из Ленинграда через Лисий Нос на ораниенбаумский плацдарм. Этот плацдарм, удерживаемый советскими войсками с начала войны, Ставка считала наиболее удобным для нанесения одного из основных ударов по противнику.
Переброска частей 2-й ударной армии генерала И.И. Федюнинского на ораниенбаумский плацдарм началась 5 ноября 1943 года. На первом этапе перевозок с 5 по 20 ноября 1943 года было совершено 93 рейса. Второй этап перевозок осуществлялся с 23 декабря 1943 года по 21 января 1944 года.
Всего было перевезено на плацдарм свыше 50 тысяч человек, 211 танков и 670 орудий.
Войска 2-й ударной армии после мощной артиллерийской подготовки утром 14 января двинулись вперёд.
В период с 14 по 30 января войска Ленинградского и Волховского фронтов при активном участии флота полностью разблокировали Ленинград. На втором этапе наступления, с 31 января по 15 февраля, противник был отброшен за пределы досягаемости корабельной и стационарной артиллерии.
Войска вышли на рубеж реки Нарвы.
Во время войны у нас появились новые правительственные награды. Весной 1942 года Указом Президиума Верховного Совета были учреждены ордена Отечественной войны I и II степени, Суворова, Кутузова и Александра Невского, а в октябре 1943 года, в дни боёв за освобождение Украины – орден Богдана Хмельницкого.
Вполне естественное желание иметь «свои» ордена появились и у моряков. Ещё в середине 1943 года на докладе у И.В. Сталина я завёл разговор о целесообразности учреждения таких наград. Отказа не последовало, но и особой поддержки я не получил. Однако от мысли своей мы не отказались.
Готовя предложение в правительство, мы заспорили было, кого ставить выше – Ушакова или Нахимова?
На счету Ф.Ф. Ушакова много знаменательных побед и ни одного поражения, ему русский флот обязан возрождением своего могущества и славы.
Историки очень редко упоминали Ушакова. Объяснялось это тем, что воинская доблесть Нахимова связана с более близким для нас временем – Крымской войной в середине 19 века.
Адмирал Ушаков сражения выигрывал в конце XVIII века. В те времена – да и после тоже! — монарший двор и сановная знать до подобострастия преклонялись перед всем иностранным, кумиром для них был английский адмирал Нельсон, а на заслуги своего соотечественника они смотрели с пренебрежением.
Так и оказался Ф.Ф. Ушаков в тени. Между тем его блистательные победы поражали мир. Самая выдающаяся из них – в сражении у мыса Калиакрия 31 июня 1791 года, когда был наголову разбит турецкий флот. Эта победа закрепила престиж России как великого государства и утвердила её интересы на Чёрном и Средиземном морях. Ушакова звали «морским Суворовым».
И действительно, эти два великих человека – полководец и флотоводец — вместе прославляли Отчизну: Суворов на суше, Ушаков на море.
Именно при Ушакове Россия построила свой флот на Чёрном море, надёжные военно-морские крепости в Крыму, в Днепровском, Бугском и Днестровском лиманах.
Своих я кое-как убедил, но представили мы наш проект в правительство, там тоже возникли сомнения: «Почему Ушаков выше?».
Наконец председатель комиссии А.А. Щербаков согласился с нами. 3 марта 1944 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении орденов Ушакова и Нахимова I и II степени и медалей Ушакова и Нахимова.
Перед этим я побывал у И.В. Сталина, чтобы согласовать проекты статутов и рисунков новых наград.
В кабинете у него в тот момент никого не было, Сталин разложил листы ватмана на длинном столе поверх карты, над которой до этого работал. Внимательно рассмотрев, он одобрил эскизы и ордена Ушакова и медалей, а рисунок ордена Нахимова обеих степеней отложил в сторону и молча направился к своему письменному столу.
«В чём дело?»- встревожился я. Открыв средний ящик, Сталин извлёк орден Победы. Сверкнули бриллианты и алые грани рубинов.
— А что, если и орден Нахимова укрепить рубинами? – спросил Сталин. – Разумеется, настоящими. По-моему очень к месту будут. Возражать не было оснований. Так орден Нахимова I и II степени получился, по-моему, самым красивым, но дороговатым.
* * *
Во время войны нам было не до фильмов, но сразу же после победы мы подняли этот вопрос, нас поддержали. (вопрос стоял о фильме про Ф.Ф. Ушакова. – прим. ред.)
Наконец сценарий утверждён. Назначен талантливый режиссёр-постановщик Михаил Ромм. Но кто исполнит роль Ушакова? Спорили долго, но в конце концов остановились на Переверзеве. Когда фильм был полностью готов, мы с адмиралом И.С. Исаковым ещё раз просмотрели его и дали «добро».
Но кто-то в Народном комиссариате иностранных дел высказал опасение, как бы не ухудшились наши взаимоотношения с Англией, ведь в картине показана двуличная политика правящих кругов Великобритании тех времён.
Несколько недель фильм без движения пролежал на складе.
И вот в День Воздушного флота, когда мы с балкона здания в Тушино наблюдали парад, меня подозвал И.В. Сталин. Он сказал коротко:
— «Ушакова» можно показывать.
Значит, он уже просмотрел картину и одобрил её. Так фильм «Адмирал Ушаков» получил путёвку в жизнь.
Поток писем на тему «Почему Ушаков, а не Нахимов?» сразу прекратился. Уж по одному этому можно судить: фильм удался, получился ярким и убедительным.
Всего за годы Великой Отечественной войны флотоводческими орденами было награждено: орденом Ушакова I степени – 25 человек (36 награждений), орденом Нахимова I степени – 75 человек (80 награждений), орденом Ушакова II степени – 182 человека (194 награждений), орденом Нахимова II степени – 458 человек (460 награждений).
Состоялось более 14 тысяч награждений медалями Ушакова и более 12800 медалями Нахимова.
Северный флот пополняется
В конце 1943 года Италия капитулировала. Меня вызвали в Ставку и потребовали сведения о составе итальянского флота, который теперь переходил к союзникам в качестве военного трофея.
Главному морскому штабу пришлось провести немалую работу, пока удалось заполучить хотя бы приблизительные сведения.
На конференции Министров иностранных дел СССР, США и Англии в Москве, когда принималась Декларация об Италии советская делегация подняла вопрос о разделе итальянского флота между союзниками. Мы уже знали, что этот флот к тому времени насчитывал более 100 боевых кораблей.
Наша делегация предложила выделить из этого числа линкор, крейсер, 8 эскадренных миноносцев и 4 подводные лодки. По боевой мощи это и составляло примерно треть трофейного флота. Однако решение вопроса союзники затянули.
На конференции в Тегеране в декабре 1943 года наша делегация снова напомнила об итальянских кораблях.
Рузвельт и Черчилль согласились.
Можем ли мы, следовательно, получить эти корабли к концу января будущего года? – спросил Сталин.
Главы правительств США и Англии снова ответили согласием. В феврале 1944 года союзники заявили, что сейчас делить итальянский флот неудобно, дескать, этим можем настроить против себя итальянцев, поэтому взамен трофейных кораблей союзники временно выделяют свои: англичане: — старый линкор, столь же потрёпанные эскадренные миноносцы, а также 4 подводные лодки. Американцы выделили тоже далеко не новый крейсер.
Я доложил в Ставке, что корабли нам передают старые.
— Рассчитывать на передачу нам более современных судов не стоит, — ответил Сталин. – Скажите лучше, где вы думаете их использовать?
— На Северном флоте. Там они ещё смогут принести пользу. Пригодятся для экскортирования конвоев, противолодочной борьбы и охраны побережья.
— Хорошо. Перегоняйте их туда.
Возник вопрос, кому поручить приёмку и доставку кораблей.
Выбор пал на вице-адмирала Г.И. Левченко. Сталин спросил: достаточно ли продумано это предложение? В конце концов утвердил его. Местом формирования команд был выбран Архангельск. Я снова оказался в городе своего детства – в Архангельске.
Команды формировались вдумчиво и быстро. Ведь надо было набрать добрых три тысячи моряков.
28 апреля 1944 года с очередным конвоем отправились на запад. 7 мая конвой достиг места назначения. Англичане смотрели как на чудо, что линкор, самый крупный корабль, насыщенный сложнейшими механизмами, наши моряки приняли за 20 дней.
«Русские прислали не матросов, а переодетых инженеров!» — писали английские газеты.
Церемония передачи линкора состоялась 30 мая 1944 года. С этого момента корабль стал называться «Архангельском».
В тот же день Советский флаг подняли четыре подводные лодки. Передача эсминцев несколько задержалась из-за их ремонта.
Наконец наступил день прощания с Англией. В это время из Исландии следовал к нам очередной конвой. Решили переданные нам корабли включить в его эскорт.
И вот линкор «Архангельск», вечером 17 августа в сопровождении крейсера и эсминцев направился в открытое море.
24 августа корабли, пройдя 1880 миль, вошли в Кольский залив и встали на якоря. Вся операция, таким образом, заняла около 4 месяцев.
Только здесь, в советском порту, бывший американский крейсер «Милуоки» получил новое имя «Мурманск».
И всё-таки один корабль мы потеряли – подводную лодку «В-1». Полученные «во временное пользование» английские и американские корабли, исправно несли службу до конца войны.
Когда 10 февраля 1947 года был подписан мирный договор с Италией, эти корабли были возвращены Англии и США, а 33 итальянских корабля были переданы Черноморскому флоту.
По ленд-лизу получили мы небольшие американские корабли. Американский представитель генерал Дин выдвинул условие: Корабли мы должны принимать в США и своими силами доставлять в свои порты.
Оставалось одно – перегонять их своим ходом. Это 6 тысяч миль по океану да ещё осенью, в пору штормов.
Я долго не решался подписывать приказ. И всё-таки подписал – в расчёте на героизм и мастерство наших моряков.
Первая группа состояла из 12 кораблей типа «СЧ» (у нас их стали называть большими охотниками – «БО», хотя они имели водоизмещение всего сто пятьдесят тонн).
К охотникам присоединились 12 тральщиков типа «АМ». Корабли следовали в составе сил охранения конвоев. Точно таким же путём позже прибыли на Северный флот ещё 34 охотника и 24 тральщика. Головко был рад:
-Теперь мы окончательно в люди вышли. Имеем эскадру, как и все флоты.
Для прикрытия конвоев флот теперь мог выделять каждый раз до 40 боевых кораблей и до 2 авиационных дивизий.
Эскадра возвращается в Севастополь
Весна 1944 года знаменовалась возросшими темпами наступления на всех фронтах. Ставка теперь уделяла флоту ещё больше внимания. Верховное Главнокомандование в директивах фронтам чётко определяло роль флотов.
— Наступило время для более активного действия флотов в море, — сказал мне Сталин.
Разговор этот происходил, когда вплотную встал вопрос об освобождении Крыма.
В преддверии Крымской операции, как известно, 10 апреля была освобождена Одесса – один из важнейших черноморских портов. 11 апреля 1944 года Ставка утвердила директиву, в которой ставилась задача освобождения Крыма:
8) Быть готовым к перебазированию флота в Севастополь и к организации обороны Крыма.
9) Быть готовым к формированию и перебазированию Дунайской военной флотилии.
И.В. Сталин дал прямое указание не рисковать крупными кораблями. Именно в это время Верховный подробно расспрашивал меня о корабельном составе флотов. Чувствовалось, что он всё ближе к сердцу принимал флотские дела.
Из 650 боевых самолётов морской авиации для участия в Крымской операции было выделено свыше 400.
Сражение за Крым началось утром 8 апреля наступлением войск 4-го Украинского фронта (командующий генерал армии Ф.И. Толбухин). Не менее успешно развернулось наступление Отдельной Приморской армии (командующий генерал армии А.И. Ерёменко), большую помощь которой в перевозке через Керченский пролив её войск и вооружения оказала Азовская военная флотилия.
Штурм Севастопольской крепости начался утром 5 мая, в 19 часов. 9 мая 1944 года Севастополь был освобождён. Всего же за время боёв в Крыму противник потерял убитыми и пленёнными, не считая погибших на кораблях111587 человек.
Итак, Севастополь – свою последнюю опору в Крыму – гитлеровцы смогли оборонять только 5 дней, а осаждали в 1941-1942 годах 250 дней. Командование флота торопило меня с разрешением эскадре вернуться в Севастополь.
Наконец пришёл долгожданный день и час. Это было 5 ноября 1944 года около 14 часов . 21 залпом из 100 орудий возвестила эскадра о своём возвращении в главную военно-морскую базу ЧФ.
Я случайно был в кабинете Сталина, когда он читал какое-то донесение.
— Уже слишком много они спорят, — недовольно проговорил Верховный.
— Кто? – спросил я.
— Петров и ваш Владимирский.
Вскоре я узнал, что И.Е. Петров освобождён от командования Отдельной Приморской армией. Почти в то же время без совета со мной, как наркомом, был освобождён и командующий флотом Л.А. Владимирский.
Наконец-то!
Будучи на Чёрном море, я узнал, что 6 июня (1944г) союзники высадили десант в Нормандии. Сейчас, когда наши войска изгнали врага за пределы своей страны и кое-где перешагнули государственную границу, союзники поняли: дальше ждать нельзя, война может и без них закончиться и все лавры победы достанутся русским.
Военные действия союзников на океанах поражали своим размахом: в них участвовали десятки авианосцев, линкоров, крейсеров, более мелкие корабли исчислялись сотнями, а самолёты — тысячами.
Весь мир понимал, что именно здесь на советской земле решаются судьбы всего человечества. Здесь, на советской земле, определялся, в конце концов, и исход битвы за Атлантику и сражений на просторах Тихого океана. Сражение у атолла Мидуэй на Тихом океане решало, как далеко сможет продвинуться Япония к берегам США. Битва за Атлантику в какой-то мере была и битвой за конвои, шедшие в Мурманск и Архангельск.
После нападения Германии на Советский Союз морские операции в Атлантике на какое-то время затихли. Главные силы авиации Геринга были заняты на Восточном фронте, а без серьёзной поддержки авиации не мыслились и крупные операции на море. Вскоре выяснилось, что англичане не собираются высаживаться ни в Норвегии, ни во Франции. В ноябре 1942 года союзники понесли в Атлантике максимальные потери – общее водоизмещение потопленных судов превысило 80 тысяч тонн.
Стоит привести любопытные цифры: в марте 1943 года против 100-120 фашистских подводных лодок, ежедневно действовавших в Атлантике и нападавших на конвои, вели борьбу около 3 тысяч надводных кораблей различных классов, 2700 самолётов, 17 дирижаблей, до 70 английских и американских подводных лодок.
Действия союзников
Следует напомнить, что Черчилль не сходился с Рузвельтом во взглядах и по особенно злободневному для нас вопросу – об открытии второго фронта.
Рузвельт считал более правильным, если американские войска будут воевать в Европе на стратегическом направлении. Он поддерживал предложения генерала Маршалла – «овладеть плацдармом на побережье Франции в конце лета 1942 года» (операция «Следжхаммер»), чтобы в 1943 году предпринять основное вторжение с целью разгрома Германии. Английские же начальники штабов под влиянием Черчилля согласились принять план Рузвельта только «на чрезвычайный случай», иначе говоря, когда Германия и Советский Союз окажутся на грани поражения.
На ход десантной операции в Северной Африке серьёзное влияние оказали успехи советских войск под Сталинградом: именно в эти месяцы Гитлер был целиком занят заботами о спасении армии Паулюса.
Линия обороны японцев проходила почти посередине Тихого океана. Американцы начали борьбу за захват японских опорных пунктов на атоллах и островах, видя в этом единственный способ приблизиться к жизненно важным центрам Японии.
Американцы легко разгадали замысел своего противника, ибо к этому времени они расшифровали японский код и свободно читали зашифрованные радиопередачи. Поражение японцев у Мидуэя поколебало их веру в свою непобедимость. Они перешли к обороне, а инициативу взяли в свои руки американцы. К 1944 году стало явственно сказываться преимущество США в промышленном потенциале. В то время как японцы с трудом ремонтировали свои потрёпанные в боях корабли, американский флот получал всё новые боевые единицы.
Забегая вперёд, напомню, что даже в начале 1945 года на Крымской конференции американцы рассматривали победу над Японией как далёкую перспективу, и поэтому Рузвельт всё ещё считал «врагом номер один» Германию а не Японию.
Сейчас об этом кое-кто на Западе забывает. А ведь на самом деле получилось так, что несмотря на мощь американского флота и авиации, Япония держалась, стойко держалась, и не случайно на Крымской конференции Рузвельт настаивал на скорейшем вступлении Советского Союза в войну с Японией. Даже в дни Потсдамской конференции, в июле-августе 1945 года, когда мир торжествовал по поводу разгрома фашистской Германии, японцы отказались подписывать безоговорочную капитуляцию. Безнадёжное своё положение они признали только, когда Вооружённый Силы Советского Союза разгромили Квантунскую армию. Сразу после этого 2 сентября Япония капитулировала.
«Оверлорд» считается самой крупной десантной операцией в истории войн. Это верно. На подготовку десанта у союзников ушло полтора года. Только первый эшелон её обеспечивали 6939 боевых кораблей, транспортов и десантных судов. К высадке было подготовлено около 3 миллионов человек. Если у немцев на Западе имелось всего около пятьсот самолётов, то у союзников – 11 тысяч самолётов различных типов.
Операция началась 5 июня в 4 часа 15 минут… бой за берег продолжался до 15 июня.
Союзники не спешили форсировать события, а продвигались вперёд очень и очень осторожно. Ещё почти целый год продолжалась война. Нашим войскам пришлось выручать фельдмаршала Монтгомери, когда он со своими войсками попал в крайне тяжёлое положение в Арденнах. Крупнейшие сражения развёртывались по-прежнему на Восточном фронте. Именно с востока пришла победа.
Освобождаем Карельский перешеек
В начале марта в Ставке возник вопрос о предстоящих действиях Балтийского флота в летнюю компанию 1944 года. Верховный Главнокомандующий поинтересовался составом БФ и состоянием кораблей. Я доложил. Смысл дальнейшего разговора был один: наступает пора более активных действий на море.
Верховный предложил вызвать в Москву командующего БФ адмирала В.Ф. Трибуца.
В середине марта в Москву прибыл Владимир Филиппович Трибуц, он с 1939 года командовал БФ.
Часов в семь вечера нас принял Верховный. Прежде чем заслушать адмирала Трибуца, И.В. Сталин коротко коснулся изменившегося к тому времени положения на фронтах и перспектив наступления наших войск.
— Теперь у моряков появилась возможность проявить себя и на море, — сказал Сталин, подразумевая, по-видимому, ограниченные до этого возможности БФ.
Сталин внимательно выслушал доклад Трибуца. Командующий заверил, что флот по своему техническому состоянию и подготовке личного состава будет готов, как только очистится залив от льда, выйти в море, чтобы начать боевые действия.
Верховный одобрил наше предложение, чтобы большую часть флота использовать на морском направлении (это касалось не только кораблей, но и авиации, которая до того времени большей частью своих сил действовала на сухопутных направлениях).
Он подчеркнул, что действительно в скором времени потребуется поддержка сухопутных флангов со стороны моря. Но предупреждал, чтобы мы напрасно не рисковали кораблями. Прежде всего придётся заниматься минами: пробивать фарватеры через минные поля.
Тогда же было решено, что впредь все флотские вопросы будут решаться Наркоматом ВМФ.
В 1944 году положение изменилось. Ставка и Генштаб смогли уделять больше внимания морским театрам.
Тогда в одном из разговоров с И.В. Сталиным я поднял вопрос, не пора ли официально узаконить роль наркома ВМФ как главнокомандующего флотами, чтобы он нёс всю ответственность за их действия.
И.В. Сталин одобрительно отнёсся к этому предложению, но приказание о немедленной подготовке такой директивы не дал. Это произошло несколько позже – в начале февраля 1945 года. Но уже тогда, во время беседы с Трибуцем прямо сказал:
— Задачи по боевым действиям на море будут ставиться главнокомандующим ВМФ. Запомнилось замечание Сталина: «Кто господствует в воздухе, тот и морем владеет»…
В течение весны и лета 1944 года предстояло освободить Таллин и Ригу, вытеснить финнов по крайней мере за Выборг и заставить их заключить мир. Прогрессивные круги Финляндии не ошиблись, полагаясь на великодушие нашего народа. Помню, Сталин особенно интересовался, чем может флот содействовать наступлению на Карельском перешейке.
Трибуц доложил, что враг ещё угрожает нашим кораблям с северного и южного берегов Финского залива.
— Ну, эти территории он скоро утратит, — пообещал Сталин.
— Что же касается артиллерии фортов, — продолжал докладывать Трибуц, — то её действия ограничены дальностью огня орудий.
— Покажите на карте, — попросил Сталин. Трибуц примерно показал зоны досягаемости огня фортов.
— Ну что же, это тоже будет большая подмога сухопутным войскам, — сказал Верховный.
Трибуц уехал из Москвы ободрённый, уверенный в своих силах.
Операции назывались Выборгская и Свирско-Петрозаводская. Во время подготовки Выборгской операции я дважды вылетал в Ленинград, встречался с командующим Ленинградским фронтом Говоровым. В борьбе за Выборгский залив гитлеровцы использовали не только надводные корабли, но и подводные лодки. Одну из фашистских лодок потопил наш катер-охотник. Затонула она на сравнительно небольшой глубине, и мы её потом подняли. На лодке нашли новейшие немецкие торпеды с акустическими приборами самонаведения. Свой трофей мы не скрывали от союзников.
У. Черчилль обратился к Сталину с просьбой допустить английских специалистов осмотреть немецкую лодку. Верховный вызвал меня и спросил моё мнение. Я ответил, что, по-моему, нет оснований отказывать союзникам. В этом духе и последовал ответ английскому премьеру. Я со своей стороны отдал приказание командующему БФ Трибуцу разрешить английским представителям посетить и осмотреть трофейный корабль.
Англичане после осмотра горячо благодарили за эту экскурсию, особенно за ценные сведения о немецких акустических торпедах.
Сталина это насторожило: а не слишком ли ценный секрет мы выдали. Нам с Трибуцем пришлось поволноваться. Сталин напомнил, что союзники своими военными секретами делятся с нами очень неохотно. Но ничего, на этот раз всё обошлось благополучно.
Командующий Карельским фронтом генерал армии Мерецков приказал 21 июня перейти в наступление. Я был у Сталина, когда командующий Карельским фронтом по телефону докладывал об освобождении Петрозаводска.
— Говорите, моряки отлично действовали? – переспросил Верховный и после некоторой паузы добавил: — Хорошо, это будет особо отмечено в приказе.
Помню и такой случай. В кабинете Верховного собралось человек десять. Обсуждались дела на фронтах. Сталин похвалил действия Карельского фронта во главе с генералом армии Мерецковым. Немного подумав, он приказал Поскрёбышеву соединить его с Мерецковым. Сняв трубку, Сталин сказал: — Здравствуйте, товарищ Мерецков! – Вот тут собрались товарищи, — он перечислил несколько из присутствовавших, — так они предлагают присвоить вам звание маршала. Как вы на это смотрите?… Нет, нет, это не вы, а мы вас должны благодарить, за умелое руководство войсками.
Как всегда, приняв решение, Сталин не любил затягивать с оформлением. Минут через десять А.Н. Поскрёбышев уже положил ему на стол подготовленный документ.
Освобождение Карельского перешейка и Карелии, казалось бы, предрешило судьбу Финляндии, как сателлита фашистской Германии. Однако финская реакционная правящая верхушка, отвергнув советские условия перемирия, заставляла свои войска сражаться в интересах гитлеровского рейха. Дальнейшее поведение Финляндии – сопротивление или капитуляция – в значительной мере зависело от устойчивого положения немецко-фашистских войск в Прибалтике.
В 1944 году нам пришлось создавать флотилию даже на Чудском озере. Когда-то на льду этого озера русские богатыри Александра Невского били псов-рыцарей. В годы Великой Отечественной войны моряки на Чудском озере умножили славу предков.
У берегов Прибалтики
Наши войска готовились к Прибалтийской операции, в которой должны были участвовать четыре фронта, Балтийский флот и авиация дальнего действия (АДД). Эта крупнейшая стратегическая операция разбивается на два этапа: с 14 по 27 сентября и с 29 сентября по 22 октября и состояла из следующих наступательных операций: Рижской (первый этап), Таллинской, снова Рижской (второй этап) и наконец Моонзундской десантной операции.
Всего же в Финском заливе немцами было выставлено 66500 мин. Нам на Балтике стало значительно легче: Финляндия вышла из войны. Между прочим, гитлеровцы предвидели это, и ещё 5 июля, до капитуляции Финляндии, немецкий флот получил приказ разработать план операции по захвату острова Гогланд и Аландских островов, занятых финнами.
14 сентября к Гогланду подошли 49 немецких кораблей. Они высадили 2,5 тысячи солдат и офицеров. Фашистскому десанту удалось захватить только северо-восточную часть острова. Дальше его не пустили финны, обязавшиеся по условиям капитуляции оборонять остров от немцев. По указанию Ставки командование флота на помощь финскому гарнизону направило авиацию. Вступила в бой и береговая артиллерия финнов. Совместными усилиями были потоплены 17 кораблей разных типов, а 6 десантных барж получили повреждения. В воздушных боях противник потерял 15 самолётов. Уцелевшие вражеские корабли поспешно покинули район высадки, оставив свой десант без всякой помощи. Тот целиком сдался в плен. Это было первое серьёзное испытание отношений с северным соседом, сбросившим с себя фашистскую кабалу.
Неудача у Гогланда заставила гитлеровское командование отказаться от высадки десанта на Аландские острова. Перевозку войск 2-й ударной армии через Тёплое озеро производила бригада речных кораблей.
Таллинская операция осуществлялась почти исключительно с суши, это объясняется минной опасностью в заливе. 22 сентября войска Ленинградского фронта при содействии БФ освободили Таллин и ряд близлежащих островов, а на следующий день вышли к берегам Рижского залива.
Мы уже получили возможность контролировать устье Финского залива. Гитлеровцы сосредоточили большие силы для защиты Моонзунда. Обороняли острова гарнизоны общей численностью 11 тысяч человек. Они имели в распоряжении до 10 дивизионов артиллерии и большое количество миномётов. Сухопутные войска поддерживали авиация и около 40 боевых кораблей.
24 ноября остров Эзель после упорной борьбы был полностью освобождён. В тот же день наши войска очистили от противника полуостров Сырве. Тем самым завершилось полное освобождение Эстонии.
Печенга наша
Беломорской флотилии в 1944 году довелось выполнять несколько необычное для неё дело. Оно было связано с действиями английской авиации. В районе Альтен-Фьорде (Норвегия – прим. ред.) среди скал укрывался самый крупный немецкий линейный корабль «Тирпиц». Военно-морской представитель Англии в Москве вице-адмирал Дж. Майлс обратился ко мне с просьбой, нельзя ли использовать наши аэродромы для организации «челночных операций», чтобы самолёты вылетали из Англии, бомбили линкор, а посадку делали в районе Архангельска, затем вылетали из Архангельска, снова бомбили и садились уже на своих аэродромах. Решение этого вопроса выходило за рамки моей компетенции, я запросил правительство. Оно ответило согласием. Тогда и решили использовать тяжёлые бомбардировщики «Ланкастер» и самые крупные шеститонные бомбы, которые они могли поднять. 40 «Ланкастеров» перелетело на наши аэродромы.
На цель их водили наши штурманы. Совершили много полётов. Несли потери. Но в конце концов всё же потопили «Тирпиц». Ликованию англичан не было границ. Король Великобритании наградил английскими орденами многих участников этого подвига, в том числе и советских лётчиков.
Среди награждённых был и командующий Беломорской флотилией Ю.А. Пантелеев, ответственный за «челночную» операцию.
Ставка уже разработала Петсамо-Киркенесскую операцию. В ней предстояло участвовать войскам Карельского фронта и морякам Северного флота. Командующий Карельским фронтом генерал армии К.А. Мерецков и командующий Северным флотом адмирал А.Г. Головко вместе обсудили приказ Ставки. Кое-какие указания адмирал Головко получил от меня.
Официально считается, что наступление войск Карельского фронта началось 7 октября. Но ещё за два дня до этого на главном направлении была прорвана оборона противника.
* * *
Морская пехота! Её слава началась давно. В блестящую победу над шведами в знаменитом Гангутском сражении 27 июля 1714 года весомый вклад внесла русская морская пехота. Русская морская пехота прославилась при взятии крепости Корфу в 1799 году, когда эскадра Ф.Ф. Ушакова изгоняла турецких захватчиков с греческих островов, возвращая свободу местному населению.
Участвовала морская пехота и в Бородинском сражении, совершив затем вместе с армией путь от Москвы до Парижа. Моряки сражались в Севастополе во время Крымской войны в девятнадцатом столетии. Тогда, как известно, обстановка вынудила русских моряков затопить свои корабли, только что одержавшие победу у Синопа. Другого выхода не было: следовало закрыть вход в Северную бухту и тем самым спасти Севастополь. В годы гражданской войны моряки также сходили с кораблей и сражались под Петроградом, на Волге и Каме, на Онежском озере, берегах Каспийского моря.
Перед Великой Отечественной войной у нас морской пехоты было мало. Ряды её стали множиться с первых же дней боёв. «Чёрной смертью» прозвали её фашисты.
Морские бригады, полки и батальоны вместе с сухопутными частями обороняли на Чёрном море Одессу, Очаков, Николаев, Севастополь, на Балтике – Ленинград, на Севере – Мурманск. Пожалуй не было ни одного фронта, где бы не воевали эти бригады. Мне хорошо запомнились в те трудные дни (перед Москвой – прим. ред.) слова Верховного Главнокомандующего, адресованные мне: «Проследить за формированием морских бригад».
Полмиллиона моряков сражались на берегу. И конечно, мы такое количество не набрали бы на кораблях. Встали под ружьё все поколения советских моряков – от подростков- юнг до людей пожилого возраста.
15 октября войска Карельского фронта и части флота заняли Петсамо и продолжали наступление вдоль побережья. 25 октября 1944 года в Москве загремел салют по случаю освобождения нашими войсками города Киркенес. Этот салют означал, что освобождены от фашистских захватчиков первые километры территории Норвегии.
К концу 1944 года мы вместе с союзниками полностью господствовали на Северном морском театре.
Если в 1941 году по северным морским путям проследовало 45 транспортов, то в 1944 году это число достигло 248.
А всего за войну к нам пришло 42 конвоя с общим числом транспортов 813. Потери составили 58 единиц – не так много, если учесть ожесточённость борьбы на морских коммуникациях.
На Дунае
Обстановка на Чёрном море к августу 1944 года складывалась для нас благоприятно. Немецко-румынский флот после боёв за Одессу и Крым значительно убавился, к тому же он потерял многие базы. Теперь в его распоряжении остались лишь румынские и болгарские порты Констанца, Сулина, Варна, Бургас.
В связи с изменением политической ориентации Турции (2 июля 1944 года Турция порвала дипломатические отношения с Германией) заметно снизилась активность морских перевозок через Босфор. Более напряжёнными оставались дунайские пути сообщения, где перевозки обеспечивала румынская речная флотилия.
20 августа началась Ясско-Кишинёвская операция. Перешли в наступление войска 2-го и 3-го Украинских фронтов. Одновременно силами ВВС ЧФ был нанесён удар по Констанце – основной военно-морской базе Румынии.
Удары флотской авиации по Констанце и Сулине продолжались до 25 августа. Оба фашистских порта были, по сути дела, парализованы. Корабли Дунайской флотилии в это время действовали на Днепре. Чтобы окружить приморскую группировку противника, необходимо было отрезать ей пути отхода. Дунайская военная флотилия получает новую задачу – прорваться в дельту Дуная и высадить десанты в тыл противника.
Наши бронекатера шли вверх по Дунаю, уничтожая переправы, огневые точки и скопления вражеских войск по обеим берегам реки. Быстрое продвижение советских войск предрешило судьбу профашистского правительства Антонеску. 23 августа в Румынии вспыхнуло вооружённое восстание.
По приказу Гитлера немецкие войска начали наступление на Бухарест, а их авиация обрушила бомбовые удары на румынскую столицу. Тогда вновь сформированное правительство Румынии объявило фашистской Германии войну. В районе Бухареста и Плоешти начались бои между вчерашними союзниками — немецкими и румынскими частями.
Перед Советскими Вооружёнными Силами был открыт путь на Балканы.
28 августа командующему румынским флотом было предложено в течение суток сложить оружие. Он принял советские условия на следующий день. В Констанцу самолётом была переброшена оперативная группа штаба ВВС ЧФ.
Войска 2-го Украинского фронта, подавив сопротивление немцев в районе Плоешти, овладели 30 августа этим важнейшим промышленным центром, а 31 августа вступили в Бухарест. Войска 3-го Украинского фронта к 5 сентября вышли на румыно-болгарскую границу.
Даже после выхода Румынии из гитлеровского блока реакционное правительство Болгарии всё ещё продолжало проводить прогерманскую политику, под маской нейтралитета оказывать помощь фашистам. Это заставило Советское правительство 5 сентября объявить Болгарии войну.
В соответствии с указанием Ставки 3-й Украинский фронт готовился к вступлению на территорию Болгарии.
30 августа мы с маршалом Г.К. Жуковым прибыли в штаб фронта, расположенный в Фетешти.
Командование флота предложило, не ожидая прибытия в Бургас и Варну наших кораблей, перебросить в эти порты небольшие десантные партии на самолётах типа «Каталина».
Всё произошло так, как предсказывал Георгий Димитров. Моряков встретили хлебом и солью.
Почти одновременно с выступлением наших войск – 9 сентября — произошло восстание в столице Болгарии Софии. Возглавила его Болгарская рабочая партия. Вновь образованное правительство во главе с К. Георгиевым объявило войну Германии.
В соответствии с директивой Ставки боевые действия советских войск против Болгарии с 22 часов 9 сентября были прекращены.
Разгром Советскими Вооружёнными Силами группировки противника на южном крыле советско-германского фронта в августе-сентябре 1944 года имел важнейшее политическое и стратегическое значение. В результате этого удара была освобождена Молдавия, выведены из гитлеровского блока Румыния и Болгария, объявившие войну Германии.
Победа Советских Вооружённых Сил в этих странах дала возможность народам установить у себя народно-демократический строй. По существу, с 9 сентября военные действия на Чёрном море были окончены.
А Дунайская флотилия взаимодействуя с Украинскими флотами, продолжила борьбу в верховьях Дуная. С 28 сентября по 21 октября 1944 года она участвовала в Белградской операции. В боях за освобождение Белграда активно участвовали войска Народно-освободительной армии Югославии и болгарские войска. 18-20 октября шли упорные бои уже в самом Белграде. После освобождения Белграда и всей Югославии началась перегруппировка войск 2-го и 3-го Украинских фронтов, готовившихся к Будапештской операции. Дунайская флотилия принимала в этом самое активное участие. В ночь на 1 декабря 1944 года началось наступление 4-й гвардейской армии. 12 декабря произошла смена командующих флотилией. Новым её командующим стал контр-адмирал Г.Н. Холостяков. В ходе Будапештской операции, которая закончилась 13 февраля 1945 года освобождением венгерской столицы и полным разгромом вражеской группировки, Дунайская флотилия выполнила ряд важных задач. Но наиболее она отличилась в своём последнем броске – в Венской операции. 13 апреля Вена была освобождена от фашистов.
Крымская конференция
В январе 1945 года в Ставке я узнал, что готовится встреча глав правительств антигитлеровской коалиции. Состоится она в Крыму, в Ялте.
В Севастополь я приехал за неделю до начала конференции, чтобы проверить, как выполняются указания о подготовке к встрече самолётов и кораблей союзников.
В Ялте я уже застал первого заместителя начальника Генштаба генерал-полковника А.И. Антонова (к началу конференции он стал генералом армии). За связь отвечал генерал А.А. Грызлов. Отсюда, из небольшого полуподвального помещения дворца, можно было связаться с любым фронтом и флотом.
2 февраля в Крым специальным поездом прибыли И.В. Сталин и В.М. Молотов и сразу направились в свою резиденцию. На следующий день мы встречали британскую и американскую делегации. Сначала точно в назначенный час в воздухе показался четырёхмоторный «СИ-54», на борту которого находился английский премьер У. Черчилль и его дочь Сарра. Она сопровождала отца в этой важной исторической поездке. Черчилль обошёл строй почётного караула, очень внимательно вглядываясь в глаза советских бойцов, словно пытался разгадать, что это за люди, прославившиеся на весь мир своим мужеством и непобедимостью.
А через несколько минут он уже сидел в палатке и с явным удовольствием угощался русской водкой и икрой. Глав союзных делегаций встречали В.М. Молотов, А.Я. Вышинский, наши послы в США и Англии А.А. Громыко и Ф.Г. Гусев. На аэродроме, естественно, находились послы США и Англии. Мне предстояло встретить английского адмирала флота Э. Канингхэма и взять над ним, так сказать, шефство. Мы не спеша разговаривали, укрывшись в палатке, пока не услышали оживление на лётном поле. Встречать американского президента вышли все, в том числе и английский премьер. С помощью специального лифта-кабины Рузвельта спустили на землю. Два рослых солдата бережно перенесли его в «виллис». Машина медленно двинулась вдоль строя почётного караула, замершего по стойке «Смирно». Запомнилось бледное лицо президента… Много лет тому назад он перенёс полиомиелит, с тех пор у него парализованы ноги. Несмотря на это, у него хватало воли и энергии занимать ответственные посты – в том числе и в американском флоте, — и вот уже четыре раза он переизбирался президентом. Но бледно-прозрачное лицо выдавало, что Рузвельт трудится на пределе своих физических сил (менее чем через два месяца он скончался).
Вскоре главы правительств выехали на машинах в Ялту. Мы с Канингхэмом немного задержались, чтобы встретить главнокомандующего американским флотом адмирала флота Э. Кинга.
И.В. Сталин был в Ялте, но гостей не встретил[81]. Говорили, что Черчилль и Рузвельт были в какой-то степени недовольны этим. Впрочем, мы могли понять этот жест И.В. Сталина. Союзники столько лет тянули с открытием второго фронта, предоставляя нам один на один сражаться с фашистской Германией в самые трудные для нас времена.
К моменту Крымской конференции Советский Союз не столь уже и нуждался в помощи. Наоборот, нам пришлось оказывать помощь союзникам. Именно в дни работы Крымской конференции части Советской Армии форсировали Одер, оттягивая на себя из Арденн немецкие дивизии.
Американцы разместились в бывших царских апартаментах в Ливадии. Черчилль со своими спутниками поселился в Воронцовском дворце (граф Воронцов, говорят, построил его по проекту английского архитектора, автора Букингемского дворца в Лондоне). Советская делегация остановилась в бывшем Юсуповском дворце в Кореизе. Официальное открытие конференции и первое пленарное заседание делегаций в полном составе состоялось 4 февраля.
Советскую делегацию возглавлял И.В. Сталин, его ближайшим помощником был В.М. Молотов. На конференции присутствовали Вышинский, Громыко, Гусев, Майский. Среди военных старшим считался генерал армии Антонов. Членами делегации был маршал авиации Худяков и автор этих строк. На повестке дня конференции первым и самым важным вопросом стоял вопрос о том, как быстрее покончить с фашистской Германией. Фашисты продолжали отчаянно сопротивляться. Больше того, они угрожали каким-то новым страшным оружием и действительно лихорадочно работали над новыми средствами уничтожения. Следовало спешить! Но не только европейские дела интересовали участников конференции. Соединённые штаты продолжали воевать с Японией, и до победы здесь было ещё далеко. Поэтому их очень занимал вопрос о вступлении Советского Союза в войну с Японией.
От англичан выступал не фельдмаршал Брук, как ожидалось, а адмирал Канингхэм. В его докладе явственно слышалась знакомая нотка о трудностях борьбы с немецкими подводными лодками и мольбе о помощи Британии в этой борьбе. Отметив, что немецкие лодки строятся главным образом в Данциге, адмирал закончил своё выступление словами:
— Как моряк я хочу, чтобы русские поскорее заняли Данциг. Рузвельт спросил у Сталина, скоро ли это произойдёт. Глава нашей делегации ответил… есть надежда, что скоро мы его займём. Ответ И.В. Сталина особенно удовлетворил Черчилля. В центре внимания глав делегаций на остальных семи заседаниях были политические вопросы.
Военные руководители собирались на свои совещания. Помню, одно из них состоялось 6 февраля…
На прошедших совещаниях глав правительств военным было поручено разработать план совместных действий авиации союзников над территорией Германии. Этого требовала создавшаяся обстановка: к февралю 1945 года участились налёты союзной авиации на столицу фашистской Германии. Объекты бомбардировки нашей авиации и авиации союзников находились неподалёку друг от друга. В конце января 1945 года, например, тысяча американских и английских самолётов произвели налёт на Берлин. 600 истребителей прикрывали эту операцию. Важно было установить разграничительную линию, чтобы избежать ошибок с их возможными последствиями. По этому вопросу неожиданно разгорелся горячий спор… Приняли очень неопределённую, растяжимую формулировку: «Дать указания военным миссиям США и Англии в Москве держать более тесную связь с Советским Генштабом и чаще информировать друг друга о действиях авиации.
Возник также вопрос о базировании американской авиации на уже освобождённых нашими войсками европейских аэродромах. Проблема тоже не была решена, так как чувствовалось, что у американцев политические аспекты этой проблемы превалируют над чисто военными.
В наши дни очень полезно вспомнить о принятых в Ялте решениях по германскому вопросу. «Нашей непреклонной целью, — говорилось в коммюнике о конференции, — является уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантии в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии нарушать мир всего мира».
Наряду с германской проблемой участники конференции обсудили важные вопросы о послевоенном устройстве мира. Они разработали принципиальные основы деятельности будущей Организации Объединённых Наций. Решили созвать 25 апреля 1945 года в Сан-Франциско учредительную конференцию ООН.
В Ялте была также принята известная Декларация об освобождённой Европе и обсуждены некоторые положения этой проблемы, связанные с Польшей и Югославией.
К 6 февраля между главами правительств была достигнута договорённость о войне на Дальнем Востоке. Что касается дальневосточной проблемы, то американский адмирал Кинг на совещании 6 февраля прямо сказал, что на победу над Японией в 1945 году рассчитывать не приходится.
Поэтому так обрадовало союзников заверение наших руководителей в том, что через два-три месяца после окончания войны на Западе наши войска закончат подготовку к наступлению в Маньчжурии. Это обещание, как известно, было выполнено.
Я воспользовался обсуждением дальневосточных проблем, чтобы поднять вопрос о получении от США боевых кораблей по ленд-лизу. Выбрав удобный момент я обратился к И.В. Сталину. Он ответил, что для решения этого вопроса время ещё не пришло.
Конференция и связанные с нею заботы отнимали у И.В. Сталина очень много времени. Тем не менее он успевал следить за положением на фронтах, принимать решения, связанные с боевыми действиями войск.
В Юсуповский дворец приезжали командующие фронтов и армий. Сталин беседовал с ними обычно в присутствии Антонова, у которого всегда под рукой оказывались карты с уже нанесённой обстановкой и графическим изображением будущей операции.
За несколько часов до очередного заседания конференции Сталин собирал членов делегации, давал почти каждому определённое задание: изучить такой-то вопрос, то-то выяснить, с тем-то связаться. Чувствовалось, что он тщательно и всесторонне готовится к каждой встрече с главами союзных держав.
Сталин обладал превосходной памятью и всё же не полагался на неё. Ещё и ещё раз всё проверял, просматривал документы, записки, выслушивал мнения членов делегаций. Он и других учил не полагаться на память. Я помню, он как-то спросил меня:
— А почему вы не записываете?
— Я запомню.
— Всё запомнить невозможно. К тому же запись приучает к точности.
С тех пор я всегда имел при себе блокнот и карандаш.
Перед обсуждением вопроса о выделении американских кораблей по ленд-лизу для Тихоокеанского флота Сталин специально вызвал меня и спросил, готов ли я ответить на все вопросы, которые могут возникнуть по этому поводу за «круглым столом».
Поражало спокойствие Сталина. В самые жаркие моменты спора, когда Черчилль не мог усидеть на месте, Сталин оставался сдержанным и невозмутимым, говорил ровным голосом, как всегда взвешивая каждое слово. И выходил из спора победителем. Его железная логика сокрушала все хитросплетения оппонента.
В дни Крымской конференции Верховный Главнокомандующий обыкновенно заслушивал доклады генерала Антонова о положении на фронтах в день – утром и вечером. Я постоянно жил в Ялте, где в доме отдыха ЧФ работала вся моя флотская группа во главе с начальником Главного морского штаба адмиралом С.Г. Кучеровым, но к 10 часам приезжал в Кореиз, в Юсуповский дворец, чтобы доложить обстановку на флотах Антонову.
Уже в полночь Сталин пригласил нас на ужин, как иногда он делал и в Москве. Сталин спросил о состоянии и готовности флота. Я доложил о кораблях, находившихся в строю, и напомнил о судах, обещанных нам союзниками.
— Я это помню, — сказал Сталин. – Сегодня поговорю с Рузвельтом… На следующий день мне сказали, что вопрос в принципе согласован и мне надлежит уточнить детали с Кингом. Я в тот же день встретился с американским адмиралом и передал ему список кораблей, которые желательно было нам получить. Кинг обещал немедленно ответить, как только вернётся в Вашингтон. Адмирал Кинг сдержал слово. Из Вашингтона он прислал телеграмму, в которой говорилось, что мы получим от США фрегаты, тральщики, охотники за подводными лодками, торпедные катера и десантные суда в общей сложности более 250 единиц.
Мы немедленно скомплектовали команды и направили их в Америку. Небольшие суда, которые мы получили весной и летом из США, очень пригодились нам главным образом для высадки десантов в портах и на островах, занятых противником. После мы вернули эти корабли их владельцам.
11 февраля Крымская конференция закончила свою работу. На следующий день президент Рузвельт выехал на машине в Севастополь, намереваясь провести ночь на своём корабле «Катоктин», а затем вылететь на родину.
Черчилль также побывал в Севастополе, осмотрел сохранившееся со времён осады города в прошлом веке английское кладбище, где похоронен его родственник знаменитый Мальборо.
В Ставке[82]
2 февраля 1945 года было принято постановление об изменении состава Ставки Верховного Главнокомандования. В неё вводились А.М. Василевский, А.И. Антонов и я. Официальное включение меня в состав Ставки мало что изменило в моей работе.
Иногда я звонил Сталину, если обстановка требовала немедленного доклада. И, несмотря на занятость, Верховный всегда находил время выслушать меня и дать исчерпывающий ответ. В первые месяцы войны Ставка и ГКО работали в Кремле или в особняке на улице Кирова, а станцию метро «Кировская» временно использовали как убежище на случай воздушных тревог.
Верховный Главнокомандующий приезжал в особняк обычно вечером и, если воздушной тревоги не было, работал там далеко за полночь. Мне дважды довелось наблюдать, как И.В. Сталин после объявления тревоги не спеша пересекал небольшой дворик, входил в подъезд соседнего дома, где был оборудован лифт в убежище. В своей повседневной работе Верховный опирался прежде всего на аппарат Генштаба.
Постоянными заместителями и фактическими помощниками Верховного были Г.К. Жуков, А.М. Василевский, Б.М. Шапошников, а в конце войны А.И. Антонов.
Прежде чем принять то или иное решение или директиву, в Ставку обычно вызывались начальник Генштаба, представители Ставки, нарком ВМФ, командующий фронтом, флотом или армией. С ними обычно и советовался И.В. Сталин. Г.К. Жуков, А.М. Василевский, Н.Н. Воронов, С.К. Тимошенко, К.Е. Ворошилов, как представители Ставки, выполняя поручения Верховного, часто бывали на фронтах, лично делали ему доклады, проверяли на местах выполнение директив Ставки.
Верховный принимал решение, как правило, лишь посоветовавшись с теми, на кого возлагалось выполнение задачи.
Я не помню случая, когда бы Ставка собиралась в полном составе, но бывая на её совещаниях, я всегда видел там начальника Генштаба и командующих фронтами или армиями.
Присутствие непосредственно на фронтах в качестве представителей Ставки таких военачальников, как Г.К. Жуков и А.М. Василевский приносило, на мой взгляд, огромную пользу. На первом этапе войны это было просто необходимо, так как требовалась непосредственная связь Ставки с фронтами и помощь знающего замысел Ставки опытного военачальника.
Вот почему представителям Ставки было предоставлено право не только координировать действия фронтов, но и руководить операциями. Их роль высоко оценил И.В. Сталин.
Когда складывалась, допустим тяжёлая обстановка на каком-нибудь флоте, И.В. Сталин обыкновенно спрашивал у меня:
— Кто командует флотом? И выпытывал подробности: что за человек, давно ли на этом флоте. А потом предлагал: — А не послать ли туда кого-либо из ваших заместителей? И не дожидаясь ответа, иногда сам называл кандидатуру. Так, в трудные для Таллина, Одессы, Ленинграда и Севастополя дни на флоты выезжали мои заместители Исаков, Рогов, Галлер, Левченко. А порой И.В. Сталин приказывал:
— Вам следует самому выехать туда и разобраться.
И сразу спрашивал: — Когда выезжаете?
Только тогда считал вопрос исчерпанным.
В войну дорога каждая минута, и часто оперативные вопросы требуют срочного решения. Проводить многолюдные совещания не было ни возможности, ни нужды.
За одним столом с военачальниками на совещаниях в Ставке или ГКО решали вопросы руководители партии и правительства, наркомы различных отраслей промышленности, директора крупных заводов.
Сражалась вся страна, весь народ. Наркоматы авиационной, танковой промышленности, вооружения и боеприпасов, да и другие промышленные отрасли были своего рода трудовыми фронтами со своими командирами и бойцами.
— А ведь на заводах, пожалуй, было не легче, чем на фронте, — заметил однажды В.А. Малышев.
Решая одновременно военные и хозяйственные задачи, Ставка и ГКО как бы сливались в единый государственный орган – гибкий, оперативный, быстро реагирующий на обстановку.
Кстати, посоветовавшись с людьми Сталин любил принятое решение оформить тут же, в их присутствии, диктуя содержание будущего документа начальнику Генштаба или Поскрёбышеву.
Несколько раз в Ставке я видел рядовых – лётчиков, танкистов, артиллеристов: Сталин допытывался, как они относятся к новым образцам оружия, поступающим на фронт. Сталин всегда требовал исчерпывающих сведений по любому обсуждаемому вопросу и не упускал случая воспользоваться советом этих товарищей.
На одной встрече с читателями меня спросили:«Верно ли, будто И.В. Сталин не любил, когда ему возражали?»
Иногда Сталин действительно не терпел возражений. Но во многих случаях терпеливо выслушивал их, и люди, имевшие свою точку зрения, нередко даже нравились ему. Таково не только моё мнение.
В апреле 1968 года мне довелось беседовать на эту тему с маршалом К.К. Рокоссовским. Он прямо сказал:
— Если мне удавалось обосновать свою точку зрения, Сталин всегда соглашался со мной.
Конечно, случалось, что Сталин прерывал докладчика, даже очень резко. Но это бывало, когда ему казалось, что тот плохо знает суть вопроса. Сталин любил доклады обоснованные, убедительные, продуманные.
Работал Сталин много. И в редкие минуты отдыха он не мог обойтись без дела. Иногда разговор в служебном кабинете затягивался. Он смотрел на часы:
— Пора ужинать. Прошу ко мне.
Его квартира находилась в том же здании в Кремле, где и рабочий кабинет. Сам он обычно пользовался внутренним ходом, а мы спускались к вешалке, одевались и входили в квартиру через арку со двора.
Я и не ожидал увидеть богато обставленную квартиру, но всё же был до крайности удивлён скромностью обстановки. Небольшая прихожая была отделана деревом. Прямо из неё – дверь в столовую. Все комнаты расположенные вдоль одной стены, с окнами на царь-пушку и Успенский собор, видны через открытые двери столовой. В спальне – простая кровать и ничего лишнего.
Создавалось впечатление, что Сталин привык с давних пор к заведённой обстановке, к известной всем одежде (китель, шинель, фуражка) и не любил никаких перемен. Так, в пору, когда он носил серый полувоенный китель с отложным воротником, я всего один раз видел его в новом кителе более тёмного цвета.
В конце войны он сменил свой китель на маршальский мундир, который продолжал неизменно носить и став Генералиссимусом.
Небогатыми были и сервировка стола и меню. Мы усаживались, каждый сам себе клал на тарелку немудрёную еду, и опять продолжались те же разговоры, что велись в служебном кабинете.
В праздник 1 мая, в день Воздушного Флота нас приглашали на дачу. В этом случае встречи тоже носили полуофициальный характер. По времени обед долго не затягивался, и только однажды гости, помнится, после обеда развлекались игрой в городки и на бильярде. Бесспорно Сталин был гостеприимным хозяином. Деловые разговоры за столом временами сменялись шутками, рассказами о былом. Сталин умел и пошутить – остроумно, весело.
Даёшь Берлин!
Советские войска приближались к Берлину, хотя бои принимали порой чрезвычайно ожесточённый характер. Быстрое продвижение советских войск на Западе считали чудом.
Побеждал самый передовой в истории человечества общественный строй, самая жизнеутверждающая социалистическая идеология. Фашистский рейх расплачивался за все злодеяния, которые он принёс народам Европы.
По решению Ставки войска 2-го Белорусского фронта обходным манёвром на Мариенбург, а части 3-го Белорусского фронтальным ударом на Кёнигсберг при содействии войск 2-го Прибалтийского фронта и Балтийского флота должны были отсечь восточно-прусскую группировку врага, расчленить её и уничтожить по частям. Одновременно предусматривался разгром данцигско-Гдынской группировки противника.
В Данцингском порту находилось тогда много недостроенных и уже готовых немецких подводных лодок. А именно подводные лодки доставляли больше всего тревог британскому правительству. Вот почему Черчилля волновал захват Данцига.
Советская подводная лодка «С-13» под командованием капитана 3 ранга Маринеску атаковала неприятельское судно «Вильгельм Густлов». Несколько торпед одна за другой стремительно понеслись к цели. После сильного взрыва лайнер пошёл ко дну. Гибель «Вильгельма Густлова» всполошила фашистов. В Германии был объявлен трёхдневный траур. Гитлер в ярости приказал расстрелять командира конвоя. Находившийся на борту лайнера и оставшийся в живых гитлеровский офицер Гейнц Шен в книге «Гибель Вильгельма Густлова» изданной в ФРГ, подтверждает, что 30 января 1945 года неподалёку от Данцига «Вильгельм Густлов» был торпедирован советской подводной лодкой, в результате чего погибло более 5 тысяч человек.
«Если считать этот случай катастрофой, — пишет автор, — то это несомненно была самая большая катастрофа в истории мореплавания, по сравнению с которой даже гибель «Титаника» столкнувшегося в 1913 году с айсбергом, — ничто».
Возвращаясь на свою базу, 9 февраля 1945 года «С-13» торпедировала ещё один крупный транспорт противника «Генерал Штойбен», на борту которого находилось 3600 гитлеровских солдат и офицеров.
Таким образом, за один только поход экипаж лодки под командованием капитана 3 ранга Александра Ивановича Маринеско уничтожил 8 тысяч гитлеровцев. Полноценная дивизия! Да ещё какая дивизия. Отборные офицеры, первоклассные специалисты, подводники, эсэсовцы, фашистские бонзы…
Командование БФ руководствовалось директивой Ставки, разработанной с участием Главного морского штаба. Впервые в ней указывалось: «Операционной зоной флота является всё Балтийское море вплоть до проливов».
С 13 января по 25 апреля 1945 года было потоплено в море и в портах 20 транспортов и 47 других судов и кораблей, в том числе крейсер, миноносец и 7 сторожевых кораблей противника. Балтийский флот теперь вдвое превосходил противника. На побережье Балтики превосходно действовала морская железнодорожная артиллерия.
Ещё под Ленинградом мы убедились, какая это сила – морские дальнобойные пушки, установленные на железнодорожных платформах. Под Кёнигсбергом, а затем в Пиллау были развёрнуты 4 артиллерийских дивизиона и отдельная батарея.
9 апреля 1945 года Кёнигсберг пал.
* * *
2 мая Дёниц направил к Монтгомери группу офицеров во главе с генерал-адмиралом фон Фридсбургом с предложением принять капитуляцию немецкого флота. Монтгомери принял предложение и приказал с 4 мая прекратить действия английской авиации против немецкого флота. Вместе с тем англичане не стали мешать гитлеровцам вывозить свои войска с побережья. «Монтгомери неофициально разрешил продолжать эту эвакуацию, которая шла до 9 мая, когда вступил в силу документ о безоговорочной капитуляции. Это была самая массовая эвакуация за всю войну», — так пишет английский историк С.Э. Морисон в книге «Битва за Атлантику выиграна».
В результате морем до 9 мая гитлеровцы вывезли с востока в английскую зону более 2 миллионов человек.
Разрешив эвакуацию, англичане не только нарушили союзнический долг, но и прямо поддержали, поощрили недобитые фашистские элементы в их борьбе против Советского Союза. Дёниц издал приказ о прекращении действий немецкого флота против англичан и американцев.
В отношении же советского флота в радиограмме не было сказано ни слова, и каждый командир немецкого корабля понял, что война против русских продолжается.
Позднее стало известно, что, когда поражение Германии стало уже фактом, Черчилль готов был вооружить остатки разбитой немецкой армии и бросить её против советских войск. Черчилль скинул маску миролюбия и вновь стал прежним откровенным ненавистником социализма.
Монтгомери едва ли осмелился бы отдать приказ о сепаратном соглашении с немецким военно-морским командованием ещё до подписания безоговорочной капитуляции Германии.
Гитлеровцы, чувствуя доброжелательное к себе отношение англичан охотно сдавались им в плен.
Больше того, они просили их высадить на остров Борнхольм[83] английский воздушный десант до появления там русских войск.
Германский флот продолжал боевые действия против наших сил даже после подписания акта о безоговорочной капитуляции.
Так, в 6.00 9 мая немецкие эсминцы открыли огонь по нашим самолётам, требовавшим возвращения кораблей в восточные порты. Точно также 9 мая с немецких транспортов в районе датского острова Борнхольм были обстреляны наши торпедные катера.[84]
На заключительном этапе войны балтийцы должны были высадить десант на остров Борнхольм, там сосредоточилось примерно до тридцати тысяч гитлеровцев.
9 мая командование КБФ передало по радио гарнизонам островов требование о капитуляции. Гитлеровцы отказались сложить оружие.
Тогда флотская авиация нанесла удар по местам базирования немецких войск и судов. После высадки стрелковой роты в порт Рённе командованию гарнизона ничего другого не оставалось, как тоже приступить к капитуляции своей группировки.
Однако в те же самые минуты часть немецкого гарнизона пыталась погрузиться на суда и удрать в Швецию. Мы послали наперехват торпедные катера и подводные лодки. Наши моряки, нагнав беглецов, приказывали немедленно возвращаться на Борнхольм. Фашисты на эти приказы отвечали в большинстве случаев огнём. Тогда командирам наших кораблей ничего не оставалось, как тоже пускать в ход оружие.
Оказывается, немцам было дано указание сдаться в плен лишь англичанам, как только они высадятся на остров с самолётов.
Не прекращались боевые действия и на Северном флоте. Уцелевшие фашистские подводные лодки ещё пытались атаковать наши конвои.
— Мы всё ещё продолжаем воевать, докладывал командующий СФ А.Г. Головко уже в середине мая 1945 года.
— Вчера снова обнаружили немецкую подводную лодку.
Победа
1 мая 1945 года после демонстрации человек тридцать пригласили на дачу И.В. Сталина в Кунцево. Обеденный стол накрыли на лужайке. Обед начался тостом за Победу. За столом вспоминали трудное лето 1941 года, не менее напряжённый 1942 год, когда были произнесены слова: «И на нашей улице будет праздник».
После воспоминаний И.В. Сталин как-то незаметно переключил наш разговор на деловые темы. И за обеденным столом он продолжал работать: то и дело ему приносили телеграммы, на которые ему приходилось отвечать. Запомнилась одна из них – от маршала Жукова, доносившего из Берлина о попытках нового фашистского руководства вести мирные переговоры.
Я отправился в Наркомат, чтобы заслушать последнее сообщение с флотов. На следующий день – 2 мая– капитулировал Берлин. Вечером 8 мая мне довелось выезжать из Кремля через Спасские ворота. Переполненная народом Красная площадь ликовала. Поздно ночью мне позвонил А.Н. Поскрёбышев. Он сообщил мне, что капитуляция Германии подписана.
Я тут же продиктовал поздравительную телеграмму военным советам флотов.
Победа! Она многозначная, у неё много граней. Победа была поистине всенародной. Победа – это памятник тем, кто не вернулся с полей битв, защищая Москву, Ленинград, Севастополь, Одессу, Сталинград, сражаясь за каждую пядь родной земли. Слово «Победа» было у всех на устах.
Пройдут века, а знаменательная дата 9 мая 1945 года не померкнет в памяти человечества. Она всегда будет напоминать о могуществе и непобедимости социалистического государства и служить предостережением тем, кто, забыв уроки прошлого, попытается развязать новую войну.
В середине мая 1945 года меня вызвали в Кремль. Решался вопрос о переброске войск на Дальний Восток. Я доложил о мероприятиях Наркома ВМФ по усилению Тихоокеанского флота. На этом совещании было принято решение отпраздновать Победу военным парадом, как это делалось в старину. Нет нужды подробно описывать Парад Победы. У всех видевших его он навсегда остался в памяти. Невозможно забыть минуты, когда советские воины, проходя мимо Мавзолея В.И. Ленина бросали к его подножию поверженные вражеские знамёна.
И.В. Сталин, имевший привычку занимать на трибуне Мавзолея определённое место, не изменил ей и на этот раз. Обычно он редко улыбался и мало разговаривал. Но в тот день был особенно приветлив и охотно говорил со всеми находившимися на трибуне.
В дни работы Потсдамской конференции отмечался День Военно-Морского Флота. Помню, 20 июля мне поручили издать за своей подписью приказ о его праздновании. Однако я полагал, что в победный год правильнее было бы обнародовать приказ за подписью Верховного Главнокомандующего.
Самой сложной оказалась та часть приказа, в которой давалась оценка действиям моряков в годы войны. После обсуждения было решено предложить формулировку: в годы Великой Отечественной войны флот до конца выполнил свой долг перед Родиной. На следующий день я представил документ И.В. Сталину на подпись. Он перечитал его несколько раз, и подписал без единой поправки. Приказ был издан. С флотов поступали сведения о том, с каким энтузиазмом он был воспринят.
Первый День Военно-Морского Флота пришёлся на воскресение 24 июля 1939 года.
Потсдам
В первой половине июня 1945 года начальник Генштаба генерал армии А.И. Антонов сообщил мне по телефону, что мне следует готовиться к поездке в Берлин.
14 июля ещё затемно наш самолёт оторвался от взлётной дорожки Центрального аэродрома и взял курс на запад. Членов советской делегации разместили в Бабельсберге.
Нас встретили командующий Днепровской флотилией В.В. Григорьев и советский комендант Потсдама. Участие моряков в боях за Берлин было, конечно, более чем скромным. Но всё же приятно сознавать, что наши корабли и здесь повоевали.
16 июля мы встречали советских руководителей. За полчаса до прибытия поезда на перроне собрались Г.К. Жуков, А.И. Антонов, А.Я. Вышинский и автор этих строк.
Точно в назначенное время паровоз с несколькими вагонами подошёл к платформе. Мы направились к тому вагону, в котором находился И.В. Сталин. Он вышел из вагона. Одет он был в свой обычный серый китель (хотя уже имел звание Генералиссимуса), тепло поздоровался с нами и, не задерживаясь на вокзале, сел в машину. В Потсдам к этому времени прибыли многие участники конференции. И.В. Сталин и В.М. Молотов представляли Советский Союз, У. Черчилль и А. Иден – Великобританию, Г. Трумэн с государственным секретарём Д. Бирнсом – США. В советскую делегацию входили и мы с генералом Антоновым. Прибыли мои старые знакомые по Ялте – адмирал флота Э. Кинг и Э. Канингхэм. Вечером 17 июля состоялась первая встреча глав союзных делегаций. В зал старого деревянного дворца Цецилиенгов из разных дверей одновременно вошли делегации Советского Союза, США и Англии. По словам Черчилля журналистов было более ста восьмидесяти.
И.В. Сталин на второй день работы конференции предложил ограничить активность журналистов. Г. Трумэн поддержал его. Было решено «журналистов впредь во дворец не пускать, и к этому вопросу больше не возвращаться».
Советским руководителям труднее всего было найти общий язык с англичанами, особенно с Черчиллем. Трумэн, как известно, тоже не отличался симпатиями к Советскому Союзу, но Америка ещё воевала с Японией и нуждалась в нашей помощи, поэтому с американцами договориться было легче.
Ещё в Москве мне стало известно, что в Потсдаме будет рассматриваться вопрос о разделе трофейных немецких кораблей. Об этом мне однажды в Ставке сказал И.В. Сталин.
И.В. Сталин постоянно заботился о развитии советского флота. Ещё до окончания войны И.В. Сталин вновь стал задумываться над будущим флота.
В апреле он спросил у меня, готовим ли мы, моряки, новую программу строительства судов, и велел при первой же возможности представить ему намётки программы.
— Подумайте и над тем, как мы сможем использовать трофейный немецкий флот, — сказал тогда он.
Уже на одном из первых пленарных заседаний конференции возник вопрос о трофейном флоте. Поставил его И.В. Сталин.
У. Черчилль считал, что раздел трофейного немецкого флота между союзниками на равные части вообще не правомерен. Он ссылался на то, что англичане во время войны понесли огромные потери на море, к тому же к моменту капитуляции большая часть немецкого флота оказалась в портах Англии и в оккупированных англичанами военно-морских портах Германии, Дании, Норвегии и Франции.
Возникла полемика. Мне никогда прежде не приходилось видеть Сталина таким рассерженным. А Черчилль даже вскочил, чуть не уронив кресло. Лицо его налилось кровью, он бросал резкие негодующие реплики. Сталин посоветовал на время отложить рассмотрение этого вопроса.
Не выдержав, я как-то спросил, когда же вновь будет поднят этот вопрос.
— Не будем спешить, — спокойно ответил Сталин. – Надеюсь, в составе английской делегации скоро произойдёт изменение. Вот тогда и возобновим разговор.
После выборов Черчилль уехал в Англию, его место занял Эттли.
Вечером 26 июля советская делегация давала ужин. Перед этим состоялись переговоры союзников с новым правительством Польши.
На переговорах я не присутствовал.
На ужине рядом со мной оказался маршал К.К. Рокоссовский, он шепнул мне, что он только узнал, почему его неожиданно пригласили сюда.
— Меня сватают на польскую службу, – шепнул он мне.
Правда, назначение Маршала Рокоссовского на пост министра обороны Польши произошло в 1949 году. Но сама мысль об этом назначении возникла и обсуждалась ещё в Потсдаме.
Наконец главы держав вернулись к вопросу о трофейном флоте. Мне присутствовать при этом не довелось, я только прочитал в отчёте:
«Участники конференции в принципе договорились относительно мероприятий по использованию сдавшегося германского флота и торговых судов. Было решено, что три главы правительств назначат экспертов, которые совместно выработают детальные планы осуществления согласованных принципов».
Такая формулировка меня встревожила. Если на конференции не будет принято по этому вопросу твёрдое решение, дело может затянуться до бесконечности.
При случае я высказал своё мнение Сталину. Он согласился со мной, и главы делегаций поручили военно-морским представителям согласовать тут же, на конференции, и немедля представить на утверждение выработанный документ.
Вечером 31 июля состоялось совещание старших военно-морских начальников – членов делегаций. В нём участвовали адмиралы флота Э. Кинг, Э. Канингхэм и я, присутствовали дипломатические советники и флотские специалисты.
Тогда я предложил разделить корабли на приблизительно равные группы, а затем, чтобы не было обидно, тянуть жребий. Улучив момент, я доложил о нашем решении Сталину. Он выслушал и утвердительно кивнул:
— Приемлимо.
Союзники разделили между собой более 500 боевых кораблей, в том числе 30 подводных лодок.
Из вспомогательных судов признали подлежавшими разделу 1339. Не вдаваясь в подробности, хочу напомнить, что Советский Союз получил 155 боевых кораблей, в том числе крейсер, 4 эсминца, 6 миноносцев, несколько подводных лодок. Их использовали как учебные и вспомогательные суда.
И тихоокеанцы сказали своё слово
Несмотря на памятные уроки у озера Хасан в 1938 году и на Халхин-Голе в 1939 году, милитаристское правительство Японии ждало только случая, чтобы возобновить уже совместно с Германией военные действия против СССР.
В своих агрессивных планах японский империализм метил на захват всего советского Дальнего Востока с Сибирью, а также Камчатки (в Авачинской бухте Петропавловска японцы собирались создать главную северную базу японского флота на Тихом океане). Японские милитаристы создали у границ СССР два плацдарма: Маньчжурский и Курильско-Сахалинский. Оккупировав Маньчжурию, японцы перебрасывают туда отборную Квантунскую армию и к осени 1941 года доводят её численность до 750 тысяч человек. К тому же она подкрепляется ещё войсками Маньчжоу-Го в 180 тысяч человек и войсками монгольского князя Дэ-Вана в 12 тысяч человек.
Кроме того, находящиеся на севере японские войска численностью до миллиона человек в любой момент могли быть переброшены в Маньчжурию. Непосредственно в метрополии японцы имели резерв сил в количестве 13 дивизий, которые также были готовы к переброске их в Маньчжурию или к высадке на советскую территорию.
На Курильско-Сахалинском плацдарме находилось 5 японских дивизий, предназначенных для наступательных действий против советского Сахалина и Камчатки. Численность японских войск у наших границ оставалась почти неизменной на протяжении всей войны.
В сентябре 1940 года в Берлине был подписан тройственный пакт между Германией, Японией и Италией, направленный против Советского Союза.
Наше правительство делало всё, чтобы удержать Японию на нейтральных позициях. 13 апреля 1941 года с Японией был подписан договор о нейтралитете. И.В. Сталин сам прибыл на вокзал, чтобы проводить японского министра иностранных дел И. Мацуоку, подписавшего договор. На это обратил внимание весь мир.
2 июля 1941 года в Токио состоялась так называемая имперская конференция, подробно рассмотревшая военно-политическую обстановку на Дальнем Востоке в связи с нападением гитлеровской Германии на Советский Союз.
В принятой на конференции «Программе национальной политики» Японии указывалось: «Хотя наше отношение к германо-советской войне основывается на духе «оси» трёх держав, мы в настоящее время не будем вмешиваться в неё и сохраним независимую политику, секретно завершая в то же время военную подготовку против Советского Союза. Если германо-советская война будет развиваться в направлении, благоприятном для империи, она, прибегнув к вооружённой силе разрешит Северную проблему и обеспечит стабильность положения на Севере».[85]
В соответствии с этим решением конференции японский генштаб разработал план войны против СССР, зашифрованный под названием «Кантокуэн» (особые манёвры Квантунской армии).[86]
Только провал гитлеровского плана молниеносной войны заставил японских правителей воздержаться от прямой агрессии против СССР.
Однако на протяжении всей войны Советского Союза с фашистской Германией Япония фактически нарушила договор о нейтралитете, оставаясь потенциальным союзником гитлеровского рейха.
Так, уже 8 декабря 1941 года японское правительство вопреки международному праву объявило проливы Лаперуза, Сангарский и Корейский своими «морскими оборонительными зонами», поставив, таким образом, под контроль своих вооружённых сил Японское море и все выходы из него.
В декабре 1941 года японцы потопили советские торговые суда «Кречет», «Свирьстрой», «Перекоп» и «Майкоп» и захватили суда «Симферополь» и «»Сергей Лазо».
12 июля 1941 года начались первые постановки мин в заливе Петра Великого, около Владивостока, а затем и возле других дальневосточных военно-морских баз.
С декабря 1941 года в связи с началом войны Японии против США, Англии и их союзников на Тихом океане обстановка на нашем Дальнем Востоке несколько разрядилась. Япония направила основные морские силы на юг.
Когда Потсдамская конференция подходила к концу, И.В. Сталин спросил меня, не собираюсь ли я на Дальний Восток. Я ответил, что намерен после конференции на один-два дня задержаться на Балтийском флоте.
— Медлить не следует, — заметил Верховный.
Уже там, в Потсдаме, я узнал, что на меня возлагается координация действий Тихоокеанского флота и Амурской флотилии с действиями сухопутных сил.
8 августа 1945 года по радио было объявлено решение Советского правительства о вступлении в войну против Японии. Советский Союз преследовал справедливые и благородные цели: изгнать японских захватчиков из Маньчжурии и Кореи и тем самым оказать содействие китайскому и корейскому народам в их освободительной борьбе, вернуть нашей стране исконно русские земли — Южный Сахалин и Курильские острова.
А.М. Василевский, назначенный главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке, познакомил меня с обстановкой и замыслом операции.
План предусматривал стремительное наступление одновременно на трёх направлениях – из Приморья, из района Хабаровска и со стороны Забайкалья, с тем чтобы расчленить и уничтожить по частям Квантунскую армию. Сразу же в боевые действия включились наши моряки. Тихоокеанский флот (командующий адмирал И.С. Юмашев) к тому времени имел в своём составе 2 крейсера, 1 лидер эсминцев, 12 эсминцев и миноносцев, 78 подводных лодок, 204 торпедных катера, десантные суда, тральщики и другие корабли. ВВС ТОФ насчитывали более 1,5 тысячи самолётов. Японский флот к августу 1945 года имел до 500 боевых кораблей.
ТОФ был переведён на оперативную готовность № 1 ещё на рассвете 8 августа 1945 года. Торговые суда укрылись в заранее установленных пунктах.
Флоту следовало в первые же дни войны высадить ряд десантов на Корейском полуострове.
Находясь на Дальнем Востоке, я дважды разговаривал с И.В. Сталиным по телефону. Как-то выслушав мой доклад об обстановке на море, он шутя спросил:
— Всё ещё воюете?
Тогда наши части высаживались на последний остров Курильской гряды – остров Кунашир.
— На Хоккайдо высаживаться не следует, — так же шутливо предупредил Верховный.
— Без приказа не будем, — ответил я.
Через несколько дней меня снова позвали к телефону.
Верховный спросил, когда я вылетаю в Москву.
— Не задерживайтесь. Надо решать вопрос о новой судостроительной программе.
В правительстве уже думали о будущем нашего Военно-Морского Флота. Уже в Москве я увидел в газете Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года о награждении большой группы моряков Тихоокеанского флота, Амурской и Северной Тихоокеанской флотилий. Нашёл здесь и свою фамилию.
И.С. Юмашеву, Н.В. Антонову и мне было присвоено звание Героя Советского Союза.
Немеркнущая слава
Вскоре после войны мне на глаза попалась книга Э. Стеттиниуса «Рузвельт и русские». Есть в ней такие строки: «Американскому народу следует помнить, что в 1942 году он был недалёк от катастрофы. Если бы Советский Союз не смог удержать свой фронт, немцы получили бы возможность захвата Великобритании. Они смогли бы также захватить Африку, и в этом случае им удалось бы создать свой плацдарм в Латинской Америке».
Так писал не кто-нибудь, а тогдашний государственный секретарь США, которому было известно истинное положение дел.
Ныне, когда от войны нас отделяют десятилетия, некоторые зарубежные историки изводят горы бумаги в бесплотных попытках умалить роль Советских Вооружённых Сил в разгроме фашизма – злейшего врага человечества, зачёркивая всё, что в своё время говорилось американскими политическими и военными деятелями в прошлом, когда роль СВС в борьбе с врагом была очевидной, неопровержимой и когда против фактов выступать было невозможно.
За время Великой Отечественной войны флотами было уничтожено около 1300 транспортов водоизмещением свыше 3 миллионов тонн и более 1200 боевых кораблей и вспомогательных судов противника. Авиация флота совершила в общей сложности 384 тысячи самолёто-вылетов и уничтожила до 5000 вражеских самолётов. Флотами было высажено более сотни морских десантов общей численностью около 330 тысяч человек. В десантных операциях участвовало до двух тысяч боевых кораблей и несколько тысяч вспомогательных судов.
Советским Военно-Морским Флотом было за годы войны перевезено через различные водные преграды около 10 миллионов человек и более 94 миллионов тонн различных грузов.
Все наши флоты и почти все флотилии стали Краснознамёнными. Сотни тысяч моряков с гордостью носят боевые награды, которыми отмечены их героизм и мужество.
Генерал Армии Хрулёв
25 мая 1945 года состоялся приём в честь командующих войсками Красной Армии. Участники парада фотографировались в Георгиевском зале Кремля на память. Когда собирались и рассаживались командующие фронтами и самые видные военачальники, Хрулёв направился во второй или третий ряд. Но Сталин, готовясь сесть на стул в центре первого ряда, позвал его и сказал полководцам, стоявшим рядом:
— Без труда этого генерала в тылу не было бы и ваших побед на полях сражений!
И посадил Андрея Васильевича в первом ряду среди маршалов.
Кто же такой генерал армии Хрулёв, и почему он единственный из генералов армии был удостоен такой почести? Постараемся на страницах этой книги всё это уяснить.
Из энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945»
Хрулёв Андрей Васильевич (1892-1962), генерал армии (1943). Член КПСС с 1918. В Советской Армии с 1918. В Гражданскую войну начальник политотдела, военком кавалерийской дивизии. Окончил Военно-политические курсы высшего политсостава РККА (1925).
С августа 1940 Главный интендант Советской Армии. В июне 1941 генерал-лейтенант интендантской службы. В ходе войны с августа 1941 заместитель наркома обороны СССР – начальник Главного управления тыла Советской Армии, одновременно в феврале 1942 – апрель 1943 нарком путей сообщения СССР. С мая 1943 начальник Главного управления тыла, с июня начальник тыла Советской Армии.
Объединял и направлял усилия тыла на непрерывное материально-техническое обеспечение армии и флота. С 1946 начальник Тыла Вооружённых Сил – заместитель министра Вооружённых Сил СССР по тылу (в 1950-51 заместитель военного министра). В 1951-58 заместитель министров промышленности строительных материалов СССР, автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР, строительства СССР.
Автор ряда статей по вопросам организации тыла и материально-технического обеспечения Советских Вооружённых Сил в войне. Депутат ВС СССР в 1946-50. Награждён двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 1-й степени. Урна с прахом в Кремлёвской стене.
* * *
Выдающийся советский писатель В.В. Карпов написал очень хорошую книгу «Генерал армии Хрулёв. Всё для победы. Великий интендант»[87]. В книге он использовал рукописные воспоминания Андрея Васильевича (он не успел сам издать свои мемуары. – А.М.) и воспоминания родственников Хрулёва. Из книги.
В 1930 году Хрулёв был назначен начальником Центрального военно-финансового управления Наркомата по военным и морским делам. В течение трёх лет он навёл в этой службе образцовый порядок, что было отмечено в приказе Реввоенсовета СССР от 23.04. 1934 года.
В ноябре 1935 года ему присвоено звание корпусного комиссара, что по современным званиям соответствует генерал-полковнику.
После таких успехов вдруг Хрулёва снимают с должности и выводят в резерв. Как выяснилось позднее – это прикладывал свою чёрную руку Мехлис, который был тогда начальником Главного Политического Управления РККА. Мехлис утверждал, что Хрулёв замешан в военном заговоре Тухачевского и других.
Вот выписка из решений парткомиссии ПУ РККА: «Объявить строгий выговор с предупреждением за потерю политической бдительности, непринятие достаточных мер к ликвидации вредительства в строительном деле, за связь с врагами народа, за использование служебного положения в личных интересах, за неискренность перед парткомиссией».
«Наверху» долго решался вопрос, как быть с Хрулёвым. Наконец, в июне 1938 года ему предложили должность начальника строительного управления в Киевском военном округе.
Хрулёв пошёл к Мехлису не только как к начальнику Главпура, но чтобы ещё проверить, правильны ли слухи и о его недоброжелательности. Резкий и бесцеремонный, Лев Захарович открыто заявил Хрулёву:
— Скажите спасибо Ворошилову. Он вас прикрыл всей своей тяжестью и не дал мне поступить с вами так, как следовало бы поступить, но я постараюсь сделать всё возможное, чтобы моё желание оправдалось.
Мехлис как чёрная тень всю жизнь преследовал Хрулёва. А Хрулёв и в Киеве на новой должности проявил себя лучшим образом, через год к 1 января 1939 года его управление было признано лучшим среди строительных организаций наркомата обороны.
В октябре 1939 года Хрулёва вызвали в Москву.
Однако в этот приезд встреча со Сталиным не состоялась. До отъезда я обратился к Щаденко, который был заместителем наркома обороны по кадрам, с просьбой сказать, зачем меня вызывали. Он сказал, что ничего не знает, что этот вопрос ведёт сам Ворошилов.
Щаденко сказал неправду. Он знал, в чём дело. Но они оба с Мехлисом были против того, чтобы я был возвращён в Центральный аппарат Наркомата обороны. Прошло около двух недель, меня вновь вызвали в Москву. Ворошилов сказал:
— Имеется в виду возвратить вас обратно в Москву и дать большую работу.
К Сталину мы поехали вместе. Сталин сказал, что имеется намерение создать управление снабжения Красной Армии во главе с главным начальником снабжения.
Я поставил ряд вопросов относительно существа деятельности начальника снабжения Красной Армии. Это был большой орган по материальному обеспечению армии всеми видами снабжения. Но так как технические средства армии выросли, то начальник снабжения в прежнем виде не может справляться с техническим обеспечением армии. И ещё я сказал: — Мне кажется, что слово или наименование «начальник снабжения» не отвечает современности. И вообще, я прошу не назначать меня на эту должность.
Сталин очень удивился:
— Почему?
На настойчивый вопрос, почему я не хочу принять его предложение, я заявил:
— Мехлис поставил себе целью, во что бы то ни стало уничтожить меня. Он вновь начнёт травлю против меня.
Сталин стал расспрашивать:
— Почему у вас такое убеждение, что Мехлис обязательно будет с вами расправляться?
Я ему напомнил:
— В прошлом году, когда вы рассматривали на Политбюро вопрос обо мне, Мехлис метал громы и молнии против меня. Он доказывал, что я замешан в военно-фашистском заговоре и случайно как-то сохранился.
Но из доказательств товарища Ворошилова вы тогда убедились, что я честный человек, и предложили Мехлису и Ежову отстать от меня.
Сталин иронически спрашивает:
— Он нас с вами вместе может разгромить?
Я отвечаю:
— Вас-то не разгромит, а меня разгромит.
Мои возражения не были приняты во внимание, и меня назначили начальником снабжения РККА.
* * *
Малочисленный и к тому же полностью укомплектованный аппарат Управления снабжения явно не соответствовал тем задачам, которые на него возлагались. Это наглядно показал опыт боевых действий, зимой 1939-1940 годов. В конце ноября 1939 года Англия и Франция спровоцировали советско-финляндский конфликт. Образовался Северо-Западный фронт. В такой обстановке А.В. Хрулёв принимает решение ходатайствовать перед Народным Комиссаром Обороны о создании Главного интендантского Управления. В августе 1940-го такое управление было создано, возглавил его Хрулёв. В этом же году Хрулёву присвоено звание генерал-лейтенант.
Сложнейший аппарат Управления тыла и структуру снабжающих подразделений генерал Хрулёв разработал ещё в мирное время, и она была способна обеспечивать Красную Армию по всем пунктам. Но…. Вот это «но» и есть все особенности войны. А они начинаются с внезапного нападения Германии.
* * *
Хрулёв понимал, что трудности работы тыла и, в частности железнодорожного транспорта, в начальные месяцы войны дополнительно усугублялись необходимостью не только налаживать и наращивать в войска средств снабжения, но и эвакуировать с запада на восток большие запасы различного имущества основных довольствующих служб. Больших усилий требовал вывоз из западных районов 24 артиллерийских складов. И 7 окружных вещевых складов с хранившимися в них запасами.
С 22 июня 1941 года и по апрель 1942 года пришлось отправить на восток более полумиллиона тонн горючего. За один июнь 1941 года из прифронтовой полосы Юго-Западного фронта было эвакуировано более 85000 тонн продовольствия, более 3 миллионов банок консервов.
К 20 сентября 1941 года пришлось переместить из западных районов на восток более 100 тысяч коек госпиталей. Решались все эти задачи наряду с интенсивной эвакуацией на восток основных предприятий и населения, спасавшегося от гитлеровцев. Таких грандиозных транспортных операций, какие были осуществлены в первом периоде войны железнодорожным транспортом, история ещё не знала.
Опыт первых месяцев войны позволил органам тыла извлечь для себя важные уроки. Прежде всего, назрела нужда в жёсткой централизации управления тылом и создания единого постоянного руководства всей совокупностью работы органов тыла. Было предложено построить по принципу единой системы органов тыла по вертикали от центра до фронтов и армий. Вопросы организации и руководства тылом и снабжением изъяты из ведения оперативных штабов. В центре, во фронтах и армиях ввести должность начальника тыла, причём во фронте и армии начальник тыла одновременно должен стать заместителем командующего по тылу, а в центре быть заместителем Народного Комиссара Обороны.
* * *
16 июля 1941 года попал в плен сын Сталина старший лейтенант Яков Джугашвили, он служил в 14-ом гаубичном полку 14-ой танковой дивизии. Не трудно представить, какой это был удар для Сталина – как отца и Верховного Главнокомандующего.
Вот в такой тяжёлой обстановке и очень нервном состоянии Сталина генерал Хрулёв всё же решился начать с ним разговор о необходимости срочной реорганизации тыла. Сталин выслушал Андрея Васильевича внимательно.
Кроме своего анализа ситуации и проекта приказа, Хрулёв, подчёркивая значение обновления и укрепления работы тыла, попросил Сталина назначить на должности начальников тыла фронтов опытных и авторитетных строевых командиров. В подтверждении своей просьбы Хрулёв привёл пример из истории:
— Россия проиграла войну с Японией не потому, что была плохая армия, а потому, что не справился с обеспечением тыл. Сталин согласился с предложением Хрулёва и сказал:
— Продумайте, кого вы будете назначать начальниками тылов фронтов и округов. Кроме того, кого вы предлагаете в качестве своих заместителей? Ещё раз соберёмся здесь у меня в кабинете.
30 июля 1941 года предложенные Хрулёвым генералы были вызваны в Кремль. Сначала Сталин ознакомил собравшихся с тяжёлой обстановкой на фронте и подчеркнул исключительные трудности в деле подвоза войскам материальных средств и эвакуации раненых.
— Теперешняя война – это война моторов, — говорил Сталин, — она требует строгого учёта в войсках и особого порядка в тылу, в прифронтовой и фронтовой полосе. Этот порядок должен наводиться твёрдой рукой, и наводить его должны, прежде всего, начальники тылов фронтов и армий. Поэтому Ставка решила назначить начальниками тылов из числа хороших общевойсковых командиров. Вот мы и предлагаем назначить вас начальниками тылов фронтов. Вам нужно быть диктаторами в полосе своих фронтов, а вы должны знать, что такое диктатор. Вам должна подчиняться вся советская партийная и военная власть.
Вот только мы ещё не решили окончательно, подчинить вас командующему войсками фронта или нет. Какое ваше мнение?
Первым выступил генерал-лейтенант И.К. Смирнов, планирующий на должность начальника тыла Южного фронта.
— Двух командующих фронтов не может быть, — сказал он, — мы должны быть заместителями командующих фронтами, это будет придавать нам авторитет.
— Пожалуй, так правильно, — резюмировал Сталин. – Но тогда мы такой пункт включим. Берите и пишите, — обратился он к Хрулёву. – Начальник тыла является заместителем командующего фронтом, пользуется одинаковой с ним властью и получает одинаковое жалованье.
Этим Сталин подчеркнул значение и авторитет начальника тыла фронта. Затем он обратился к Смирнову: — Товарищ Смирнов, вы назначаетесь начальником тыла Южного фронта. У вас особые трудности, с одной стороны море, все дороги: и железные, и шоссейные идут с Севера на Юг и очень мало с Востока на Запад. Морской транспорт тоже будет вам подчинён, и вы будете им распоряжаться.
Затем коротко поговорил со всеми, кто планировался для работы начальниками тыла фронтов. Когда очередь дошла до Шевалдина, то он откровенно заявил:
— Я округом командовать могу, но за руководство тылом фронта я взяться не могу, не знаю этого дела.
— Ну раз Человек чувствует, что это ему затруднительно, — сказал Сталин, — надо вместо него другого человека назначить, зачем неволить.
Когда с назначением было завершено, Сталин сказал:
— Сегодня 30 июля, вы идите и оформляйтесь. Утверждена новая форма, Хрулёв за эти сутки должен сшить вам её. На фронт начальники тылов должны явиться в новом обмундировании. Первого августа вам необходимо выехать на новые места.
И. Сталин подписал приказы: № 0258 «О назначении начальников тылов фронтов», № 0257 «Об организации Главного управления тыла Красной Армии», «Об организации управления тыла фронта и армии». Положение об управлениях. Причём пункт 12 приказа № 0257 гласил:
Командующим войсками фронтов и армий формирование управлений начальника тыла фронта и армии закончить к 3 августа 1941 года. Приказ передать по телеграфу.
На постоянную работу в центральные органы управления тылом были выдвинуты крупные специалисты различных отраслей народного хозяйства страны.
Такой огромной материальной поддержки народа не знала ни одна армия мира. «Наша Красная Армия прекрасно одета и обута и неплохо питается, — говорил М.И. Калинин 11 января 1942 года на партийном активе города Калинина.
— Это засвидетельствованный всем миром факт, что наша страна сумела одеть свою армию лучше, чем гитлеровцы. А это на весах истории имеет очень большое значение.
* * *
Хрулёв не засиживался в штабе и в первый период войны часто выезжал на фронт. В середине января 1942 года Сталин приказал выехать на Волховский фронт к генералу армии Мерецкову и на месте разобраться с вопросами эвакуации и обеспечения фронта всеми видами снабжения. При ознакомлении с делами служб тыла Хрулёв установил, что начальник тыла фронта генерал-майор Субботин к исполнению должности непригоден, и тут же по договорённости с командующим фронта было решено начальником тыла фронта назначить генерал-майора Андреева, а начальником штаба тыла фронта – полковника Ф.М. Малыхина. Все вопросы эвакуации больных и раненых, а также обеспечения фронта снабжением были решены на месте.
Вскоре позвонил Поскрёбышев и передал приказ Сталина:
— Срочно возвращайтесь в Москву.
Из рукописи генерала Хрулёва:
«Если в Малую Вишеру я летел на самолёте, то обратно решил возвращаться на автомобиле и побывать в штабе Северо-Западного фронта. Зайдя в штаб, я немедленно направился к командующему фронтом генералу Курочкину с целью выяснить, каково положение войск Северо-Западного фронта и какие требования командующий может предъявить к центральному аппарату Наркомата обороны. Во время беседы к Курочкину зашёл член Военного совета фронта А.М. Пронин с просьбой утвердить решение трибунала фронта по делу начальника тыла фронта генерала Кузнецова.
Я спросил – о чём идёт речь? Мне рассказали:
— Булганин обвинил Кузнецова в преступном отношении к обеспечению войск фронта и потребовал, чтобы Военный трибунал вынес решение расстрелять генерала Кузнецова. Я знал Кузнецова по работе и сказал:
— Кузнецов – очень образованный генерал. Много лет проработал на штабной работе, высококультурный человек, добросовестный, трудолюбивый и исключительный. В чём конкретно его вина?
Курочкин немного подумав, заявил Пронину:
-Я утверждать этот протокол не буду. Я Кузнецова под суд не отдавал и с трибуналом не разговаривал. А решение это пусть утверждает сам Булганин, который затеял дело о Кузнецове.
Мне позднее стало известно, что Булганин этого протокола не утвердил и очень бесновался по поводу действий Курочкина. Но мне известно и то, что Кузнецов был сначала освобождён и разжалован, а через некоторое время начал работать в должности начальника тыла армии и в последующее время занимал ответственные посты. А я до сих пор не могу себе уяснить – почему Булганин добивался от Военного трибунала вынесения приговора о расстреле Н.А. Кузнецова.
Мне кажется, ничего другого, кроме угодничества перед Сталиным и показной стороны в своей деятельности, в этом эпизоде не присутствовало».
После возвращения с Волховского и Северо-Западного фронтов Хрулёв явился к Сталину и доложил ему о своей поездке. Сталин тут же вручил ему телеграмму члена Военного совета 3-й ударной армии Пономаренко, в которой тот сообщал о тяжёлом продовольственном положении в армии.
— Немедленно поезжайте в 3-ю ударную армию и примите меры по обеспечению войск этой армии продовольствием и фуражом.
Добираясь до штаба 3-й ударной, они (Хрулёв и комиссар тыла Калининского фронта Кацнельсон. – А.М) встретили в полях большое количество стогов. Достигнув стогов, они уяснили, что в них много не обмолоченной ржи, овса и клевера. Прибытие Хрулёва в штаб армии вызвало сильное удивление командующего армией Пуркаева:
— В связи с какими чрезвычайно важными событиями вы прибыли к нам?
— Я прибыл по телеграмме Пономаренко на имя Сталина, в которой он бьёт тревогу по поводу снабжения армии.
Тут же был приглашён член Военного Совета Пономаренко. Пономаренко заявил:
— Я телеграмму Сталину давал на основе информации начальника тыла армии Макарьева.
Макарьев доложил: — Действительно, у нас тяжёлое положение с хлебом, зернофуражом и объёмистым фуражом, а также на исходе мясные консервы. А свежего мяса нет вообще.
Андрей Васильевич спросил:
— Знаете ли вы, что в расположении армии имеются стога необмолоченного овса ржи и клевера? Все единодушно заявили, что в расположении армии ничего подобного нет. Кацнельсон подтвердил:
— Мы вместе с начальником тыла подходили к этим стогам и своими глазами видели овёс, рожь и сено. Как очень часто бывает в таких случаях, искали оправдание: если даже имеется зерно в расположении армии, то нет мельниц, а также это зерно лежит в стогах в снегу, а снег настолько глубок, что к стогам очень трудно подъехать.
Хрулёв сказал:
— Сразу видно, что вы не были участниками гражданской войны и не знаете, как снабжалась армия в течение трёх лет.
Все вопросы снабжения были решены на месте. Явившись на службу, Хрулёв срочно позвонил Поскрёбышеву и просил его доложить Сталину о его прибытии.
* * *
О том, как стал членом Комиссии ГКО и невероятных последствиях этого, Хрулёв рассказывал:
« Поскрёбышев дал телефон, по которому находился Сталин, и предложил мне лично соединиться с ним. Когда я позвонил Сталину, он мне заявил, что вызвал меня с фронта по чрезвычайным обстоятельствам, а именно по причине создавшейся критической ситуации на железнодорожном транспорте. И тут же сообщил, что создана комиссия из членов ГКО, в которую он бы считал необходимым включить и меня. Я просил меня в неё не включать, а что касается моего участия в работе комиссии, то я могу выполнять любое поручение, не будучи её членом. Но через час я получил постановление ГКО (это было 14 марта 1942 года), в котором говорилось, что «в состав руководящей пятёрки по делам НКПС дополнительно включаются Микоян и Хрулёв».
Андрей Васильевич продолжает рассказывать:
«Пока шёл разговор о моём участии в комиссии, Сталин ни разу не упомянул о работе Л.М. Кагановича, стараясь рассказать мне, как это ему представлялось, о состоянии железнодорожного транспорта, воинских перевозок. Он, видимо, уже был кем-то достаточно проинформирован о сложившемся положении, когда говорил о Ярославской, Северной, Казанской дорогах, забитых составами поездов. Движение по ним уже почти остановилось. Работа железнодорожного транспорта резко ухудшилась главным образом потому, что нарком путей сообщения не признавал вообще никаких советов со стороны сотрудников НКПС. В процессе работы комиссии ГКО я наблюдал перепалку между Кагановичем, Берией, Маленковым и другими членами комиссии. Причём у Кагановича аргументация была одна:
«Вы ничего не понимаете в работе железнодорожного транспорта, вы никакого хорошего совета мне подать не можете».
И вот в процессе работы комиссии Сталин дважды обращался ко мне. В первом случае с предложением, не следует ли мне занять пост народного комиссара путей сообщения, так как это было бы полезно для армии. И когда я старался отвести от себя это предложение, то Сталин в ответ заявил: «Вы не понимаете существа этого вопроса».
Второй разговор уже был решительным и конкретным. Часов в 8 вечера раздался звонок в кабинете Арутюнова (первый заместитель Наркома путей сообщения. – А.М).
Меня вызвал к телефону Сталин, который заявил:
— Я сегодня внесу предложение в Политбюро о назначении вас наркомом путей сообщения.
Я просил его не делать этого, поскольку мой авторитет слишком мал для большой армии железнодорожников, и мне будет крайне трудно справляться с таким большим делом. Если Каганович, будучи членом Политбюро, не справился с этим делом, то, как же я смогу справиться с ним. Сталин начал меня убеждать:
— Всё это вы можете получить в результате своей хорошей работы, кроме того, я буду вам помогать. Что, вы не верите, что я могу вам помочь?
Я отвечал:
— Я всему этому верю, но всё-таки прошу не назначать меня наркомом путей сообщения.
Сталин в ответ на это сказал:
— Вы полагаете, что я соглашусь с кандидатурой Арутюнова, которую нам всё время навязывает Берия? Но я никогда не соглашусь с этой кандидатурой и считаю, что вы меня не уважаете, отказываясь от моего предложения.
После небольшой паузы Сталин обидчивым тоном ещё раз заявил:
— Значит, вы меня не уважаете.
Не имея больше возможности доказывать и возражать против моего назначения на пост наркома путей сообщения, я спросил Сталина:
— Кто же будет начальником тыла Красной Армии?
Он ответил:
— Начальником тыла остаётесь вы. Поэтому и целесообразно ваше назначение наркомом путей сообщения. Являясь одновременно и начальником тыла, вы используете всё своё право наркома, чтобы в первую очередь обеспечить действующую армию.
В тот же день, 25 марта 1942 года, ровно в 12 часов ночи я получил решение о назначении меня народным комиссаром путей сообщения. И буквально тут же позвонил Л.М. Каганович, который просил срочно приехать к нему в НКПС. Вся процедура приёма-сдачи проходила в пределах 15 минут.
Когда меня назначили наркомом путей сообщения, Сталин пригласил меня к себе на дачу, там собралось почти всё Политбюро. Улучив момент, я подошёл к Сталину и обратился к нему со словами:
— Я не совсем понимаю отношение ко мне в 1938 году. Мехлис и другие требовали моего ареста, а теперь меня назначили наркомом путей сообщения. Какой контраст!
Он сказал примерно так:
— Мехлис, как только пришёл в ПУР в конце 1937 года, начал кричать о том, что вы – враг, что вы – участник военно-фашистского заговора. Щаденко в начале выступал в защиту вас. Кулик заявил: «Не верю. Я этого человека знаю много лет и не верю, чтобы он был замешан в каком-то антисоветском, контрреволюционном деле? Но вы, — говорил Сталин, — понимаете моё положение: Мехлис кричит «враг». Щаденко потом подключился к Мехлису: вы помните, — говорит, — Как обстояло дело при решении этого вопроса в Политбюро? Когда я задавал Ворошилову вопрос, — продолжал Сталин, — что же нам делать? Ворошилов сказал: — Теперь вот ведь какое время — сегодня тот или иной подозреваемый стоит на коленях и плачет, клянётся, что ни в каких заговорах не участвовал, никакой антисоветской и антипартийной работы не вёл, а завтра подписывает протокол и во всём сознаётся. Позднее я передал этот разговор Ворошилову. Ворошилов возмутился:
— Это неверно. Если бы я тогда колебнулся, вас бы не было.
Какое у меня было положение? Дают большой пост, оставляют начальником тыла Красной Армии и говорят: вы и то, и другое будете вести. И в то же время состояние хозяйства ужасное, а вдобавок ко всему прочему, авторитета у меня ни в партии, ни в стране никакого, никто меня не знает. Я это тоже Сталину высказал. И он ответил:
— Ну, хорошо. Центральный Комитет сделает всё необходимое, чтобы вы пользовались соответствующим авторитетом.
Нарком путей сообщения
Не трудно представить состояние Хрулёва в, прямо скажем, «погибельной» ситуации, в которую он угодил, став ответственным за снабжение вооружённых сил и работу железных дорог страны, которые находились почти в параличе. Говоря по-простому, возможность свернуть шею была самым очевидным исходом в создавшейся безвыходной ситуации.
Генерал Хрулёв был человек прочный с кремневым характером, из поколения, которое прошло закалку ещё в годы революции и Гражданской войны.
Неторопливый, в самых сложных ситуациях рассудительный, с могучим интеллектом, выходящим за границы военной образованности, он был уверен в себе и вселял эту уверенность в тех, кто работал с ним рядом.
Вот как Андрей Васильевич описывал свои переживания в связи с новым назначением:
«С тревожными раздумьями я возвращался из Кремля. При всех условиях необходимо было избрать местом постоянного пребывания НКПС. Остаток ночи пришлось потратить на решение с работниками тыла организационных вопросов предстоявшей работы. За старшего в Главном управлении тыла я оставил первого заместителя генерала Виноградова – он человек большого военного опыта, твёрдой воли и исключительной работоспособности.
Аппарат НКПС отнёсся с полным пониманием к задачам, с которыми я, как военный человек, пришёл на транспорт».
Хрулёв не пошёл путём «новая метла по-новому метёт», то есть не стал искать виновных и перетряхивать кадры. Наоборот, выявил работоспособных, грамотных и стал опираться на них. Войдя в курс всех дел, Хрулёв собрал своих новых заместителей по наркомату. В спокойной деловой беседе стали обсуждать, что и как необходимо предпринять, было принято решение о создании «Паровозных колонн резерва НКПС». На опыте работы первых колонн Хрулёвым были подготовлены постановления ГКО от 7 сентября и от 21 ноября 1942 года. На основании этих постановлений сформировано на дорогах 37 колонн, общей численностью 840 паровозов.
Колонны паровозов особого резерва НКПС представляли собой группу односерийных паровозов. Численный состав всех работников паровозной колонны, состоящей из 30 паровозов, определялся в 427 человек, а численный состав паровозной колонны в 15 паровозов, составлял 217 человек. Будучи переведённой на военное положение, колонна паровозов представляла собой отдельную воинскую часть, командиром которой являлся начальник колонны. Разработанная НКПС под руководством Хрулёва в 1942 году организация паровозных колонн почти не менялась до самого конца войны. Всего за весь период войны было сформировано 86 колонн, численностью в 1940 паровозов.
За время войны в паровозных колоннах с 1942 по 1945 год включительно было подбито противником 754 паровоза, 748 было восстановлено средствами и силами личного состава паровозных колонн. Из личного состава паровозных колонн за 4 года было убито 588 человек и ранен 751 человек.За самоотверженную работу и проявление героизма на фронтах Великой Отечественной войны 22 работникам паровозных колонн присвоено звание Героя Социалистического труда. Сотни человек награждены орденами и медалями.
Тыл Красной Армии, сомкнувшийся с НКПС, приобрёл огромную мощь и большое влияние на снабжение армии и народного хозяйства.
* * *
Хрулёв выдвинул на соискание Сталинских премий главных разработчиков нового метода работы железных дорог в трудных условиях войны – В.А. Гармика, А.П. Михеева и К.А. Даниленко. Но тайные недоброжелатели Хрулёва остановили это представление. Особенно «постарался» в последующем министр путей сообщения И.В. Ковалёв, ну и, конечно, давний «злейший друг» Мехлис.
На запрос из Государственного комитета было отвечено:
— Идея организации паровозных колонн полностью принадлежит И.В. Сталину и никто другой, кроме И.В. Сталина, не может претендовать на первенство в этом деле.
Награждение не состоялось.
Вообще Мехлис, как уже было сказано выше, следовал за Хрулёвым как чёрная тень, и не только за ним. Лев Захарович был всегда одиозной фигурой в армии.
Любопытны (и правильны) на сей счёт наблюдения Хрулёва, которые я заимствую из его рукописи:
«Мои взаимоотношения, как начальника тыла, с членами военных советов фронтов, всегда были самыми деловыми. Исключение составляли два члена военных советов фронтов: Мехлис и Булганин, особенно в этом отличался Мехлис.
Примерно в конце 1943 года Сталин собрал нескольких командующих фронтами с первыми членами военных советов для обсуждения больших вопросов и проведения крупных военных операций. Когда, видимо, дело подходило уже к концу (я при этом не присутствовал), Сталин задал вопрос командующим и членам военных советов:
— У кого есть какие претензии к вопросам материального обеспечения?
Ни один из командующих и членов военных советов никаких претензий не заявили, а Мехлис сказал:
— Я считаю, тыл очень плохо работает, и интендантство не обеспечивает войска полностью продуктами и следует принять меры к тому, чтобы улучшить работу органов тыла.
Сталин немедленно вызвал меня.
Когда я зашёл к нему в кабинет, он сказал мне:
— Вот, жалуются на вас фронты, что вы плохо работаете, не обеспечиваете войска.
Я задал Сталину вопрос:
— А кто жалуется и на что жалуется?
Сталин мне говорит:
— А как вы думаете, кто бы мог жаловаться?
Я отвечаю: — Единственно, кто может жаловаться, это видимо, Мехлис. Как только я произнёс эти слова, последовал взрыв хохота. Когда я увидел весёлое настроение присутствующих, которые признавали несерьёзность заявления Мехлиса, я заявил:
— Желательно бы услышать от товарища Мехлиса конкретные претензии. – И тут же обратился к Мехлису: — Какие продукты вам не дают, а может быть не дают обмундирования, или не обеспечивают медико-санитарным имуществом, или ещё что-либо?
Мехлис тут же ответил:
— Вы всё время нам не отпускаете лавровый лист, уксус, перец и горчицу.
Это заявление Мехлиса опять было встречено хохотом.
Был и другой случай, когда Мехлис однажды ночью явился ко мне и заявил, что он был у Сталина, докладывал ему по поводу плохой работы военторга.
Сталин якобы приказал Мехлису поехать ко мне и вместе разработать проект постановления ГКО. Сначала я не хотел этим вопросом заниматься, заявив Мехлису: — Если у тебя есть такое поручение, то у меня такого поручения нет, и я не обязан заниматься этими вопросами без прямого поручения – это во-первых, а во-вторых, что ты хочешь внести нового в деятельность организации военторга? Мехлис сказал: -Я предлагаю все фонды на предметы широкого потребления, которые продаются на фронтах через военторговскую систему, отпускать через интендантство.
— Что же это нам даёт, увеличатся фонды в стране?
Спорили долго. Настало утро, а днём я доложил Сталину всё подробно и по существу как надо смотреть на вопросы торговли.
Сталин, не вступая в рассуждения по этому вопросу сказал: -Чепуха, плюньте на это, не тратьте время своё и моё».
* * *
Власть у Мехлиса была огромная. В тридцатые годы он работал помощником Сталина и зарекомендовал себя до беспредела преданным вождю. Не случайно из секретариата Генсека Мехлис шагнул на пост главного редактора «Правды». Это был рупор партии. Газета не только проводила в жизнь все решения ЦК и Политбюро, но была ещё и могучим карающим органом.
Достаточно было небольшой заметки на её полосе и людей снимали с должности, лишали высоких званий, а то и отправляли на Лубянку в ведомство Ежова и Берии.
Сталин очень доверял Мехлису. Не случайно за день до нападения Германии 21 июня 1941 года Мехлис был назначен начальником Главного Управления Политической Пропаганды РККА (которое он вскоре преобразовал в Главное Политическое Управление РККА).
При этом за ним сохранился пост наркома Госконтроля. Кроме того, он стал заместителем наркома обороны и выезжал на фронты как уполномоченный Ставки.
Всё было бы хорошо, если бы не скверный, скандальный характер Льва Захаровича, и, как правильно пометил Хрулёв, его желание выслужиться перед Сталиным в качестве доносчика и фискала.
Кстати Мехлис это вменил в обязанности и комиссарам в своей директиве от 20 июля 1941 года. Неуважение строевых командиров к комиссарам породил этой директивой именно Мехлис.
«Быть на деле глазами и ушами большевистской партии и Советского правительства, самыми бдительными и осведомлёнными людьми в частях. Своевременно сигнализировать о поступках, недостойных звания командиров и политработников».
Широко известно «дело Павлова», который был расстрелян вместе со штабом. После неудач и отступлений на Западном фронте (что и было на всех других фронтах) ГКО вынес решение об «отстранении генерала армии Д.Г. Павлова от обязанностей командующего войсками Западного фронта». Мехлис был назначен членом военного совета этого фронта для наведения там порядка. И он навёл порядок не в боевых действиях, а характерным для Мехлиса способом.
При всём уважении к Сталину и понимании его ответственности за судьбу страны и армии, скажем прямо: не было необходимости принятия таких экстраординарных, крутых мер в той ситуации. В данном случае Сталин чересчур доверился Мехлису и перегнул палку. Автором грозных обвинений и расстрельных мер был Мехлис. Пожалуй, в ту войну никто, кроме Мехлиса, не решился без суда расстрелять перед строем генерал-майора артиллерии Гончарова. Текст приказа войскам Западного фронта № 057 от 12 сентября 1941 года, был составлен лично Мехлисом.
В эти же сентябрьские дни окончилась не только карьера, но и жизнь генерала Качанова. Расправившись с генералом Гончаровым, начальник Глав ПУ дал указание осудить к расстрелу и командарма – 34, что военный трибунал и исполнил 26 сентября в присутствии Мехлиса.
Генералы Качанов, Гончаров, Павлов и его соратники были посмертно реабилитированы, следовательно, их жизни на совести Мехлиса. Мехлис, несомненно, выжидал удобного случая, чтобы расправиться с Хрулёвым. Андрей Васильевич раскусил Мехлиса давно.
Вот его мнение, записанное в неопубликованных воспоминаниях: «Меня всегда поражало то, что Мехлис был ограничен в своих взглядах на государственные возможности. Он считал, что тыл, интендантство, различные органы снабжения не хотят работать. А у нас в стране возможности неограниченные.
Был и такой случай, Мехлис заявил Сталину:
— Хрулёв даёт наряды на получение муки для Брянского фронта из Саратова, когда Брянский фронт стоял под Орлом.
Я в шутку сказал Мехлису:
— Можно вам наряды дать на Киев, если для вас удобно там получать (А Киев у противника).
Сталин рассмеялся, а я тут же продолжал разговор: — Товарищ Сталин, мне не понятно поведение Мехлиса, он член Оргбюро ЦК и кажется должен знать, где и какие ресурсы имеет наша страна и какими возможностями мы располагаем в настоящее время.
Мехлис особенно много писал различного рода шифрованных телеграмм на имя Сталина по вопросам материального обеспечения, и, как правило, все эти телеграммы без всякой резолюции поступали в штаб тыла.
Командующие, с которыми Мехлис работал, многие были возмущены его деятельностью, особенно такие, как генералы армии Петров, Ерёменко, маршал Советского Союза Конев.
* * *
В каком положении оказались службы тыла осенью 1941 года в битве за Москву, представить не трудно. Но перерыва в снабжении войск не произошло, потому что органы управления, тыловые учреждения отступили и продолжали исправно действовать, действовала система, которую Хрулёв организовал и внедрил с помощью Сталина.
Трудности и беды подстрекали Хрулёвав другом: начиналась массовая эвакуация из Москвы.
Вот что записал Хрулёв в своих воспоминаниях (цитирую здесь, как и в других местах без кавычек, потому что привожу текст Хрулёва не дословно, а с сокращениями, редакторскими поправками и некоторыми моими пояснениями, где того требует смысл):
Наступило тревожное 16 октября. Смертельная опасность надвигалась на Москву. Утром мне позвонил Начальник Генерального штаба Маршал Шапошников. Он передал мне приказ Сталина об эвакуации. Ставка переезжает в Арзамас, тыловые органы – в Куйбышев. Он просил подготовить поезд для сотрудников Генштаба.
Передо мной возникли новые задачи: как быть с имуществом, которое находится в Москве? Развести его по фронтам или вывести вглубь страны? Как подготовить обеспечение армии в связи с эвакуацией?
Я пришёл в Ставку и предложил Сталину направить в Куйбышев ряд управлений, но от каждого управления оставить в Москве крупную оперативную группу, которая бы смогла заниматься вопросами железнодорожного и автомобильного подвоза, эвакуацией раненых, снабжением войск фронта тёплым имуществом, продовольствием.
Сталин согласился и разрешил мне пробыть в Москве ещё сутки, но перед выездом в Куйбышев доложить ему, как обстоит дело.
На следующий день я вновь доложил Сталину, что обстановка требует, чтобы я остался в Москве. Сталин опять согласился и сказал – вопрос о выезде из Москвы мы ещё раз обсудим. 17 и 18 октября я встретился с Микояном и узнал, что по решению ГКО он должен выехать в Куйбышев. Я заявил, что его отъезд в Куйбышев крайне нежелателен, так как он принимал большое участие в материальном обеспечении армии, в работе промышленности на армию и в других вопросах.
Микоян ответил, что он не возражает, если я поставлю этот вопрос перед Сталиным. Я в тот же день доложил об этом Сталину, но он резко отверг моё предложение.
И только после того, как я ему доказал, что с деятельностью Микояна связаны поставки Вооружённым Силам горючего, продовольствия, обмундирования, медико-санитарное имущество и многие другие виды материальных средств, не входящей в компетенцию начальника тыла Советской Армии, Сталин заявил:
— В Куйбышев выезжают все посольства, а товарищ Микоян ближе всех связан с иностранцами по линии внешней торговли, пусть Микоян пробудет в Куйбышеве 7-5 дней и после этого вернётся в Москву.
Микоян пробыл в Куйбышеве всего 3 дня и вернулся обратно.
Иначе реагировал на всё происходящее секретарь МК товарищ Щербаков. Он каким-то образом узнал, что у нас на Главном складе интендантства в Москве хранится 500 тысяч пар обуви и много другого имущества, предложил мне раздать это населению. Я сказал Щербакову: — Мне непонятно ваше предложение, войну мы кончать не собираемся, сдаваться на милость немцев тоже, следовательно, мы должны дорожить всеми ресурсами, которые у нас имеются.
Щербаков всё же доложил Сталину. Но Верховный сказал, что я прав. Раздача вещей была прекращена, но за один день 16 октября было потеряно много имущества.
Много различных учреждений и предприятий бросали свои склады и уезжали в Горький. Я поручил разослать интендантских работников по железным дорогам и водным путям, чтобы выяснить, что мы можем спасти и как мы можем это сделать
Наркомат внешней торговли оставил на холодильнике большое количество мехов, приготовленных для экспорта – около 100 вагонов. Меха мы забрали, погрузили в вагоны и направили в Казань на склад вещевого управления главного интендантства. Это имущество пробыло в наших руках почти полгода и только после запросов Микояна, не находится ли такое имущество у нас, мы предложили Наркомату внешней торговли забрать эти меха.
16-17-18 и вплоть до 20 октября была самая тяжёлая обстановка. Все предъявили Наркомату путей сообщения громадные невыполнимые требования по подаче вагонов для эвакуации имущества, людей.
Вокруг вагонов создался ажиотаж, который принял явно ненормальный характер. ГКО вынес решение о назначении А.Н. Косыгина уполномоченным по эвакуации Москвы. Мы убедились, что без согласованного распределения вагонов и платформ работать нельзя. Решили, кому, когда и сколько вагонов выделять, будем рассматривать мы, военные, вместе с гражданскими потребностями. Это согласование дало очень хороший результат.
Мы постарались всё тёплое имущество развести по фронтам ещё до 1 октября. Но были у нас и курьёзные случаи. 17 или 18 октября Булганин доложил Сталину, что фронт не имеет тёплого имущества. Сталин сразу позвонил мне и в очень раздражённой форме начал спрашивать. Он не скупился на угрозы, даже на арест и расстрел. Я отвечал: — Булганин не знает, что у него на фронте имеется. Фронт получил 200 тысяч полных комплектов тёплого обмундирования. Сталин потребовал: — Дайте точную справку: где и что находится! Примерно в 11-12 часов такую справку доставили Сталину. О дальнейшей судьбе этого вопроса я узнал от Микояна, он передал мне, что Сталин, получив мою справку, вечером в той же резкой форме, как он разговаривал со мной, отчитывал Булганина.
Но я ещё до этого утром разыскал Булганина и спросил:
— На каком основании вы делаете необоснованные заявления Сталину? Он мне ответил: — Мой доклад Сталину обоснован. И я готов в любую минуту ответить за своё заявление!
Булганин и Мехлис друг перед другом старались сообщать Сталину самые сенсационные новости и, как правило, попадали пальцем в небо. Но на неверную информацию Сталин реагировал болезненно, такие заявления порождали подозрения на честных людей в предательстве, шпионаже и прочих смертных грехах.
Октябрьские события 1941 года также показали, как неправильно относились к Сталину некоторые соратники из его окружения – Берия, Маленков, Молотов наперебой уговаривали Сталина покинуть Москву. Их интересовала не сама Москва, они больше всего старались показать Сталину своё угодничество и свою заботу о сбережении его жизни. Всё было подготовлено к тому, чтобы Сталин покинул Москву, но, видимо, в Сталине заговорило здоровое чувство, он понял, что если покинет Москву, то Москву, безусловно, сдадут немцам. Не трудно было предвидеть и заранее можно сказать, что творилось бы в Москве, если население узнало, что Сталин оставил её:
Власик, начальник охраны Сталина, рассказывал:
«Был разговор на эту тему между Сталиным и Ждановым. «Хозяин» твёрдо и решительно заявил, что не может быть и речи об этом: он остаётся на своём посту в Москве. Но мы всё-таки на всякий крайний случай сформировали специальный небольшой поезд, который уже находился в полной готовности к отбытию. Товарищ Сталин знал об этом».
Но решение на эвакуацию Москвы он принял.
Хрулёв вспоминает: — Много было забот у Сталина в эти дни, иногда он был очень раздражён. Вдруг он позвонил мне и спрашивает: — Где начальник Главного артиллерийского управления Яковлев? Я ответил: — Не знаю, где он находится. Генерал-полковник Яковлев не мой подчинённый.
— А вы кто?
— Я начальник тыла советской Армии и Ваш заместитель.
— Вот именно, — сердито сказал Сталин, — Вы, как мой заместитель, обязаны знать, где Яковлев! Найдите его немедленно!
Яковлева я нашёл и сообщил ему о вызове Сталина. Такое бывало не раз – грубил и даже угрожал, но скоро забывал об этом и на другой день разговаривал, как ни в чём не бывало.
Сталин сочетал в себе две черты, которые у других людей не уживаются. Он доверял людям и, как я уже отмечал, часто подписывал документы, не читая их. Он доверял человеку, которого уже проверил раньше. И в тоже время Сталин был болезненно подозрителен.
Думаю, что эта подозрительность явилась следствием постоянного воздействия на него Берии, Мехлиса, Щаденко и других, которые пугали его сообщениями о заговорах.
* * *
В этой работе (в контрнаступлении под Москвой. – А.М) ближайшим помощником Сталину был Хрулёв. Кроме обеспечения фронтов, которые вели бои, формирование трёх армий требовало больших усилий от работников тыла.
Генерал Хрулёв пишет по поводу боёв в зимних условиях следующее:
«Некоторые немецкие историки объясняют свои неудачи в 1941-1942 годов сильными морозами, что Советская Армия взяла верх под Москвой только потому, что в эту зиму были сильные морозы. Зима и морозы являются одинаковыми условиями для воюющих армий. Немецкая армия не первый раз встретилась с зимою на Восточном фронте. Она с ней была знакома ещё в 1914-1918 гг. Но видимо, никакого урока не извлекла. Она к зиме совершенно не подготовилась. Слишком большая самоуверенность самого Гитлера и его генеральского и офицерского корпуса, что они поставят советское государство на колени ещё до наступления морозов, привело к тому, что они были захвачены врасплох морозами.
Находчивый Андрей Васильевич сделал удивительное «нововведение». Не зря говорят, всё новое – это хорошо забытое старое. Вспомнив опыт мировой, гражданской, а также финской войны, он внёс в Ставку предложение об организации 100 гужевых транспортных батальонов. Хрулёв доказал целесообразность этого предложения, и оно было принято, гужевые батальоны были созданы. Гужевой санный транспорт широко использовался. Он прибавил тыловикам и войскам большую маневренность. У нас создалось явное преимущество перед немцами. Таким образом, хорошо отлаженная Хрулёвым организация тыла и в наступлении работала успешно.
* * *
В конце 1941 года, ещё до битвы за Москву, началась длительная тяжба генерала Хрулёва с начальником Главного управления формирования и укомплектования войск Красной Армии (он же заместитель Наркома обороны) армейским комиссаром 1 ранга Е.А. Щаденко. Дискутировать с ним было очень трудно: Ефим Афанасьевич был авторитетной фигурой – член партии с 1904 года, в Гражданскую войну – член РВС Первой конной армии С.М. Будённого.
Ввиду больших потерь в первые месяцы войны, Щаденко искал возможности для возмещения этих потерь и формирования новых частей. Одну из таких возможностей он определил в сокращении штатов медицинских учреждений и расформировал 177 медицинских учреждений.
В сентябре Щаденко уговорил Сталина дать указания всем управлениям представить предложения по сокращению количества и штатов учреждений действующей армии. Срок – 24 часа.
Кроме того Щаденко предложил 310 прифронтовых госпиталей НКО (197 тысяч коек) передать из НКО в Наркомздрав, а из 340,5 тысяч свободных коек по ЭГ Наркомздрава свернуть 150 тысяч коек, кроме того, расформировать 321 тысяч коек госпиталей Наркомздрава.
Общая смертность среди раненых в русской армии за Первую мировую войну равнялась 11,5%, у нас общая смертность среди санитарных потерь не превышает 4%.
По данным профессора Оппеля, смертность в госпиталях царской армии составляла 3,1%, а у нас – 1,02%, что объясняется получением для большинства раненых квалифицированной хирургической помощи в полевых условиях, выносом раненых с поля боя под ружейно-пулемётным огнём противника. Сталин удовлетворил просьбу Хрулёва – многие медицинские учреждения были восстановлены и некоторые вновь сформированы.
Долгая тяжба с Главупрформом закончилась тем, что Сталину, видимо, она надоела, и генерал-полковник Щаденко в 1943 году был назначен членом Военного совета Южного, потом 4-го Украинского фронтов, где тоже не прижился, затем (в 1944 году) был выведен в распоряжение Главпура.
* * *
В московской наступательной операции тыловые учреждения генерала Хрулёва с 5 декабря 1941 года по 7 января 1942 года обеспечивали войска трёх фронтов – Западного, Калининского и Юго-Западного – всего 105 дивизий, 44 бригады, 1021700 человек, из них 231369 получили ранения и были эвакуированы.
Только с 1 октября 1941 года по январь 1942 года включительно для войск, участвовавших в боях под Москвой, было доставлено 179543 вагона с грузами, в том числе: боеприпасов 40602 вагона, горючего 61962 цистерны, вооружения и технического имущества 25338 вагонов, продовольствия и фуража 36928 вагонов, вещевого и обозного имущества 14713 вагонов.
* * *
В августе-сентябре 1941 года наше правительство заключило с Польским эмигрантским правительством, находившимся в то время в Лондоне, соглашение о формировании на территории Советского Союза четырёх польских дивизий из числа поляков, находившихся на территории СССР и являющихся польскими подданными. Формирование этих дивизий происходило в Приволжском военном округе в Татищевских лагерях и в некоторых других местах на территории округа.
Для формирования этих дивизий решением ГКО были выделены соответствующие фонды пайков, обмундирования, оружия, транспорта, средств связи, инженерного имущества и других предметов, необходимых для полной боевой готовности дивизий.
Доставка всего имущества, а также питание и размещение формируемых частей было возложено на начальника тыла Красной Армии генерала Хрулёва. Так как во втором полугодии 1941 года ощущался большой недостаток во всех видах имущества, то формирование польских дивизий производилось с большими трудностями, а возглавлявший эти формирования с польской стороны генерал Андерс, будучи очень капризным человеком, высокого самомнения, всё время жаловался на тыл Сталину и своему президенту Сикорскому. И.В. Сталин очень хорошо знал положение, поэтому особых претензий к тылу не предъявлял и нажима на первоочередное обеспечение польских формирований не делал.
В конце октября — начале ноября 1941 года, в самое кризисное для страны время, прилетел из Лондона Сикорский и повёл со Ставкой переговоры о формировании не четырёх, а восьми польских дивизий. Сталин в разговорах с Сикорским потребовал, чтобы две заканчивающие формирование польские дивизии были выдвинуты на фронт и готовились к участию в боях с немцами. На что Сикорский не ответил прямо, стал вилять. Сталину это не понравилось, и он, вроде бы шутя, но довольно твёрдо сказал:
— Если поляки не хотят здесь воевать, то скажите об этом прямо – да или нет. Я считаю – где войска формируются, там они должны остаться и принимать участие в боях. Не хотите? Обойдёмся без вас. Можем всех отдать, сами справимся. Отвоюем Польшу и вам её отдадим. Но что на это люди скажут? Как будут к вам относиться после войны? Какие же вы будете освободители родины, если вашими руками англичане будут решать свои интересы на Ближнем Востоке? Нам жить рядом. Мы соседи. Или вам ближе английские интересы.
— Пусть армия пока остаётся на вашей территории, — согласился Сикорский, — но надо увеличить её состав, сформировать ещё одну дивизию.
— Хорошо, — согласился Сталин, — можно увеличить армию до семи дивизий, но тогда вы добьётесь, чтобы в снабжении частей участвовали Англия и США. Вы же знаете, как нелегко сейчас приходится нам на фронте.
Как-то вечером Хрулёву позвонил Молотов и предложил:
— Разработайте проект решения ГКО о формировании восьми польских дивизий на нашей территории и о выделении для этой цели соответствующего количества всех необходимых материальных средств.
Поскольку Хрулёв не участвовал в переговорах о формировании восьми польских дивизий (он отказался от подготовки проекта решения, но в конце концов под нажимом Молотова) такой проект был разработан.
Молотов, рассмотрев проект, предложил внести некоторые изменения и доложить лично Сталину. Хрулёв возразил:
— Я не могу докладывать этот проект постановления, потому что не присутствовал на переговорах и даже не получал прямого указания от Сталина на разработку такого проекта постановления.
В тот же вечер Молотов и Хрулёв были в Ставке. Когда обсуждение всех вопросов было закончено, Хрулёв подал Сталину проект постановления о формировании восьми польских дивизий. Сталин прочитал и тут же задал Хрулёву вопрос: «О каких восьми польских дивизиях вы ведёте речь, кто решил формировать восемь польских дивизий на нашей территории.
Хрулёв попал в нелепое положение. Молотов не очень уверенно сказал Сталину: -Мы ведь этот вопрос обсуждали с Сикорским, когда он прилетал сюда. Сталин заявил:
— Ну и что же, обсуждали, но мы никакого твёрдого решения не приняли, мы никакой гарантии Сикорскому не давали. Ты что, закредитовался перед поляками, почему выносишь постановление о формировании этих дивизий?
Хрулёв вернулся к себе в штаб тыла. Через несколько минут позвонил Сталин: — Сколько вы даёте пайков на формирование польских дивизий?
Хрулёв ответил: — 36 тысяч пайков даётся на основании постановления ГКО строго по численности, которая существует на день отпуска пайков.
Сталин спросил: — Имеется ли какой-либо представитель начальника тыла при штабе Андерса? Андрей Васильевич доложил:
— При штабе Андерса от штаба тыла представителя нет, а имеется представитель НКВД полковник Жуков. Контроль за обеспечением всех польских формирований я поручил моему заместителю генералу Захарову, он находится в Куйбышеве, где руководит обеспечением польских формирований.
Через несколько дней, когда штаб Андерса уже передислоцировался в Ташкент и все формирования происходили в Среднеазиатском военном округе, Сталин приказал Хрулёву:
— Через полковника Жукова передайте Андерсу, что так как мы потеряли Украину, Белоруссию и ряд других областей, то мы не станем давать на польские формирования более 25 тысяч пайков.
Хрулёв составил маленькую записку, текст которой прочитал по телефону Сталину, он никаких поправок не внёс.
— Хорошо, в таком виде передайте её Жукову.
Когда полковник Жуков передал сообщение о том, что Андерсу на формирование будет отпущено всего 25 тысяч пайков, Андерс начал кричать, кто же у вас управляет делом. Сикорский обратился к Сталину с вопросом, как это могло случиться?
Сталин ему ответил, что начальник тыла у нас лицо ответственное, он несёт полную ответственность за обеспечение своей армии, а поэтому ему предоставлено право решать, кому и сколько следует давать пайков.
Хрулёв из этих разговоров понял, что в основе данного вопроса лежало предложение Сталина отправить две польские дивизии на фронт. Ни Сикорский, ни Андерс не дали Сталину положительного ответа.
Армия Андерса перешла в Иран, а из Ирана постепенно перебрасывалась за рубеж и действовала уже по директивам английского командования и английского правительства. И всё это в ходе битвы за Москву!
* * *
Кроме создания резервов, которые обеспечили успех в Сталинградской битве, Сталин, Хрулёв и его работники тыла осуществили ещё одно «мероприятие», колоссальное по своей стратегической значимости. Я расскажу о массовом подвиге, который совершил Верховный Главнокомандующий, нарком путей сообщения Хрулёв и тысячи других офицеров и солдат.
Ещё до того, как гитлеровцы нанесли удар на Кавказ, ринувшись к бакинской нефти, а затем и в направлении Сталинграда, Сталин понял: если они достигнут намеченной цели, страна будет разрезана на две части, и не только армия останется без горючего, ещё и все железные дороги в европейской части нашей страны будут перерезаны. Возможность перегруппировки войск с севера на юг и обратно, а также снабжение их всем необходимым будут нарушены.
Войска ещё только отступали к Сталинграду, а он принял решение, и отдал приказ железнодорожным войскам (генералу Хрулёву) срочно построить железную дорогу вдоль левого берега Волги на Баскунчак, Урбал.
Здесь придётся сделать отступление, ещё раз свидетельствующее о дальновидности Верховного Главнокомандующего.
В трудные месяцы 1941 года в руководстве вооружённых сил обсуждалась идея ликвидировать железнодорожные войска, потому что при отступлении нет для них задач по строительству железных дорог, и превратить их в обычные стрелковые части, в которых так нуждалась тогда отступающая армия. В ноябре была создана комиссия во главе с начальником ГПУ РККА Л.З. Мехлисом, получившим задание подготовить проект решения ГКО по этому вопросу. В состав комиссии вошли начальники центральных управлений Наркомата обороны и Генштаба, заместитель наркома путей сообщения И.Д. Гоцеридзе, начальник управления военных сообщений генерал-лейтенант И.В. Ковалёв и некоторые другие лица. Все члены комиссии, кроме Ковалёва, высказывались за ликвидацию железнодорожных войск. Согласие на это дал даже начальник Генштаба маршал Б.М. Шапошников. Подчинённый Хрулёва (видимо, по согласованию с ним) генерал Ковалёв сказал, что ликвидация железнодорожных войск – это точка зрения пораженческая и голосовать он за неё не будет. По телефону Мехлис сообщил об этом заявлении Сталину. Тот сказал: — Трубку передайте Ковалёву, — и спросил у него: — Почему вы считаете ликвидацию железнодорожных войск пораженчеством?
— Потому, что мы готовим под Москвой контрудар, и позже будем готовиться к наступлению, а наступать без железнодорожных войск и восстановительных средств, которые являются орудием наступательных операций, невозможно.
— Правильно. Передайте трубку Мехлису. – Вы пораженец Мехлис, комиссия тоже. Комиссию распустить, войска сохранить.
И вот как пригодились железнодорожные войска под Сталинградом. Готовые звенья рельсов было приказано брать с БАМа, который, как известно, начали строить ещё до войны. Верховный Главнокомандующий разрешил снимать готовые секции и со вторых путей ближайших дорог, где не было интенсивного движения.
Ещё в августе 1941 года по предложению Хрулёва было принято решение ГКО о постройке железной дороги от Астрахани до Кизляра и моста через Волгу у Астрахани. Всё это имело жизненно важное значение для снабжения фронтов. Протяжённость новой дороги составляла 348,6 км. На трассу было привезено 20 тысяч строителей. Но 30 ноября неожиданно пришло указание Л.М. Кагановича, бывшего тогда наркомом путей сообщения, о консервации строительства. И вот теперь Хрулёву пришлось форсировать работы, всё пришлось начинать снова.
25 июля группа армий «А» начала наступление на Кавказ. 9 августа 1942 года взят Краснодар, 10 августа – Майкоп. 2 сентября началось форсирование Терека.
Эшелоны с горючим к этому времени уже полным ходом шли на Урал: в июле было завершено наведение переправы через Волгу, а железная дорога Кизлер-Астрахань вступила в эксплуатацию 4 августа 1942 года. Всё же успел генерал Хрулёв создать обходные пути и сделать запасы нефти в глубоком тылу.
«И если наша Победа под Сталинградом была воспринята за рубежом как величайшее чудо, — писал Нарком путей сообщения военных лет, — то не меньшим чудом явилось транспортное обеспечение этой стратегической операции».
Без долгих доказательств очевидно: если бы рокадная железная дорога на берегу Волги не была построена – не состоялись бы ни окружение, ни уничтожение немецкой армии. Вот такова цена предвидения Верховного и энергичной деятельности генерала Хрулёва.
Однажды Сталин вызвал Хрулёва и сказал: — Возникло затруднение на заводах, не хватает упаковочной тары для снарядов. Ящики с передовой не возвращают, они занимают много места, возить их не выгодно. Что можно сделать?
Хрулёв ответил: — Сделать можно. Зачем возить воздух? Дадим указание, пусть разбирают ящики, делают плотные связки и подвозят их к железным дорогам, а мы погрузим и доставим на заводы, там их своими силами разгрузят и опять превратят в ящики.
Сталин возразил: — Мысль хорошая, но не подходит. У артиллеристов нет времени разбирать, а тем более подвозить доски. Возьмите это дело в свои руки: подать машины, погрузить, привезти на станцию, подать вагоны, — Сталин почти улыбнулся, — и за всё это отвечать.
В общем, ещё раз подтвердилась истина – инициатива наказуема. Но предложение Хрулёва сэкономило примерно 40 тысяч кубометров леса и большой объём человеческого труда.
Курская дуга
Битва на Курской дуге была для генерала Хрулёва самой нервной и даже опасной для жизни. Об этом я расскажу, пользуясь черновыми записями Андрея Васильевича.
«В начале февраля 1943 года, когда была окончательно ликвидирована немецкая группировка под Сталинградом, Сталин вызвал меня, наркома путей сообщения, и задал вопрос:
— Сколько времени вам потребуется для того, чтобы войска Донского фронта перевезти под Курск и Осташков?
57-й армией командовал генерал Толбухин Ф.И., 1-й танковой армией – генерал Катуков, а основная часть сил Донского фронта и некоторые армии Сталинградского фронта были под командованием генерала Рокоссовского. Я уже примерно знал, что общий объём перевозок будет составлять около полутора тысяч воинских эшелонов или более 75 тысяч вагонов. Знал я, что основная железнодорожная линия, по которой придётся вывозить эти войска – Поворино-Сталинград, разрушена буквально до основания. Чтобы начать такую крупную перевозку, надо привести эту железную линию в мало-мальски рабочее состояние. Так я и сказал Сталину:
— Для осуществления этой перевозки потребуется 2-3 месяца.
Сталин был поражён таким сроком, даже сказал такое: — Вы не хотите разбить Гитлера! Нам нужно перевезти войска как можно скорее, чтобы до весенней распутицы разгромить немцев под Курском и нанести сокрушительный удар на Западном фронте. Для этого надо, чтобы все перевозки войск из-под Сталинграда были осуществлены за максимум три недели.
Я тут же заявил Сталину:
— Что хотите, делайте с нами, нов такой срок такая перевозка не может быть осуществлена, во-первых, потому, что сама линия Поворино-Сталинград не пропустит такого количества поездов. Кроме того, с такой быстротой войска не смогут сосредоточиться к пунктам погрузки, и в-третьих, пункты назначения не могут принять такого большого количества поездов. Разрешите мне, товарищ Сталин, в течение суток, рассмотреть вместе с органами военных сообщений и представителями Генштаба детали плана этих перевозок и доложить вам окончательно свои соображения.
Сталин с этим согласился, и разговор был прерван. Но на следующий день утром позвонил мне Берия и заявил:
— Приходите ко мне на совещание по перевозке войск под Курск, так как я назначен уполномоченным ГКО по осуществлению перевозки войск генерала Рокоссовского.
Через короткое время позвонил Маленков и сообщил:
— Я назначен уполномоченным ГКО по перевозке войск в Осташков для ликвидации Демянской группировки и назначаю вечером у себя совещание по этому вопросу с представителями НК ПС, ЦУП ВОСО и Генштаба. Прошу вас прибыть. Я доложил: — Уже вызван к Берии, поэтому пришлю к вам на совещание начальника отдела воинских перевозок центрального управления движения НКПС.
Вечером я приехал в Наркомат внутренних дел к Берии. Открывая совещание, Берия сказал:
Вчера, после разговоров с Хрулёвым, Сталин принял решение осуществить все перевозки из-под Сталинграда под Курск и в Осташков в двухнедельный срок.
Я всё же заявил Берии:
— Нам придётся в Елец вводить 75 поездов, гружённых, и из-под Ельца выводить 75 поездов порожных вагонов. На это Берия в раздражённой форме начал кричать:
— 100 пар будете перевозить, раз это потребуется!
Начальник ЦУ движения НКПС И.В. Ковалёв старался убедить Берию, что перевозку осуществить в такой срок совершенно невозможно, и что мы, таким способом, с намерениями осуществить такой объём перевозок, не только не перевезём войск, но и можем забить все ходы на Елец, и лишить его нормальной технической возможности пропустить даже 24-30 пар поездов.
Последовали угрозы и хвастовство:
— Мы это сделаем вопреки нежеланию НКПС осуществить такую перевозку!
Не договорившись ни до чего серьёзного, мы вернулись в НКПС а следом за нами прибыл заместитель Берии Кобулов с большой группой работников НКВД и сам лично занялся разработкой плана перевозок. Я, как нарком, по существу от осуществления этих перевозок был отстранён.
Постоянные угрозы, ругань, непосредственное вмешательство в технические функции НКПС – всё было допущено этими «деятелями».
* * *
Ещё в первой половине февраля 1943 года под Москвой сосредоточились два кавалерийских корпуса (которые Берия приказал из-под Москвы не двигать).
Об этом я доложил Генштабу генералу Антонову, и порекомендовал доложить Сталину. Но он с Берией не хотел спорить. Тогда на одном из совещаний я рассказал об этом Сталину, но он или не обратил на это внимание, или тоже не хотел «мешать Берии».
В своих воспоминаниях Андрей Васильевич пишет:
«Я неоднократно ставил перед Сталиным вопрос об освобождении меня от должности наркома путей сообщения, так как объём работы с каждым месяцем всё увеличивался».
Сталин, видимо, не хотел с Хрулёвым расставаться недружелюбно и в конце февраля поздней ночью позвонил и задал вопрос: — От какой должности вы хотите окончательно освободиться и где вы хотите дальше работать?
Хрулёв ответил:
— Хочу освободиться от работы в НКПС и продолжать работу в армии.
Через час или полтора Хрулёв получил Постановление ЦК и Совнаркома за подписью Сталина и Андреева следующего содержания:
«Ввиду большой перегруженности т. Хрулёва работой по делам тыла Красной Армии и ввиду того, что после занятия нашими войсками новых железнодорожных линий работа в НКПС осложнилась и делает невозможным для Наркома НКПС совместить руководство этими двумя большими областями работы, ЦК ВКП(б) и СНК СССР постановляют: освободить товарища Хрулёва, согласно его просьбе, от работы в НКПС, обязав его сосредоточить всё своё внимание на работе по тылу Красной Армии.
И всё же когда в начале марта произошёл полный провал с перевозками войск из-под Сталинграда, Хрулёву было приказано вместе с Маленковым выехать в штаб Центрального фронта к Рокоссовскому для организации сосредоточения войск под Курском.
Разведка доносила Сталину, что сосредоточение немецких войск под Курском идёт полным ходом. Поэтому и послал Верховный Хрулёва разгребать заторы на железной дороге.
В горячке распутывания сложностей на железных дорогах Хрулёв продолжал руководить всей службой тыла Красной Армии. У «силовиков – энкаведешников» переброска войска не получилась.
Сосредоточение главной группировки, хотя и с задержкой, осуществлял Хрулёв. Каких это потребовало нервов и перенапряжения, предположить не трудно. Как только немецкие части отошли и закрепились на своих исходных позициях, Хрулёв считал целесообразным, прежде чем продолжить наступление, дать передышку войскам и пополнить израсходованные запасы.
Но Сталин требовал продолжать наступление. Жуков и Василевский были того же мнения, что и Хрулёв. Им стоило многих трудов доказать Сталину необходимость излишне не спешить с началом действий. С этими соображениями Верховный всё же согласился.
Позже Хрулёв вспоминал:
— Ходила версия о том, что Сталин никого не слушал и единолично принимал все решения. Бывало и так. Но если Сталину докладывали вопросы со знанием дела – он слушал. И я знаю случаи, когда он отказывался от своих собственных мнений и решений. Так было с началом срока завершающей стадии сражения на Курской дуге.
5 августа войска Степного фронта ворвались в Белгород и продолжали продвигаться в направлении Харькова. В тот же день на северном фасе дуги был освобождён Орёл.
В Курской битве были обеспечены 132 стрелковых дивизии, 19 танковых и механизированных корпусов, более 2000 самолётов – боеприпасами, горючим, запчастями, а 2381600 солдат, офицеров и генералов – продовольствием, из них 608833 раненых ещё и медицинским обслуживанием. Сталин при его скупости на похвалу, всё же в ноябре 1943 года говорил: «Большую роль в деле помощи фронту сыграл транспорт, прежде всего железнодорожный транспорт, а также речной, морской и автомобильный транспорт. Нужно сказать, что в деле своевременного подвоза на фронт вооружения, огнеприпасов, продовольствия, обмундирования и т.д. роль транспорта является решающей».
И ещё Сталин дал общую высокую оценку результатов битвы на Курской Дуге: «Если битва под Сталинградом предвещала закат немецко-фашистской армии, то битва под Курском поставила её перед катастрофой».
Крах «Восточного вала»
25 августа 1943 года Хрулёв присутствовал на очередном заседании ГКО. Слушая Сталина, Хрулёв поражался широтой проблем, которыми приходилось заниматься Верховному. На этом заседании Сталин дал указание о более энергичных работах по введению в действие «Второго Баку». Сталин приложил много сил и активизировал многих для разработки разведанных в Сибири, за Уралом нефтяных районов.
Сталин разбирался с тем, как идёт скоростное сооружение новых домен, электростанций, шахт. К этому времени эвакуированные заводы на новых местах уже работали в полную силу. В 1943 году было произведено 35 тысяч самолётов новых видов, более 24 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), которые к тому же были улучшены конструктивно. Сталин со знанием дела говорил о более совершенной организации производства, о творческой работе конструкторов по улучшению качества боевой техники, вникал в технологии производства, говорил о поточных методах на военных заводах.
Он был в курсе всех дел. Отпустив гражданских, Сталин перешёл к военным вопросам. Он заслушал короткий доклад Жукова об обстановке на Воронежском и Степном фронтах, и попросил Антонова сделать короткий доклад о положении на других участках. Заслушав Антонова, Сталин сказал: — Сейчас самое главное – организовать выход к Днепру и на реку Молочную, потому что легче с ходу будет во время преследования захватить плацдарм.
И ещё одно обстоятельство, почему надо действовать побыстрее: гитлеровцы, отступая, всё разрушают в Донбассе – шахты, заводы, города и уничтожают население, гибнут женщины и дети. Надо помешать этому, надо побыстрее отбросить немцев за Днепр.
Хрулёв понимал, как устали войска в Курской битве и как им тяжело выполнить приказ о стремительном выходе к Днепру и форсировании его с ходу.
Размышляя об этом, Хрулёв ещё раз поразился прозорливости Сталина: находясь в Кремле, вдали от боевых действий, Верховный всё же улавливал утомлённый пульс армии и – находил возможность поддерживать боевой дух и подогревать инициативность воинов. Сталин издал приказ: те, кто первыми выйдут на Днепр, захватят плацдарм и удержат его на противоположном берегу, будут удостоены звания Героя Советского Союза.
И вот результат: стремительный выход к реке, захват 23 плацдармов на противоположном берегу с ходу, на фронте протяжённостью более 750 километров!
Обещание своё Верховный Главнокомандующий сдержал: за успешное форсирование Днепра более двух с половиной тысяч солдат, сержантов, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза.
Сталин недавно возвратился с Тегеранской конференции, он коснулся вопросов международного порядка и обещания союзников открыть второй фронт к 1 мая 1944 года, проинформировал о договорённости, достигнутой с руководителями союзных государств по вопросам послевоенного сотрудничества и о том, что обещал объявить войну Японии после разгрома Германии.
Сталин подвёл также итоги боевых действий 43 года, сказав, что именно в этом году наши войска освободили больше половины территории, захваченной гитлеровцами в предыдущие два года войны.
В ходе этих боёв были полностью уничтожены 56 дивизий противника и 162 дивизии понесли потери. Было уничтожено 7 тысяч танков противника, более 14 тысяч самолётов и 50 тысяч орудий и миномётов.
Как показал опыт на Западе – ни одно государство не выдержало даже более слабых ударов, все они рухнули под натиском гитлеровских полчищ. А мы вот выдержали.
В этих битвах на правом берегу Днепра работники тыла обеспечивали всем необходимым 112 дивизий, 8 корпусов танковых и механизированных, 17 механизированных и танковых бригад, 3 УРа, всего 1 506400 солдат и офицеров, из них 581191 раненых.
Освобождение Правобережной Украины осуществлялось в Днепровско-Карпатской наступательной операции. С 24 декабря 1943 года по 17 апреля 1944 года она проводилась войсками 1,2,3 и 4-го Украинских фронтов. На завершающем этапе в ней приняли участие войска 2-го Белорусского фронта.
Всего в этих операциях тыловики обеспечивали:188стрелковых дивизий, 19 различных корпусов, 13 бригад, 5 УРов, в которых было 2 406100 солдат и офицеров. Напряжённость боёв показывает количество убитых 270000 и 839330 раненых.
Год победных операций
Советский солдат проявил в эту кампанию не только свои чисто военные боевые качества, но и неимоверную степень терпения, выносливости и настойчивости в достижении победы.
Фактически на четвёртый год войны германской армии приходилось её начинать вновь с почти того же исходного рубежа, что и в июне 1941 года.
Тем не менее, гитлеровское командование сделали всё, что было возможно в его силах, чтобы выставить на советско-германский фронт 179 дивизий и 5 бригад немецких войск, 15 дивизий и 9 бригад финских войск, 11 дивизий и 3 бригады венгров, 22 дивизии и 6 бригад румын, и даже 1 словацкую дивизию, т.е. в общей сложности 228 дивизий и 23 бригады, или почти 3,2 млн. человек, из которых 2,5 млн. человек было немцев.
Единственно, в чём Германия не испытывала особых трудностей, — это в вооружении. Она усиливала темпы производства в 1944 году, по крайней мере, до конца лета-начала осени. Если в 1943 году ежемесячно выпускалось 1000-1100 единиц танков и тяжёлых орудий, то в середине 1944 года выпускалось ежемесячно 800 танков, 200 САУ и 600 тяжёлых штурмовых орудий, т.е. всего 1600 единиц.
При подготовке Выборгско-Петрозаводской операции на этом северном участке фронта генерал Хрулёв следил за дипломатическим зондажом правительства, которое предлагало финскому руководству заключение сепаратного перемирия на условиях восстановления госграницы обеих стран по договору 12 марта 1940 года. Однако упорное нежелание финского руководства пойти на мирные переговоры заставило провести в жизнь военный вариант вывода Финляндии из войны. Успех советских войск на выборгском направлении облегчил наступление на Свири и петрозаводском направлении, оказавшихся глубоко в тылу.
Всё это побудило финское политическое руководство пойти на сепаратное соглашение о перемирии с СССР.
Переговоры велись с 25 августа по 5 сентября и завершились выходом Финляндии из войны 19 сентября 1944 года. В результате к осени 1944 года Северный фронт, действовавший с июня 1941 года, прекратил существование, и советско-германский фронт с этих пор простирался лишь от Прибалтики до Карпат, т.е. его протяжённость сократилась почти втрое.
* * *
Появились у начальника тыла Красной Армии заботы не снабженческие, а по-настоящему опасные и боевые, тыловые учреждения стали очень часто подвергаться нападению различных банд – бендеровских, «аковцев» (бывших военнослужащих Армии Крайовой) на Украине или «лесных братьев» в Прибалтике. Это были не единичные грабежи, а хорошо организованные гитлеровцами диверсионно-террористическое движение в нашем тылу.
Главными объектами нападения стали армейские тылы, уничтожение всех видов складов, диверсии на железных дорогах, истребление представителей восстановленной советской власти, её активистов, запугивание населения, а в целом подорвать снабжение наших войск, чтобы ослабить их наступательные возможности. Насколько они затрудняли боевые действия и снабжение советских войск – видно из таких вот докладных:
«13 октября 1944 года аковцы организовали восстание в 31 полку 7-й польской стрелковой дивизии. В результате бунта ушли в леса 1661 солдат и 81 офицер. Бунтовщики убили русских офицеров. Они призывают другие польские части переходить на их сторону, а мирному населению приказывают уклоняться от мобилизации и вступать в А.К. Деятельность А.К. по разложению Войска Польского облегчается засорённостью подразделений и штабов Польского войска агентурой А.К.»
Сталин в этом случае не ограничивался только временными мерами, он считал, что необходимо организовать специальную службу по охране тылов и борьбе с бандитами, о чём дал указание Берии. Берия принял к руководству и доложил:
«Для ликвидации оуновских банд органами и войсками НКВД проводятся чекистские и войсковые мероприятия. Руководят борьбой с бандитизмом на территории Ровенской и Волынской областей заместитель НКВД УССР генерал-лейтенант Строкач, в западных областях Белоруссии — заместитель НКВД товарищ Кобулов. Усилена охрана железнодорожных мостов и полотна.
Проводимыми в настоящее время мерами обеспечивается выполнение задачи по ликвидации оуновского бандитизма и в первую очередь задача охраны от диверсионно-террористической деятельности фронтовых коммуникаций и военных объектов.
23 декабря 1944 года № 533 Л. Берия»
Как говорится, меры приняты, но нападения банд как были до появления этой бумаги Берии, так продолжались и после её появления.
* * *
В середине лета 1944 года настало время проведения самой блестящей Белорусской стратегической наступательной операции с гордым названием «Багратион», с 23 июня по 29 августа 1944 года.
Всего в операции принимали участие 168 стрелковых дивизий, 12 корпусов, 20 бригад, 7 УРов, в которых было 2 331700 солдат и офицеров, из них госпитализировано 587308 человек.
В день завершения операции на Севере (Петсамо-Киркинесская операция с 7.09 по 29.10.1944 г.) началась новая операция в Европе – Будапештская, с 29 октября по 13 февраля 1945 года. В составе 2-го Украинского фронта действовали 1-я и 4-я румынские армии.
Продолжительность операции – 108 суток. Ширина фронта боевых действий – 420 км. Среднесуточные темпы наступления – 2,5-4 км. Длительность и медленный темп продвижения свидетельствуют об очень тяжёлых боях: из 715 тысяч участников почти половина выбыли из строя – 80026 убитыми и 240056 раненых. Но и противник понёс здесь большие потери – была окружена 180-тысячная группировка врага и почти полностью уничтожена.
* * *
Необходимо было срочно восстановить нефтяную промышленность Румынии, как добывающей, так и перерабатывающей. Состояние нефтяной промышленности Румынии оказалось значительно лучшим, чем мы предполагали. По сведениям от союзников мы знали, что они делают частые налёты на плоештинские нефтяные промыслы и сбрасывали большое количество бомб. Но на самом деле оказалось, что румынская промышленность почти в течение 4-х лет не подвергалась значительному разрушению, только за несколько дней до наступления наших войск эта территория подверглась очень сильной бомбёжке, и усилились диверсионные акты, в результате которых выводились из строя насосные станции, трубопроводы и другие объекты.
Не трудно догадаться, почему в течение 4 лет нефтяная промышленность Румынии почти не разрушалась. Значительная часть акций нефтяной промышленности (почти 80%) хранились в сейфах английских, американских и других компаний.
Это объясняется и тем, что союзники намеревались открыть второй фронт на Балканах и стремились сохранить нефтяную промышленность для будущих своих нужд. Не трудно объяснить, почему союзники набросились на Плоешти в то время, когда советские войска прочно вступили на территорию Румынии. Они это делали для того, чтобы мы не могли воспользоваться нефтяными ресурсами Румынии.
Безвозмездная помощь европейским странам в годы войны
Польша
Сразу же после освобождения столицы Польши Варшавы её жителям в качестве безвозмездного дара от советского народа было передано 60 тысяч тонн хлеба, большое количество жиров, сахара, овощей, сухих фруктов.
Значительная помощь продовольствием была оказана и другим городам Польши. Советское командование передало властям Вроцлава 5,5 тысяч тонн муки.
Помимо этого осенью 1944 года советским командованием было передано польскому народу 11,5 тысяч тонн муки, 1540 тонн мыла, 4950 тонн соли, 60 тонн чая, 15 млн. коробок спичек и т.д., а также большое количество сахара, жиров, круп и других продуктов питания.
Производственная помощь Советского Союза освобождённой Польше дала возможность её народу избежать голода и приступить к восстановлению разрушенной экономики страны.
По согласованию с временным правительством Польской республики органы тыла Советской Армии оказали помощь в восстановлении и налаживании работы угольной, швейной, кожевенной, обувной и других отраслей промышленности.
Советский Союз не только оказал техническую помощь, но и предоставил народной Польше сырьё, полуфабрикаты и некоторые изделия, а также оказал помощь в деле организации руководства промышленностью.
На вооружение и оснащение Войска Польского на 1 мая 1945 года было отпущено 700 тысяч винтовок, карабинов и автоматов, более 1800 автомашин, свыше 3,5 тысяч орудий, 1 тысяча танков, 1200 самолётов и много других видов вооружений и техники. Это кроме укомплектования в 1941-1942 гг. армии Андерса.
Австрия
В апреле 1945 года советское командование передало городскому самоуправлению Вены 7000 тонн хлебного зерна, 500 тонн кукурузы, 1000 тонн фасоли, 1000 тонн гороха, 200 тонн сахара, 300 тонн мяса, 200 тонн масла.
Австрийский народ принял этот дар Советского государства с огромным удовлетворением. В резолюции собрания рабочих и служащих одной из венских фабрик, адресованной Советскому правительству, говорилось: «Рабочие и служащие фабрики с неописуемой радостью восприняли весть о великодушном акте Советского правительства. Красная Армия не только дала нам свободу, она даёт нам и насущный хлеб. Планы гитлеровского фашизма заморить голодом австрийский народ рушатся. Мы благодарим Красную Армию и Советское правительство и клянёмся сделать всё для того, чтобы до конца искоренить нацизм в Австрии».
Югославия
Большая помощь Советским Союзом была оказана народам Югославии. Ещё до вступления наших войск на территорию Югославии только за период февраль-октябрь 1944года советскими самолётами было сброшено в партизанские районы 1000 тонн продовольствия, обмундирования, вооружения, медикаментов. После выхода наших войск на югославскую территорию в соответствии с решением Советского правительства для помощи остро нуждающемуся населению Белграда и других городов к началу декабря 1944 года было привезено и передано 53 тысячи тонн зерна, в том числе 17 тысяч тонн в Белград. Первые 800 тонн зерна были доставлены в Белград 19 октября — в этот день войска 4-го механизированного корпуса вступили в город. На 25 декабря 1944 года Югославии было передано 53587 тонн зерна и муки – на 3587 тонн больше, чем было определено постановлением ГКО. К этому же сроку были доставлены и переданы Народно-освободительной армии Югославии 350 самолётов, более 4 тысяч орудий и миномётов, 65 танков Т-34, 500 крупнокалиберных пулемётов, около 53 тысяч винтовок и карабинов, около 67 тысяч автоматов, ручных и станковых пулемётов и много других материальных средств.
Чехословакия
После освобождения советскими войсками Чехословакии Советское правительство передало Чехословацкой республике 9000 тонн зерна для снабжения Праги, 4400 тонн хлеба и 375 тонн сахара для населения Брно, 3600 тонн хлеба, 325 тонн сахара и 125 тонн соли для населения Моравска-Острава. В результате оказанной помощи нормы выдачи продовольствия населению этих городов были повышены на 30-40%.
* * *
Советский народ оказывал всемерную братскую помощь и народам Венгрии, Румынии, Болгарии, а также Германии, продовольственные запасы которых были разграблены гитлеровцами.
В период боёв в Будапеште наше военное командование выделило 15 тонн хлеба, 10 тонн крупы, 400 кг. мяса и других продуктов для снабжения приюта детей, оставшихся без родителей. Много детей было спасено от голодной смерти советскими солдатами, которые кормили их из полевых кухонь. В конце 1944 года командование наших войск отпустило для населения венгерского города Сегед 100 вагонов пшеницы, 10 тонн сахара, 34 вагона угля, 2 тыс. кг. табака. После освобождения столицы Венгрии нашим командованием было передано населению 800 грузовиков с продовольствием, а также горючее для автомашин.
Весной 1945 года, когда венгерский народ, ограбленный оккупантами, оказался под угрозой голода, Советское правительство передало для городов Венгрии 15 тысяч тонн хлеба, 3 тысячи тонн мяса, 2 тысячи тонн сахара!
Болгарский народ после своего освобождения получил от Советской страны 130 тысяч тонн зерна.
На последнем этапе войны организованное снабжение продуктами питания немецких городов было парализовано. Население фактически было лишено возможности жить и работать. Как справедливо указывала швейцарская газета «ЛюцернерТагблатт» от 12 апреля 1945 года: «Руководители фашистской партии своим безумным решением продолжать до конца уже проигранную войну поставили немецкий народ под угрозу голодной смерти».
Советским командованием сначала были установлены для жителей Берлина временные нормы снабжения, а 11 мая 1945 года согласно постановлению ГКО было принято решение обеспечить Берлин на пять месяцев продуктами питания, и ввести с 15 мая повышенные нормы.
Было запланировано отпустить: зерна для выработки крупы и муки – 105 тысяч тонн, мясопродуктов – 18 тысяч тонн, жиров – 4,5 тысяч тонн, сахара – 6 тысяч тонн, а также большое количество картофеля, соли, кофе и других продуктов.
Советское командование проявляло особую заботу о питании детей. Постановлением Военного Совета 1-го Белорусского фронта от 31 мая 1945 года было предусмотрено:
«1. Организовать снабжение молоком детей до 8-летнего возраста: а) использования молочных ресурсов пригородов Берлина в количестве ежедневно 70 тысяч литров молока; б) передачи из трофейного скота 5 тысяч голов дойных молочных коров для размещения на молочных пунктах в районах Берлина».
Жители Берлина были поражены таким гуманным отношениям армии-победительницы и выразили ей искреннюю благодарность.
Продовольственная помощь Советского Союза населению немецких городов сыграла важную роль в создании первого социалистического государства – ГДР.
Это настоящая поэма о благородстве и доброте русского воина. Это в какой-то степени ответ на загадку о русской душе, которую много веков не могут разгадать ни друзья, ни враги.
Мы восторгаемся античной культурой, образованностью, высоким искусством древних римлян. А они, завоевав Карфаген, сожгли и разрушили его дотла и даже перепахали землю, где был цветущий город, а жителей всех до единого истребили или превратили в рабов.
О приведённых выше примерах благородства русского воинства надо слагать поэмы более величественные и жизнеспособные, чем «Илиада» и «Одиссея»
Обеспечение Висло-Одерской операции
Войска готовились перейти в наступление во второй половине января 1945 года. Однако срок подготовки операции был вдруг сокращён на 8 суток, и начало наступления перенесено на 12 января 1945 года.
Это очень осложняло работу тыла, вся подготовка была рассчитана до второй половины января.
Обеспечение Берлинской операции
При подготовке Берлинской операции работники тыла обеспечили всем необходимым 161 дивизию, 20 корпусов, 158 бригад, 2 Ура, и ещё 1-ю и 2-ю армии Войска Польского. Общая численность войск – более 2 миллионов солдат и офицеров.
Берлинское сражение было последним, гитлеровцы стояли насмерть, отступать было некуда. И это обстоятельство объясняет яростное сопротивление фашистов, какого не было в предыдущих боях.
* * *
1 мая в Чехословакии начались стычки жителей с оккупантами, а 5 мая в Праге вспыхнуло восстание. 11 мая советские войска встретились с передовыми частями американской армии.
В Пражской операции участвовали 151 дивизия, 14 корпусов, 18 бригад, 2 Ура численностью 1 770700 человек и ещё 2-я армия Войска Польского – 6 дивизий, 1-я и 4-я румынские армии – 15 дивизий, 1-й чехословацкий армейский корпус – 5 дивизий.
* * *
113 раз встречался Сталин с начальником тыла генералом армии А.В. Хрулёвым! Это только в кабинете, но бывал Андрей Васильевич и на даче Сталина, а по телефону разговаривал очень часто.
На этих встречах Хрулёв не унижался до лести, когда случался спор по какому-нибудь вопросу, всегда защищал интересы дела. Возражать Верховному было всегда опасно.
Но Хрулёв настаивал на своём, потому что знал все детали обсуждаемого вопроса и подкреплял их точными цифрами. Сталин гневался и однажды при таком споре сказал, обращаясь к присутствующим: — Что за человек, ему хоть кол на голове теши, он гнёт своё!
Но за это и уважал.
* * *
В тот же день, когда наши части овладели городом Мукденом, представители фронта сразу же направились в японский лагерь для военнопленных англичан и американцев.
Стихийно возник митинг. На крыльцо взбегает американец Александр Байби. Он горячо говорит по-английски:
— Нам русские войска принесли свободу! Три с половиной года мы томились в японской тюрьме. Тысячи нас умирали от голода и пыток. За всё время только четырём удалось бежать из этого лагеря, но и они были схвачены японцами и заморёны до смерти. Никто из нас не забудет этого дня. На всю жизнь мы ваши самые верные друзья, и эту дружбу с Россией мы завещаем своим детям.
В лагере были вице-маршал авиации Великобритании Малтби, генералы Джонс и Шарп Ченович – командиры американских корпусов, генералы Втофер, Пиэрс, Франк, Орейк, Стивенс, Лоф Бийби – командиры дивизий.
2 сентября на линкоре «Миссури», бросившем якорь в Токийской бухте, состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии. Этот исторический день означал, что Вторая мировая война, продолжавшаяся шесть лет, закончилась.
После войны
Подводили итоги войны, подсчитывали потери Министерство обороны, научные учреждения, различные управления и ведомства. Многие обращались за сведениями в штаб тыла, где в годы войны вели учёт людских потерь и расход материальных средств по всем видам обеспечения.
Только в 1993 году было опубликовано Военным издательством систематизированное статистическое исследование «Гриф секретности снят», основанное на ранее засекреченных материалах Генштаба и всех архивных учреждений СССР и многих зарубежных. Вот, например, анализ людских ресурсов нашей страны в годы войны.
Согласно штатам и списочному составу Советских Вооружённых Сил (СВС) на 22 июня 1941 года в РККА и ВМФ состояло 4 826907 человек. За 4 года войны было мобилизовано 29 574900 человек. Вместе с кадровым составом армии и флота были мобилизованы людские ресурсы в количестве 34 476700 человек.
Если учесть, что по переписи 1939 года в народном хозяйстве СССР было занято 33 млн. рабочих и служащих и 29 млн. колхозников, (всего 62 млн.), то станет ясно, что война практически заставила более чем на 60% исключить из экономики страны самое трудоспособное население.
Если принять во внимание, что территория с 42% населения СССР оказалась оккупированной противником уже спустя год после начала войны, то станет ясным, что на долю хозяйства в тылу страны осталось лишь 15%трудоспособного населения, причём в возрастах меньшей производительной активности.
Из 35 млн. человек, одетых в шинели (34 476700), треть (33%) находилась всё время непосредственно в войсках, т.е. поддерживала войска, в состоянии их полного списочного состава (10-15,5 млн., причём половина этого состава находилась в действующей армии, постоянно сохранявшейся на уровне 6-6,5 млн. человек.
В результате войны из 34,5 млн. выбыло из армии 21,7 млн. (63%) их них более половины, 11,3 млн. пришлось на убитых и попавших в плен, т.е. на полностью безвозвратные потери. Что же касается тех, кто остался в армии и прошёл всю войну, то из них свыше 2,5 млн. стали инвалидами, и лишь около 5 млн. человек вернулись после демобилизации к активному труду и участию в народном хозяйстве (4,83 млн. человек).
Эти цифры движения наиболее активного и трудоспособного населения страны в результате войны, говорящие об исключении этого контингента из сферы активного труда на 4-5 лет и громадных потерях в них, лучше других аргументов объясняют те трудности, которые возникли при восстановлении хозяйства СССР после войны.
Безвозвратные потери армии и флота (по видам потерь)
- Убито и умерло от ран (огневые потери) – 6 329 600 чел.
- Умерло от небоевых потерь – 555 500 чел.
- Пропало без вести – 4 559 000 чел.
(из них вернулось – минус) – 2 775 700 чел.
- Не вернулось из плена – 1 783 300 чел.
Итого: 8 668 400 чел
Общие санитарные потери советских войск за войну – 22 326 905 чел.
Из них:
Раненых и контуженных – 14 700 000 чел.
Заболевших – 7 640 000 чел.
Следует учесть, что из числа раненых в строй было возвращено 72% (71,7); из числа больных 87% (86,7%). Практически из числа санитарных потерь только 20% в целом пришлось на фактически безвозвратные, поскольку речь шла о 20% инвалидов. Однако это не было демографическими потерями, ибо люди остались жить и не были исключены из воспроизводства. Общее число фактически безвозвратных для войск санитарных потерь в абсолютных цифрах составило 3,8 млн. инвалидов и 1 372000 умерших от ран и операций после увольнения.
Таким образом, общее число убитых и умерших от ран в армии и на флоте за период войны достигло 10 040 400 человек.
Такие печальные итоги, в конечном счёте, оправдываются тем, что наши соотечественники отдали жизни, защищая Родину.
В общей сложности потери советских войск при освобождении территории зарубежных стран от гитлеровских оккупационных войск составили:
- Убитыми и умершими от ран – 956 769 чел.
- Пропавшими без вести – 94 584 чел.
- Погибшими от небоевых действий – 48 112 чел.
Итого безвозвратных потерь – 1 099 465 чел.
- Ранено и контужено – 2 270 405 чел.
- Заболело и обморожено – 519 816 чел.
Итого санитарных потерь – 2 790 221 чел.
Общие потери составили почти 4 млн. человек, из 7 млн. человек, участвующих в операциях за рубежом.
* * *
Сведения немецких штабов о потерях были близкими к объективным примерно до января 1945 года. Однако на последнем этапе войны, когда войска фашистской Германии терпели крупные поражения, штабной механизм вермахта утратил чёткость в работе.
Безвозвратные потери в Германских вооружённых силах и в войсках союзников и сателлитов Германии на советско-германском фронте в 1941-1945 годах.
Вооружённые силы Германии (Вермахт и войска «СС») – 6 233 700
В том числе:
Убито, умерло от ран и болезней – 2 869 300
Пропало без вести – 972 800
Австрийцы, судетские немцы, уроженцы Эльзаса и
Лотарингии, люксембуржцы, служившие в вермахте – 462 000
В том числе:
Убито, умерло от ран и болезней – 280 000
Пропало без вести, попало в плен – 182 000
Иностранные формирования вермахта (испанская,
словацкие дивизии, французские, бельгийские,
фламандские и другие формирования) – 15 000
Добровольческие формирования вермахта и войска «СС»
(власовцы, прибалтийские, мусульманские и др.) – 215 000
Итого: 6 923 700
Вооружённые силы союзников Германии
Венгрия — 863 700
В том числе: убито, умерло от ран, пропало без вести, – 350 000
Попало в плен – 513 700
Италия — 93 900
В том числе: убито, умерло от ран, пропало без вести, – 45 000
Попало в плен – 48900
Румыния — 681 800
В том числе: убито, умерло от ран, пропало без вести, – 480 000
Попало в плен – 201 800
Финляндия — 86 400
В том числе убито, умерло от ран, пропало без вести, – 84 000
Попало в плен – 2 400
Итого: 1 725 800
Всего безвозвратные потери в армиях стран фашистского блока 8 649 500
Санитарные потери за всю войну — 7 512 000 человек
Общие потери Германии и сателлитов на советско-германском фронте – 16 161 500 человек
Таким образом, соотношение по безвозвратным потерям составило 1:1,3 – 8,6 млн. человек у них, 11,4 млн. человек – у нас
|
Страна |
Убито |
Ранено |
Всего потерь |
|
В Польше |
600 212 |
1 416 032 |
2 016 244 |
|
В Чехословакии |
139 918 |
411 514 |
551 432 |
|
В Венгрии |
140 004 |
344 296 |
484 300 |
|
В Германии |
101 961 |
262 861 |
364 822 |
|
В Румынии |
68 993 |
217 349 |
286 342 |
|
В Австрии |
26 006 |
68 179 |
94 185 |
|
В Югославии |
7 995 |
21 589 |
29 584 |
|
В Норвегии |
3 436 |
14 726 |
18 162 |
|
В Болгарии |
977 |
11 774 |
12 751 |
|
Всего |
1 089 502 |
2 768 320 |
3 857 822 (почти 4 млн.) |
Превышение указанных потерь советских войск связано в основном с первым периодом Великой Отечественной войны, в течение которого сказывались фактор внезапности нападения Германии на СССР и просчёты советского военно-политического руководства, допущенные накануне и в начале войны.
Материальные потери
Из доклада Чрезвычайной Государственной комиссии о материальном ущербе, причинённом немецкими захватчиками на оккупированной ими территории (привожу только несколько абзацев):
«Немецко-фашистские захватчики полностью или частично разрушили свыше 6 миллионов зданий и лишили крова около 25 миллионов человек. Среди разрушенных и наиболее пострадавших городов – крупные промышленные и культурные центры: Сталинград, Севастополь, Ленинград, Киев, Минск, Одесса, Смоленск, Новгород, Псков, Орёл, Харьков, Воронеж, Ростов-на-Дону и многие другие.
Немецко-фашистские захватчики разрушили 31 850 промышленных предприятий, на которых было занято около 4 миллионов рабочих; уничтожили или вывезли 239 тысяч электромоторов, 175 тысяч металлорежущих станков.
Разрушили 65 тысяч километров железнодорожной колеи, 4100 железнодорожных станций, 36 тысяч почтово-телеграфных учреждений, телефонных станций и других предприятий связи.
Уничтожили или разгромили 40 тысяч больниц и других лечебных учреждений, 84 тысячи школ, техникумов, высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, 43 тысячи библиотек общественного пользования.
Разорили и разграбили 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов и 2890 машино-тракторных станций; зарезали, отобрали или угнали в Германию 7 миллионов лошадей, 17 миллионов голов крупного рогатого скота, 20 миллионов голов свиней, 27 миллионов овец и коз».
Предстояло всё это восстановить. Не было денег. Не было строительных материалов. Погибли несколько миллионов самих строителей – самых сильных и молодых. А 5 115 709 человек, измученных, травмированных духовно и физически, возвращались из немецкого плена на родину. Им надо помочь жильём, питанием, лечением.
* * *
Приведу некоторые данные о результате нашей трофейной службы в период Великой Отечественной войны (в эти цифры не входит то, что реализовалось войсками в ходе боёв).
Трофейных танков и САУ, прошедших через трофейную службу, было около 24615 штук — достаточно для укомплектования 120 немецких танковых дивизий, 72 204 трофейных орудий – достаточно для укомплектования почти 300 пехотных, 100 артиллерийских, 20 зенитных немецких дивизий и 35 тяжёлых артиллерийских частей. Собранное трофейными органами трофейное стрелковое вооружение соответствует по табельной потребности: по винтовкам – 355 германских дивизий, по пулемётам – 403, по ПТР – 237, по автоматам – 95. 122 199 556 трофейных снарядов, собранных и эвакуированных трофейной службой, превышает в три раза всё наличие снарядов германской армии к концу Первой мировой войны. Что касается бытовых трофеев, то во все времена, завоёванные города считались добычей победителей, они подвергались разграблению. Да что говорить о далёких временах, вот что сказал перед наступлением на Сеул американский генерал Макартур: «Перед вами богатый город, в нём много вина и сладостей, возьмите Сеул, и все девушки будут ваши, имущество жителей принадлежит победителям, и вы сможете послать домой посылки».
Всему миру известно о нашем гуманном отношении к населению зарубежных стран, хотя они и не всегда заслуживали этого из-за участия в боях в составе гитлеровской армии.
А. Микоян заявил по этому поводу от имени Советского правительства: «Наша мораль и традиции советских народов предписывают относиться гуманно к мирным жителям побеждённого народа. Великий русский полководец Суворов говорил, что пока враг воюет – его надо бить безжалостно, но к поверженному врагу, а особенно, к мирному населению, нужно относиться великодушно… Конечно, мы разгромили в тяжёлых боях гитлеровскую армию, заняли Берлин, но наша мораль, наша традиция не позволяют нам пройти мимо лишений и страданий мирного населения Германии» («Правда», 19.05.1945).
Ленд-Лиз
К концу войны США осуществляли поставки по ленд-лизу в 42 страны. Общий объём этих поставок составил 46 млрд. долларов, из которых на долю Британской империи пришлось свыше 30 млрд. долларов (более трёх пятых всей помощи), а на долю Советского Союза – около 10 млрд. долларов.
Американская пропаганда немало потрудилась, чтобы доказать, будто ленд-лиз сыграл главную роль в обеспечении Советскому Союзу победы в войне.
Пока шла война, а советские и американские войска действовали как союзники, в США нередко высказывались трезвые мысли о роли ленд-лиза
Президент Рузвельт в мае 1944 года говорил в конгрессе, что «Советский Союз пользуется вооружением главным образом со своих собственных заводов»…. «Мы никогда не считали, что поставки по ленд-лизу являлись главным фактором в поражении Германии. Этого добились воины Красной Армии, которые отдавали свою жизнь и кровь в борьбе с общим врагом».
Однако после войны во многих трудах американских авторов США стали изображаться как «арсенал победы».
Утверждается, что США оказали Советскому Союзу такую материально-техническую помощь, которая была «основным фактором спасения России».
Всё это явная ложь, которая убедительно опровергается фактами. За всё время Великой Отечественной войны США поставили в СССР 14450 самолётов и около 7 тысяч танков. А советская промышленность в последние три года войны производила более 30 тысяч танков и САУ, до 40 тысяч самолётов ежегодно. Поставки союзников СССР по автоматам составляли 1,7%, пистолетам – 0,8%, снарядам – 0,6%, минам – 0,1% от уровня их производства в СССР.
Невелика была и доля американского продовольствия, поставленного по ленд-лизу. За всю войну было получено около 70 миллионов пудов зерна, тогда как СССР сам заготовил за это время 4312 миллионов пудов.
Если взять общие поставки промышленных товаров союзников (включая Англию), то они составят лишь 4% советской промышленной продукции.
Поэтому говорить о том, будто ленд-лиз обеспечил СССР победу в войне, значит сознательно извращать факты.
Президент Рузвельт говорил в 1944 году, что «ленд-лиз работает на Америку на русском фронте».
Министр иностранных дел СССР А.А. Громыко, ссылаясь на свои беседы с американскими деятелями в бытность его Советским послом в Вашингтоне, пишет, что «они откровенно говорили, что установилось некое разделение труда». – Советский Союз принял на себя удар всей мощи гитлеровской Германии, за которой стояли производственные ресурсы всей Европы, а США должны в качестве своего вклада поставлять СССР и другим участникам коалиции военные и прочие материалы по ленд-лизу».
После войны США потребовали от СССР 1,3 млрд. долларов, что составляло почти одну пятую стоимости поставок, в то время, как с Англии, получившей, по крайней мере, в 2 раза больше, чем СССР, поставок запросили лишь 472 миллиона долларов, или около 2% стоимости всех поставок ей.
«Американская промышленность во Вторую мировую войну начала развёртываться только на 3-м году войны. А наша промышленность, несмотря на потери в первый год войны, в 1943 году достигла довоенного уровня, а в 1944 году превзошла его».
* * *
Началось сокращение Вооружённых Сил и военного бюджета. Из армии и флота было уволено 33 призывных возраста рядового и сержантского состава, а также определённое количество офицеров. К мирному труду из Вооружённых Сил возвратились 8,5 миллионов человек квалифицированных кадров. Одновременно народное хозяйство получило от армии и флота большое количество автомобилей, тракторов и лошадей. Военные расходы СССР в 1946 году уменьшились по сравнению с 1945 годом на 43%, а их удельный вес в Государственном бюджете снизился до 23,9%; в 1947 году ассигнования на содержание ВС составили 18% от всех расходов Государственного бюджета (вдвое меньше, чем в 1940 году).
В первую очередь работникам тыла надо было позаботиться о победителях. Хорошо об этом сказал начальник тыла 1-го Белорусского фронта генерал Антипенко.
«Четыре года каждый день и час все помыслы были только о войне, только о делах на фронте, только о боевой технике, о людях, о дорогах, о транспорте. А теперь надо было внушить боевым друзьям и соратникам, что от нас, тыловиков, во многом зависит обеспечение спокойного отдыха воинов-победителей, создание для них таких условий, чтобы они почувствовали прелесть мирной жизни. Вдуматься только: четыре года прожить в окопах, блиндажах, спать на сырой земле, не раздеваясь, умываться кое-как. Жить в постоянном физическом и нервном напряжении, испытывать воздействие ружейно-пулемётного, артиллерийского огня и бомбёжек с воздуха, слышать стоны, видеть убитых или искалеченных товарищей, гнать от себя мысль, что и тебя, возможно, ждёт такая же участь, – и вдруг это всё теперь позади; ты можешь спокойно раздеться, разуться, лечь в чистую постель, и помечтать о завтрашнем дне».
Дела семейные
В 1948 году пропала жена Андрея Васильевича – Эсфирь Самсоновна. Жили они тогда на улице Грановского в хорошей квартире соответственно высокого положения генерала армии. Дома были дети: сын Дор – 21 год, дочка Валерия – 17 лет и Юрий – 14 лет. Судили её на закрытом заседании «тройки», дали 10 лет тюремного заключения без права переписки.
В 1947 году (перед арестом Хрулёвой в 1948 году) министром обороны стал Булганин, как известно, «заклятый друг» Хрулёва и ближайший друг Берии и Мехлиса (второго «заклятого друга» Хрулёва). Мехлис в тот год ещё был жив и действовал в своём стиле.
Эта троица причастна к удару по Хрулёву, но один из них несомненно. Это подтверждает и тот факт, что Булганин, став заместителем Председателя Совета министров СССР, освободил генерала армии Хрулёва от занимаемой должности и уволил из кадров Вооружённых Сил. Сделал это после смерти Сталина, знал, что Сталин не позволит ему совершить эту гнусность над Хрулёвым.
Дочь Хрулёва Валерия Андреевна рассказала В.В. Карпову:
— Отец мне подробностей не рассказывал. Пришёл после этой встречи со Сталиным мрачным и коротко поведал: «Сказал мне сам»: «Не ищи её. Забудь. Она никогда не вернётся. И ты, и Молотов даже можете жениться».
Вот так, даже пошутил. Я уточнил: — Жену Молотова Жемчужную арестовали в феврале 1949 года. А вашу маму в январе 1948 года. В те же дни были арестованы Анна Сергеевна Аллилуева (сестра жены Сталина), вдова Павла Сергеевича Аллилуева (брата жены Сталина) Евгения Александровна, их дочь Кира.
Евгения Александровна дружила с мамой. Часто приходила к нам позвонить по «кремлёвке». Андрей Васильевич предупреждал нас – имейте ввиду, все разговоры прослушиваются.
Недавно Владимир Аллилуев, сын Анны Сергеевны, подарил мне свою книгу «Хроника одной семьи: Аллилуевы». После реабилитации его матери, которая была осуждена на 5 лет, а просидела шесть, он добился к её следственному делу. Анну Сергеевну обвиняли как «активную участницу антисоветских сборищ и распространительницу всякого рода измышлений о Сталине, она без стыда и совести чернила Сталина…».
По этому делу была осуждена и Евгения Александровна, которая бывала у вас и звонила по «кремлёвке». Вот Есфирь Самсоновна и угодила, как говорится, за компанию.
«Кремлёвку» или аппарат ВЧ ставили у высокоответственных людей, каким и был генерал армии Хрулёв – начальник тыла Красной Армии и заместитель Министра обороны. Аппарат предназначался только для служебных разговоров. Учитывая «несдержанный», мягко говоря, характер Анны Сергеевны, можно представить себе, как она поносила Сталина.
* * *
Историческая буря сокрушила не только Хрулёва, отомстила она и его недоброжелателю Булганину, который в 1958 году за поддержку антипартийной группы был снят с должности Председателя Совета Министров СССР, лишён звания маршала и уволен на пенсию.
В октябре 1957 года министром обороны назначен маршал Малиновский Р.Я., он восстановил Хрулёва в кадрах Вооружённых Сил. Но здоровье Андрея Васильевича было уже подорвано, и его назначают военным инспектором – советником Группы Генеральных инспекторов М.О. В этой должности он и скончался 9 июня 1962 года.
Из воспоминаний А. Микояна:
«Когда Ленинград был блокирован врагом, и создалось исключительно напряжённое положение с продовольственным обеспечением ленинградцев, Сталин сказал мне: «В твоих руках сходятся сейчас все нити руководства снабжением фронта и тыла. Поэтому тебе легче, чем кому-либо другому, следить за своевременным обеспечением Ленинграда всем необходимым. Что же касается практической стороны этого дела, то ты вполне можешь опереться на известного тебе начальника тыла нашей армии генерала Хрулёва: он уже получил соответствующие указания»…
Вспоминает генерал Антипенко:
«В большинстве случаев Сталин становился на сторону Хрулёва и поддерживал его. Сталин уважал его за непреклонность, за смелость, за неспособность подлаживаться к начальству, к самому Верховному».
Личное горе Сталина[88]
20 июля 1941 года немецкое радио и газета «Фелькишер беобахтер» сообщили о том, что сын Сталина, Яков, находится в плену. Не трудно представить, какой это был удар для Сталина – как отца и как Верховного Главнокомандующего, человека, как говорится, на виду у всего мира. Его несомненно, потряс не только сам факт пленения и угрозы гибели сына, но и беспокойство – как поведёт себя Яков, находясь в руках врага.
… Наша разведка выяснила подробности пленения Якова и даже добыла протоколы его допросов в немецком плену.
Вот сокращённая копия протокола первого допроса сына Сталина, который вели в штабе армии Клюге, майор Голтерс и капитан Ройшле 18.07 1941 года. Поскольку допрашивали двое, то некоторые вопросы поставлены в третьем лице:
— Ваше имя?
— Яков
— А фамилия?
— Джугашвили.
— Вы являетесь родственником Председателя Совета Народных Комиссаров?
— Я его старший сын…
— Ваше звание и в какой части служили?
— Старший лейтенант. Служил в 14-м гаубичном полку 14-й танковой дивизии.
— Как вы попали к нам?
— Я, то есть, собственно, не я, а остатки дивизии, мы были разбиты и окружены.
— Вы добровольно пришли к нам или были захвачены в бою?
— Не добровольно. Я был вынужден…
— Считает ли он, что последние годы в Советском Союзе принесли рабочему и крестьянину преимущества по сравнению с тем, что было раньше?
— Безусловно. Спросите их, как было при царизме, спросите их, они вам ответят. В России построили собственную промышленность. Россия ни от кого не зависит. У России есть всё своё…
— Известно ли вам, что вторая жена вашего отца тоже еврейка-Каганович?
— Нет, нет! Всё это слухи. Чепуха. Первая жена – грузинка, вторая русская – Аллилуева. Остальное слухи, чепуха.
— Что сказал отец напоследок, прощаясь с вами 22 июня?
— Иди — воюй!…
— Не думаете ли вы, что семья из-за этого пострадает? Позор для солдата – попасть в плен?
— Мне стыдно! Мне стыдно перед отцом, что я остался жив…
Дальше судьба сына Сталина сложилась следующим образом. Пленного потребовали направить в Берлин. Его поместили в Преткентский лагерь. Здесь продолжались допросы и попытки разговорить Якова «по душам», но Джугашвили отвечал коротко или молчал…
В конце апреля 1942 года сравнительно сносное существование Якова было прервано неожиданным приказом снова перевести его в Центральную тюрьму гестапо. А в феврале 1943 года, по личному указанию Гимлера, Яков отправился в печально известный концлагерь Заксенхаузен…
14 апреля 1943 года Яков Джугашвили покончил жизнь самоубийством. По другой версии, Яков Джугашвили был убит… В апреле 1943-го труп Якова Джугашвили был кремирован, а урну с прахом увезли в Берлин, в Главное управление имперской безопасности. Куда она делась потом, никто не знает…
Чтобы не было сомнений, что в их руках действительно сын Сталина, немцы сделали серию фотографий: Джугашвили в окружении германских офицеров – то беседует, то пьёт чай. Само собой разумеется, всё это публиковали в газетах и журналах.
Когда это стало известно Сталину, он, соблюдая закон (приказ 227 предусматривал репрессировать семьи пленных, сотрудничающих с немцами), распорядился на общих основаниях выслать жену Якова, Юлию, как жену изменника, но внучку оставил у своей дочери Светланы. Сталин хотел, чтобы о нём не пошла молва, будто он покрывает семью сына, который на стороне немцев ведёт антисоветскую пропаганду. Сталин не отступил от закона и, хотя и был Верховным Главнокомандующим, в таких случаях ставил себя наравне со всеми.
В 1943 году, когда выяснилось, что по отношению к Якову немцы совершили подлейшую провокацию, что он не был изменником, Юля была освобождена из-под стражи и вернулась в семью…
Когда окончательно выяснились все обстоятельства пленения и мужественного поведения Якова в тюрьмах и лагерях, в 1977 году (через 25 лет после смерти Иосифа Виссарионовича) Указом Президиума Верховного Совета СССР Яков Иосифович Джугашвили был награждён орденом Отечественной войны 1 степени (посмертно).
К сожалению, отец, несомненно, страдавший из-за этой затяжной трагедии, не утешился при жизни таким оправданием сына.
Гимн[89]
Сталин в трудных условиях войны задумался о том, что в стране нет гимна. Неофициально это был «Интернационал». Его исполняли на торжественных заседаниях. Но «Интернационал» считался гимном международного пролетариата. В условиях когда Коминтерн был распущен, гимн, символизирующий всемирную коммунистическую борьбу против эксплуататоров, как бы утратил свою значимость. Возникла необходимость заменить его, создать свой государственный гимн, который будет отражать не партийное, а национальное единство, в СССР – многонациональное. В условиях войны такой общенародный символ очень нужен…
Патриотическое сознание, укрепление любви к Родине (тем более когда она в опасности), память о былых победах и величии своих предков – всё это всегда поднимало моральный дух народа, укрепляло государство и его армию. Сталин это понимал и поэтому, несмотря на занятость боевыми операциями, нашёл время и для создания гимна. Политбюро поддержало его предложение. Была создана специальная комиссия под председательством Ворошилова, в неё вошли видные композиторы, поэты.
Был объявлен конкурс на создание музыки и текста. В нём приняли участие самые известные поэты: прислали тексты Долматовский, Демьян Бедный, Берггольц, Симонов, Сурков, Асеев, Тихонов, Щипачёв, Антокольский, Исаковский и многие другие… Произведения показывали Сталину, но они ему не нравились, по разным причинам: то мелковато, то нет патриотической идеи, то музыка слишком маршевая.
Наконец внимание Сталина привлекли стихи Михалкова и Эль-Регистана.
— Будем работать над этим текстом, — сказал Сталин Ворошилову. – В таком виде он ещё не подходит, но патриотическая идея в этом варианте есть.
В этой фразе открывается главная цель Сталина при создании гимна: воспитание, укрепление патриотизма.
… И опять судьба подарила мне очевидную писательскую удачу: помог Сергей Михалков, мой давний товарищ по работе в Союзе писателей и добрый друг во внеслужебное время. Я не раз бывал у него дома, он, наряду с другими книгами, подарил мне изданный большим тиражом гимн с текстом, нотами и с тёплой надписью. Тогда Сергей рассказывал, как он и Эль-Регистан вместе со Сталиным «доводили гимн до кондиции».
Теперь, работая над этой главой, я ещё раз навестил Михалкова и попросил напомнить детали работы над гимном, потому что я многое запамятовал…
Михалков, со свойственным ему юморком стал рассказывать:
«- Вдруг в 2 часа ночи – звонок телефона. Думаю, какой болван так поздно? «С вами говорит Поскрёбышев». Вот это да! Секретарь Сталина! Уже ошеломило. А он заявляет: «С вами будет говорить товарищ Сталин». И тут переключил, и слышу голос Сталина:
— Здравствуйте, товарищ Михалков. – И сразу к делу. – Мы прослушали несколько вариантов гимна,в том числе и ваш. Он немного коротковат. Надо бы припев, который повторяется, и ещё один куплет, в котором – не могли бы вы? – отразить мощь Красной Армии, сказать о том, что мы бьём и будем бить фашистские полчища.
— Конечно, товарищ Сталин, мы постараемся это сделать с Эль-Регистаном.
— Постарайтесь. И не затягивайте. Сделайте за несколько дней.
Этот разговор состоялся 27 октября 1943 года.
С этого дня всё закрутилось. Нам с Регистаном выделили комнату в Кремле, в ней мы работали над текстом. Новые варианты Ворошилов носил Сталину и возвращал нам листы с его правкой. Он заменял отдельные слова, вписывал новые строки. Было с правкой Сталина несколько вариантов. Наконец нас повели к нему в кабинет. Сталин подаёт нам правленый им текст, без предисловий просит:
— Посмотрите, как получилось…» По сути, Сталин был соавтором гимна. И в последнем варианте очень значительна его правка. Авторы, конечно, со всем согласились и попросили разрешения взять варианты себе на память: «История, товарищ Сталин!» Он разрешил.
Состоялось несколько прослушиваний гимнов, в Большом театре в разном исполнении, с хором, с симфоническим, духовым оркестрами. Сталин приезжал обязательно. Слушал, делал замечания, давал советы. Он отобрал музыку трёх авторов – Шостаковича, Хачатуряна и Александрова.
На одном из прослушиваний хор и оркестр исполнили для сравнения гимны: царский «Боже, царя храни», Великобритании и США. Сталин остановил выбор на музыке Александрова, на тексте Михалкова и Эль-Регистана.
После завершения всех предварительных работ состоялось в Большом театре прослушивание, на которое были приглашены члены Политбюро, руководящие работники Министерства обороны.
Гимн всем очень понравился. Сталин был доволен – добился того, что считал важным и необходимым.
Он весело сказал:
— Ну, по русскому обычаю полагается обмыть гимн. Пригласите авторов текста, композитора и дирижёра.
Молотову он сказал:
— Ты будешь представителем нашего собрания.
Стол накрыли в комнате перед ложей. Михалкова и Регистана Сталин посадил рядом с собой. Первый тост – за создателей и успех нового гимна!
… Михалков рассказал, что Сталин попросил его читать стихи:
— Я прочитал «Дядю Стёпу» и другие. Сталин смеялся от души. Я был счастлив от своего успеха и после каждого тоста выпивал полную рюмку. Вдруг Сталин мне негромко сказал: «Вы зачем осушаете бокал до дна? С вами будет неинтересно разговаривать». Потом он спросил: «Вы член партии?» Я сказал: «Пока нет». Он пошутил: «Ну ничего, когда я писал стихи, тоже был беспартийным».
В застолье Сталин говорил о театре, о необходимости постановки «Сусанина», о кино, о плохой трактовке в одноимённом фильме Кутузова как больного старика, а он был великий полководец. Говорили и о делах военных – война не позволяла о себе забывать даже за праздничным столом…
Разошлись в прекрасном настроении. 1 января 1944 года гимн впервые был передан по всесоюзному радио. С этого дня мы просыпались и засыпали с этой торжественной и величественной музыкой.
Создатели гимна были отмечены денежной премией.
И ещё Михалков рассказывал:
— Мне дважды довелось модернизировать гимн, в соответствии с переменами политической обстановки в стране… Эль-Регистан умер в 1945 году. Новый текст, который в 1977 году я дорабатывал, от старого отличался тем, что в связи с осуждением «культа личности», из текста было рекомендовано изъять упоминание о Сталине и его делах. Но оставалась наша вера в победу коммунизма. И вот совершенно неожиданно на пороге XXI века мне пришлось ещё раз осовременивать гимн. Хорошо хоть музыку Александрова сохранили.
Религию – на службу Отечеству![90]
Сталину было известно, что во всех церквах страны во время богослужения произносятся патриотические молитвы за победу российских воинов. Как ученик духовной семинарии Иосиф Виссарионович хорошо понимал значение Церкви и религии в жизни страны. Он решил поддержать священнослужителей в их полезных деяниях на благо укрепления стойкости и твёрдости духа армии и народа.
4 сентября 1943 года к Сталину был вызван Г.Г. Карпов – председатель Совета по делам Русской Православной Церкви. Он пишет в своих воспоминаниях о том, какие вопросы задал ему Сталин:
…а) что собой представляет митрополит Сергий (возраст, физическое состояние, его авторитет в церкви, его отношение к властям);
б) краткая характеристика митрополитов Алексия и Николая;
в) когда и как был избран в патриархи Тихон;
г) какие связи Русская Православная церковь имеет с заграницей;
д) кто является патриархами Вселенским, Иерусалимским и другими;
е) что я знаю о руководстве православных церквей Болгарии, Югославии, Румынии;
ж) в каких материальных условиях находятся сейчас митрополиты Сергий, Алексий, Николай;
з) количество приходов Православной Церкви в Советском Союзе и количество епископата.
После того, когда мною были даны ответы на вышеуказанные вопросы, мне было задано три вопроса личного порядка:
а) русский ли я;
б) с какого года в партии;
в) какое образование имею и почему я знаком с церковными вопросами.
Продолжим воспоминания Г.Г. Карпова.
«После этого Сталин сказал:
— Нужно создать специальный орган, который бы осуществлял связь с руководством Церкви. Какие у вас есть предложения?
Оговорившись, что я к этому вопросу не совсем готов, я внёс предложение организовать при Верховном Совете Союза ССР отдел по делам культов, и исходил я при этом из факта существования при ВЦИКе постоянно действующей комиссии по делам культов.
Товарищ Сталин поправил меня:
— Организовать комиссию или отдел по делам культов… надо организовать при Правительстве Союза, то есть при Совнаркоме, Совет, который назовём Советом по делам Русской Православной Церкви. На Совет будет возложено осуществление связей между Правительством Союза и патриархом. Совет самостоятельных решений не принимает, докладывает и получает указания от правительства…
Сталин сказал мне:
— Позвоните митрополиту Сергию и от имени правительства передайте следующее: «Говорит с вами представитель Совнаркома Союза. Правительство имеет желание принять вас, а также митрополитов Алексия и Николая, выслушать ваши нужды и разрешить имеющиеся у вас вопросы. Правительство может вас принять или сегодня же, через час-полтора, если это время вам не подходит, то приём может быть организован завтра (в воскресенье) или в любой день последующей недели».
В присутствии Сталина Карпов созвонился с Сергием… Митрополит Сергий ответил:
— Алексий и Николай благодарят за такое внимание со стороны правительства. Мы хотели бы, чтобы нас приняли сегодня.
Сталин не откладывал то, что можно сделать без промедления.
Через два часа митрополиты Сергий, Алексий и Николай прибыли в Кремль и были приняты Сталиным в кабинете Председателя Совнаркома Союза ССР. На приёме присутствовали Молотов и Карпов. (Дальше я привожу в пересказе почти стенографическую запись беседы, которую сделал Карпов).
Сталин тепло поздоровался с митрополитами, сказал:
— Правительство Союза знает о проводимой патриотической работе в церквах с первого дня войны; правительство получило очень много писем с фронта и из тыла, одобряющих позицию, занятую Церковью по отношению к государству.
Затем Сталин попросил митрополитов высказаться об имеющихся у патриархии и у них лично назревших, но неразрешённых вопросах. Митрополит Сергий сказал:
— Самым главным и наиболее назревшим вопросом является вопрос о центральном руководстве Церкви. Я почти 18 лет являюсь патриаршим местоблюстителем, а Синода в Советском Союзе нет с 1935 года. А потому я считаю желательным, чтобы правительство разрешило собрать архиерейский Собор, который и изберёт патриарха, а также образует при главе Церкви Священный Синод как совещательный орган в составе пяти-шести архиереев…
Одобрив предложение митрополита Сергия, Сталин спросил:
— Как будет называться патриарх? Когда может быть собран архиерейский Собор? Нужна ли какая-либо помощь со стороны правительства для успешного проведения Собора, имеется ли помещение, нужен ли транспорт, нужны ли деньги?
Сергий ответил:
— Эти вопросы предварительно мы между собой обсуждали и считали бы желательным и правильным, если бы правительство разрешило для патриарха принять титул «патриарха Московского и всея Руси»; патриарх Тихон избранный в 1917 году при Временном правительстве, тоже назывался «Патриархом Московским и всея России».
Сталин согласился, сказав, что это правильно. На второй вопрос митрополит Сергий ответил:
— Архиерейский Собор можно будет собрать через месяц. Сталин улыбнулся и обратился к Карпову:
— А нельзя ли проявить большевистские темпы?
— Если мы поможем митрополиту Сергию соответствующим транспортом для быстрейшей доставки епископата в Москву (самолётами), то Собор мог бы быть собран и через три-четыре дня.
После короткого обмена мнениями договорились, что архиерейский Собор соберётся в Москве 8 сентября.
На третий вопрос митрополит Сергий ответил:
— Для проведения Собора никаких субсидий от государства не просим.
Митрополит Сергий поднял, а митрополит Алексий развил вопрос о подготовке кадров духовенства, причём оба просили Сталина, чтобы им было разрешено организовать богословские курсы при некоторых епархиях.
Сталин, согласившись с этим, в то же время добавил:
— Почему вы ставите вопрос только о богословских курсах? Правительство может разрешить организацию духовной академии и открытие духовных семинарий во всех епархиях, где это нужно.
Митрополит Алексий сказал:
— Для открытия духовных академий ещё очень мало сил и нужна соответствующая подготовка, а в отношении семинарий — принимать в них лиц моложе 18 лет считаю неподходящим, по прошлому опыту зная, что пока у человека не сложилось определённое мировоззрение, готовить их в качестве пастырей весьма опасно, так как получается большой отсев. Может быть, в последующем, когда Церковь будет иметь соответствующий опыт работы с богословскими курсами, встанет этот вопрос, но и то организационная и программная сторона семинарий и академий должна быть резко изменена.
Сталин сказал:
— Ну, как хотите, это дело ваше, если хотите богословские курсы – начинайте с них, но правительство не будет иметь возражений и против открытия семинарий и академий.
Сергий поднял вопрос об организации издания журнала Московской патриархии, который бы выходил один раз в месяц и в котором бы освещалась как хроника церкви, так и печатались статьи, речи, проповеди богословского и патриотического характера.
Сталин ответил:
— Журнал можно и следует выпускать.
Затем митрополит Сергий затронул вопрос об открытии церквей в ряде епархий, сказав, что вопрос об этом перед ним ставят почти все епархиальные архиереи, что церквей мало и что уже очень много лет церкви не открываются…
Сталин ответил:
— По этому вопросу никаких препятствий со стороны правительства не будет.
Митрополит Алексий поднял вопрос довольно щепетильный – об освобождении некоторых архиереев, находящихся в ссылке, в лагерях, в тюрьмах.
Сталин коротко сказал:
— Представьте такой список, мы его рассмотрим.
Сергий поднял тут же вопрос о предоставлении права свободного проживания и передвижения внутри Союза и право исполнять церковные службы священнослужителями, отбывшими по суду срок своего заключения, — то есть вопрос о снятии запрещений, вернее, ограничений, связанных с паспортным режимом.
Сталин предложил Карпову этот вопрос изучить.
Поговорили о делах финансовых.
Митрополит Алексий сказал, что он считает необходимым предоставление епархиям права отчислять некоторые суммы из касс церквей и епархий в кассу центрального церковного аппарата для его содержания (патриархия, Синод), и в связи с этим же митрополит Алексий привёл пример, что инспектор по административному надзору Ленсовета Татаринцева такие отчисления делать не разрешала…
Сталин против этого не возражал.
Митрополит Николай затронул вопрос о свечных заводах, заявив, что в данное время церковные свечи изготовляются кустарями, продажная цена свечей в церквах весьма высокая, и он, Митрополит Николай, считает лучшим предоставить право иметь свечные заводы при епархиях.
Сталин сказал, что Церковь может рассчитывать на всестороннюю поддержку правительства во всех вопросах, связанных с её организационным укреплением и развитием внутри СССР. И — обращаясь к Карпову:
— Надо обеспечить право архиерея распоряжаться церковными суммами. Не надо делать препятствий к организации семинарий, свечных заводов и так далее. – Затем, обращаясь к трём митрополитам:
— Если нужно сейчас или если нужно будет в дальнейшем, государство может отпустить соответствующие субсидии церковному центру. Вот мне доложил товарищ Карпов, что вы очень плохо живёте: тесная квартира, покупаете продукты на рынке, нет у вас никакого транспорта. Поэтому правительство хотело бы знать, какие у вас есть нужды и что вы желали бы получить от правительства.
Митрополит Сергий ответил:
— Для патриархии и для патриарха прошу принять внесённые митрополитом Алексием предложения о предоставлении в распоряжение бывшего игуменского корпуса в Новодевичьем монастыре…., но в части транспорта просил бы помочь, если можно выделением машины.
— Помещения в Новодевичьем монастыре товарищ Карпов посмотрел, — сказал Сталин, — они совершенно не благоустроены, требуют капитального ремонта, и для того, чтобы занять их, надо ещё много времени. Там сыро и холодно. Ведь надо учесть, что эти здания построены в XVI веке. Правительство вам может выделить завтра же вполне благоустроенное и подготовленное помещение, предоставив трёхэтажный особняк на Чистом переулке, который занимал ранее бывший немецкий посол Шуленбург. Но это здание советское, не немецкое, так что вы можете совершенно спокойно в нём жить. При этом особняк мы вам предоставляем со всем имуществом, мебелью, которая имеется в нём, а для того, чтобы лучше иметь представление об этом здании, мы сейчас вам покажем план его…
Через несколько минут Поскрёбышев принёс план особняка с его надворными постройками и садом. Было условлено, что на другой день, 5 сентября, Карпов предоставит возможность митрополитам лично осмотреть эти помещения.
Сталин вновь затронул вопрос о продовольственном снабжении.
— На рынке продукты покупать вам неудобно и дорого, и сейчас продуктов на рынок колхозник выбрасывает мало. Поэтому государство может обеспечить продуктами вас по государственным ценам. Кроме того, мы завтра-послезавтра предоставим в ваше распоряжение две-три легковые автомашины с горючим. Нет ли ещё каких-либо вопросов, нет ли других нужд у Церкви?… Ну если у вас больше нет к правительству вопросов, то, может быть, будут потом. Правительство предполагает образовать специальный государственный аппарат, который будет называться Совет по делам Русской Православной Церкви, и председателем Совета предполагается назначить товарища Карпова. Как вы смотрите на это?
Все трое заявили, что они весьма благодарны за это правительству и лично товарищу Сталину и весьма благожелательно принимают назначение на этот пост товарища Карпова.
Сталин сказал:
— Совет будет представлять собою место связи между правительством и Церковью, и председатель его должен докладывать правительству о жизни Церкви и возникающих у неё вопросов.
Обращаясь к Карпову, Сталин произнёс:
— Подберите себе два-три помощника, которые будут членами вашего Совета, образуйте аппарат, но только помните, во-первых, что вы не обер-прокурор, во-вторых, своей деятельностью больше подчёркивайте самостоятельность Церкви.
Тут же, при митрополитах, Сталин обратился к Молотову:
— Надо довести об этом до сведения населения, так же, как потом надо будет сообщить населению и об избрании патриарха.
Вячеслав Михайлович сразу же стал составлять проект коммюнике для радио и газет, при этом вносились соответствующие замечания, поправки и дополнения как со стороны Сталина, так и со стороны митрополитов Сергия и Алексия.
Текст извещения был принят в следующий редакции:
«4 сентября с.г. у Председателя Совета Народных Комиссаров СССР товарища И.В. Сталина состоялся приём, во время которого имела место беседа с патриаршим местоблюстителем митрополитом Сергием, Ленинградским митрополитом Алексием и экзархом Украины Киевским и Галицким митрополитом Николаем. Во время беседы митрополит Сергий довёл до сведения Председателя Совнаркома, что в руководящих кругах Православной Церкви имеется намерение созвать Собор епископов для избрания Патриарха Московского и всея Руси и образования при патриархе Священного Синода. Глава правительства товарищ И.В. Сталин сочувственно отнёсся к этим предложениям и заявил, что со стороны правительства не будет к этому препятствий.
При беседе присутствовал заместитель Председателя Совнаркома СССР товарищ В.М. Молотов».
(Это коммюнике было опубликовано в газете «Известия» 5 сентября 1943 года)
Текст коммюнике был вручен Поскрёбышеву для передачи в этот же день на радио и в ТАСС для напечатания в газетах.
После этого Молотов обратился к Сергию с вопросом:
— Когда лучше принять делегацию англиканской церкви, желающую приехать в Москву, во главе с архиепископом Йоркским?
Сергий ответил, что поскольку Собор епископов будет собран через четыре дня, а значит, и будут проведены выборы патриарха, англиканская делегация может быть принята в любое время.
Молотов сказал, что, по его мнению, лучше будет принять эту делегацию месяцем позднее.
В заключение приёма выступил митрополит Сергий с кратким благодарственным словом к правительству и лично товарищу Сталину…
Сталин, попрощавшись с митрополитами, проводил их до дверей своего кабинета.
Тайный приём был историческим событием. О значении в жизни и деятельности Церкви и священнослужителей этого «Мероприятия», проведённого лично Сталиным (никто другой на такое не отважился бы), говорить не приходится. Может быть, следует только напомнить любителям расписывать жестокость Сталина о таких вот добрых его делах. Ищущие правду не должны забывать и об этом.
Необходимость создания гимна, тщательная работа над его содержанием ещё раз свидетельствует о дальновидности Сталина и его глубоком понимании фундаментальных опор и основ морально-нравственного состояния народа.
Гимн долгие годы вдохновлял, объединял советских людей. При его звучании человек внутренне возвышался до уровня государственной значимости, в нём поднималось чувство гордости за свою Великую Державу, в человека вселялась уверенность в счастливом будущем Отечества.
Гимн укреплял любовь к Родине, дружбу народов, её населяющих, – именно поэтому поднялась свара «инопланетян», раздирающих наше Отечество, когда возникла необходимость (да и была ли она?) создать новый гимн. Сколько грязи и небылиц было выплеснуто СМИ, в первую очередь телевидением, чтобы опорочить старый текст и музыку!
Однако люди, с детства впитавшие в своё сознание величие гимна, с которым жили и побеждали отцы и деды, не хотели отказаться от него. И хоть в нём заменили некоторые слова, музыка поднимает в сердцах людей и старый текст, и любовь к Родине, которую они помнят в её сиятельном величии.
Движение, которого не было[91] (про Власова)
В боях на Одере наши войска впервые встретились с власовцами. Точнее будет сказать, что в одной из стычек за плацдарм участвовала первая и единственная дивизия из так и не созданной армии Власова.
Эпизод этот на общем фоне происходившего сражения был так незначителен, что Сталин даже не знал о нём. В своей книге и маршал Жуков ни одним словом не упоминает о власовцах в боях на подступах к Берлину.
Но поскольку мы эту тему затронули раньше и я обещал довести до конца рассказ об «освободительном движении», которое пытался создать Власов, придётся изложить несколько заключительных эпизодов из этой истории.
После того как немецкой разведкой был создан «отдел восточной пропаганды» в Дабендорфе, Власов и его ближайшие помощники главным образом занимались сочинением листовок и подготовкой пропагандистов, призывавших советских солдат переходить на сторону гитлеровцев…
С появлением Власова руководители фашистской разведки, желая придать масштабность своей работе, попытались реанимировать «смоленский проект». (В Смоленске «городской управой» был сочинён адрес «Комитета освобождения народов России», который направили фюреру. Эта идея Гитлеру не понравилась,… затея лопнула).
Власов и его приближённые хотели использовать эту акцию в своих целях и пытались выпустить обращение от имени «Комитета освобождения народов России». Воззвание было отпечатано миллионным тиражом. Но… поступило строжайшее указание – «сбрасывать эту листовку только над территорией противника».
О каком-то «освободительном движении» гитлеровское командование и мысли не допускало, его интересовало только разложение Советской армии и увеличение числа перебежчиков. Катастрофа под Сталинградом привела в замешательство гитлеровское руководство. Разведчики генерала Гелена решили использовать эту беду в своих интересах и сделали ещё одну попытку активизировать идею создания «освободительного движения». Они организовали агитационную поездку генерала Власова в группу армий «Север». Он выступал в лагере военнопленных, призывал их идти добровольцами в создаваемую им «Русскую освободительную армию». (РОА). Генерал разгорячился до того, что разработал план под названием «Акция Просвет», в котором предлагал силами добровольцев захватить под Ленинградом Ораниенбаум и Кронштадт! Начальник разведотдела генерал Гелен готов был поддержать эту акцию – она поднимала авторитет возглавляемой им службы. Но… это «Но» спасло Гелена от опалы – он не успел войти с ходатайством об осуществлении «Акции Просвет», а с другой – низвергло Власова с заоблачных вершин его мечтаний на бренную землю.
А произошло вот что: из группы армий «Север» от контрразведчиков поступили доклады о том, что русский генерал в своих выступлениях договорился до какой-то «свободной России», до русской армии, которая будет всего лишь «союзницей» вермахта, и вообще: «Этот наглый русский чувствует себя уже правителем независимой России!»
Всё это вызвало яростный гнев фюрера, последовало категорическое запрещение Власову заниматься политической деятельностью.
17 апреля 1943 года был издан специальный приказ:
«Ввиду неправомочных, наглых высказываний военнопленного русского генерала Власова во время его поездки в группу армий «Север», осуществлённую без того, чтобы Фюреру и мне было известно об этом, приказываю немедленно перевести русского генерала Власова под особым конвоем обратно в лагерь военнопленных, где и содержать безвыходно. Фюрер не желает слышать имени Власова ни при каких обстоятельствах, разве что в связи с операциями чисто пропагандного характера, при проведении которых может потребоваться имя Власова, но не его личность. В случае нового личного появления Власова предпринять шаги к передаче его тайной полиции и обезвредить
Фельдмаршал Кейтель»
…Различные русские и национальные формирования были после 1943 года по приказу фюрера переведены на Западный фронт и включены под названием «четвёртых батальонов» в германские полки. Они использовались для борьбы с партизанами и повстанцами в Дании, Италии, Норвегии и других странах. Руководил ими немецкий генерал Гельмих, а затем генерал Кёстринг. Их называли «генералами восточных войск», а позднее – «генералами добровольческих частей».
Власова к руководству этими частями никогда не допускали…
Это ещё одно свидетельство, что РОА и «освободительное движение» всего лишь миф, созданный теми, кто об этом пишет. Чего не было – того не было!
Вот подтверждение тому одного из очень близких к Власову людей – его духовного наставника протоирея Александра Киселёва. Я познакомился с ним в Нью-Йорке в январе 1988 года…
Отец Александр рассказал о себе:
— Я стал священником в 1933 году, жил в Прибалтике, потом эмигрировал в Германию, служил в берлинской церкви простым священником…
— Меня пригласили крестить новорождённого на дому. Во время крещения крёстные должны читать молитву «Верую». По опыту я знал: никто не помнит слов этой молитвы, и потому я произносил слова громко, а присутствующие повторяли за мной. И вдруг я слышу- крёстный отец, высокий басистый генерал, опережает меня, читая «Верую». Это был Власов, он в духовной семинарии учился, помнил слова молитвы. Потом мы встречались и позже. Я стал официальным духовником штаба армии Власова.
— Вы служили молебен в Смоленске при обнародовании манифеста?
— Нет, тогда мы ещё не были знакомы. Мы сблизились в период Пражского манифеста.
— Но это уже 1945 год – завершающий этап в освободительном движении.
— Да, к сожалению, движению не дали развиться немцы. Они не поняли возможностей борьбы с большевиками через это движение. И проиграли. А если бы раньше поняли – всё могло бы обернуться иначе. Великую русскую силу они не использовали. Они боялись её. Она бы их ослабленных оттёрла на второй план. Россия стала бы свободной без Сталина и Гитлера:
«Власовское движение погибло… не по вине власовцев. Оно было дружно придушено и коммунистами, и нацистами, и демократами»…
Утопающий хватается за соломинку. Такой соломинкой для гитлеровцев к 1945 году стал Власов с его намерением создать РОА…
Сменив гнев на милость, Гитлер разрешил Гиммлеру встретиться с Власовым. Сам Гитлер так ни разу с ним и не виделся.
О беседе и её последствиях лучше всего расскажет тот, кто присутствовал при этой встрече – эсэсовец Далькен. Я располагаю его личными записями, выдержки из которых привожу с сокращениями:
«Власов произвёл на Гиммлера впечатление своим ростом, достоинством и глубоким голосом.
— Было сделано много ошибок, — сказал Гиммлер, – знаю все ошибки, которые касаются вас. Поэтому сегодня я хочу говорить с вами с бесстрашной откровенностью…
— Не моя вина, что назначенная нами первая встреча была отложена, — мягко продолжал «Чёрный Генрих».
— Вам известны причины, а также вся ответственность, тяжким бременем павшая на мои плечи…
Когда Гиммлер окончил своё обращение, Власов немного помолчал, а затем спокойно, разделяя слова, как бы облегчая работу переводчика, начал:
— Господин министр! Благодарю за приглашение. Верьте, я счастлив, что, наконец, мне удалось встретиться с одним из настоящих вождей Германии и изложить ему свои мысли… господин министр, вы сегодня самый сильный человек в правительстве третьего рейха. Прежде, чем изложить вам свою программу, я должен подчеркнуть следующее: я ненавижу ту систему, которая из меня сделала большого человека. Но это не мешает мне гордиться тем, что я русский. Я – сын простого крестьянина. Поэтому я и умею любить свою родину, свою землю так же, как её любит сын немецкого крестьянина. Я верю в то, что вы, господин министр, действительно готовы в кратчайшее время прийти к нам на помощь. Если удар будет нанесён в самое чувствительное место, система Сталина, уже обречённая на смерть, падёт как карточный домик. Но я должен подчеркнуть, что для обеспечения успеха вы должны вести с нами работу на принципе полного равенства. Именно поэтому я и хотел бы говорить с вами так же откровенно, как вы это сделали…
Гиммлер медленно опустил голову в знак согласия и, помолчав, сказал:
— Теперь мой черёд задать прямой вопрос, господин генерал: действительно ли русский народ и сейчас поддержит вас в попытке свергнуть политическую систему, и признает ли он вас как своего вождя?
Настороженность Власова исчезла. Он почувствовал почву под ногами и спокойно и веско ответил:
— Я могу честно сказать «да» при условии, что вами будут выполнены известные обязательства. Господин министр! Я знаю, что ещё сегодня я могу покончить войну против Сталина. Если бы я располагал ударной армией, состоящей из граждан моего отечества, я дошёл бы до Москвы, и тогда закончил бы войну по телефону, поговорив с моими товарищами, которые сейчас борются на другой стороне. Вы думаете, что такой человек, как, например, маршал Рокоссовский, забыл про зубы, которые ему выбили в тюрьме на допросе? Это мои боевые товарищи, сыны моей родины, они знают, что здесь происходило и происходит, и не верят в честность немецких обещаний, но если появится настоящая русская освободительная армия, носительница национальной, свободной идеи – массы русского народа, за исключением негодяев, массы, которые в своём сердце антикоммунистичны, поверят, что час освобождения настал и что на пути к свободе стоят только Сталин и его клика…
(Смел ли кто-нибудь до сих пор сказать Гиммлеру о спасении Германии? – думал Далькен. Он никак не мог понять, что заставляло Гиммлера выслушивать Власова, не впадая в бешенство)…
— Ещё не поздно, господин министр. Ещё не поздно! Находящихся в Германии русских людей достаточно для армии в миллион и больше человек.
Гиммлер выждал, очевидно, намеренно делая напряжение ещё большим, а затем бесстрастным голосом сказал:
— Господин генерал! Я разговаривал с фюрером. С этого момента вы можете считать себя главнокомандующим армии в чине генерал-полковника. Вы получите полномочия собрать офицеров по своему усмотрению, до чина полковника. Только что касается ваших генералов – я должен попросить доставлять ваши предложения начальнику кадров немецкой армии…
Опять Гиммлер сделал паузу и затем продолжал:
— Я придерживаюсь мнения теперь, выслушав вас, что, конечно, существует возможность формирования армии. Как главнокомандующий резервами я имею в своих руках средства для того, чтобы это сделать. Но, к сожалению, эти средства ограничены. Возможно, что вы найдёте достаточно людей, но мы не должны забывать, что те, кто устремится в вашу армию, оставят за собой пустые места на наших заводах. Мы же не смеем разрешить себе снизить продукцию нашей промышленности! Однако всё же решающим вопросом является вооружение. Я могу пойти на формирование первых двух дивизий… Будете ли вы, господин генерал-полковник, удовлетворены моим предложением — приступить теперь к формированию только двух дивизий? Если да, то я немедленно отдам соответствующие приказания.
Лицо Власова потемнело. Он упал с высоты, на которую его подняли его устремления. В глазах ясно отразилось разочарование, но он взял себя в руки.
— Господин министр, — сказал он с глубоким вздохом, — я принимаю во внимание существующие препятствия. Но я не теряю надежды, что две дивизии – это только скромное начало, так как вы сами знаете, что одни вы не сможете пробить стену головой. Поэтому расширение формирования – в наших обоюдных интересах.
— Конечно, конечно! – торопливо и почти весело воскликнул Гиммлер, облегчённо почувствовав, что всё трудное и неприятное прошло…С начала разговора и до конца обеда прошло шесть часов…
Таким образом, с сентября 1944 года Власов из разведотдела был передан в подчинение рейхсфюрера СС Гиммлера. .. Общим руководителем будущей РОА был назначен обергруппенфюрер СС Бергер. Он занимался формированием первой русской дивизии. Приказ о её создании подписал Гиммлер. Таким образом, все разговоры о РОА до марта 1945 года было просто разговорами – первая и единственная дивизия появилась лишь в самом конце войны. Вторая дивизия так и не была окончательно сформирована до капитуляции гитлеровцев.
Командиром первой дивизии был назначен немцами (не Власовым!) полковник Буняченко, которому они же присвоили в феврале 1945 года звание генерал-майора.
Полковник Буняченко, бывший командир дивизии Красной армии, был разжалован и отправлен штрафником на основании приказа 227 от 28 июля 1942 года. После этого он перешёл к немцам. Летом 1944 года он командовал на Западном фронте русским полком, где был отмечен как умелый командир. Этот полк и стал основой 1-й русской дивизии РОА. В неё включили несколько других русских формирований. Например, бригаду РОНА («Русская освободительная народная армия»), которой в прошлом командовал Каминский. Эта бригада по немецким документам «полностью очистила от партизан обширную область между Курском и Орлом».
В 1944 году РОНА насчитывала пять полков, до 20 тысяч человек. Полк под командованием полковника Фролова участвовал в подавлении Варшавского восстания. Вся РОНА до того разложилась и так «занималась грабежом и мародёрством», что немецкий военно-полевой суд приговорил к расстрелу её командира Каминского – «бригадного генерала, поляка по происхождению»…
Сам Власов был занят созданием «Комитета освобождения народа России», который, по его замыслу, должен был объединить под его командованием все национальные формирования, все «антибольшевистские силы». Однако, «силы» эти сопротивлялись, не хотели терять своей самостоятельности. Казачий генерал Краснов отказался подчиняться «бывшему красному генералу». Руководство СС приструнило всех: украинцев, кавказцев, выходцев из среднеазиатских республик и прочих – и загнало в КОНР – «Комитет освобождения народов России» под руководством Власова.
Был написан «Манифест», который приняли «представители народов» в Праге. (По желанию Власова, этот документ должен был родиться на славянской земле). Так как к тому времени под немецкой оккупацией уже не было ни одного советского города, выбрали славянскую Прагу…
Гитлеровское командование напрягало последние силы, чтобы остановить продвижение Красной армии. Её соединения уже вышли на Одер.
Руководители СС решили испытать в деле русское формирование. Дивизия Буняченко была передана в подчинение командующего 9-й армией генерала Буссе. Власов дал на это согласие.
Буняченко просил назначить его дивизии самостоятельную операцию, в которой без помощи немцев русские смогли бы показать свою доблесть. Немецкое командование предоставило ему такую возможность, поручив сбить советскую часть с небольшого плацдарма на Одере…
Вечером 12 апреля русские подразделения заняли исходное положение. За полчаса до атаки немецкая артиллерия открыла огонь по плацдарму. В атаку пошли с севера 2-й полк подполковника Артемьева, с юга – 3-й полк подполковника Александрова-Рыбцова. Русские поднялись в атаку быстро и дружно. Их поддерживала и немецкая авиация – 26 штурмовиков.
Чем всё это кончилось? Ради полной объективности сошлюсь на мнение гитлеровских офицеров и самих власовцев: «К 8 часам было… отвоёвано 500 метров земли». «Оба полка оказались под фланговым огнём противника, перед советскими полевыми фортификациями и мощными проволочными заграждениями»…
Буняченко, понимая, что всё кончится истреблением его полков, дал приказ отойти на исходные позиции.
Представитель немецкого командования подполковник Ноту доложил, что «отступление проходило довольно беспорядочно, на поле боя было брошено много оружия – пулемётов, автоматов, огнемётов.
Командующий 9-й армией генерал Буссе попытался привлечь к ответственности Буняченко за невыполнение приказа, но русский генерал даже не прибыл в немецкий штаб для дачи объяснений.
Он заявил, что имел приказ только на одну атаку. И коль скоро она не удалась, теперь он, «выполнив приказ», опять подчиняется только Власову. Собрав дивизию, Буняченко совершил с ней более чем стокилометровый марш и прибыл в Прагу…
Дивизия Буняченко, да и сам Власов, возможно, пытались как-то себя реабилитировать перед приближавшимися советскими войсками, они поддерживали чехов, восставших в Праге, и не позволили немцам разрушить город. Но то была уже агония.
Опасаясь кары, Власов приказал дивизии Буняченко и второй, так и несформированной дивизии Зверева, идти на запад и сдаваться американцам. Сам Власов двинулся туда же, но на пути был взят в плен советскими разведчиками…
И как бы ни старались различные доброжелатели рядить Власова в благородные мундиры «патриота» и даже «освободителя», документами и фактами это не подтверждается.
В перестроечное время «демократы» и бывшие диссиденты всячески восхваляли деяния Власова, говоря о сходстве его замыслов с их «демократическими» реформами. Мне кажется, они правы. Их, несомненно, объединяет предательское отношение к Родине и русскому народу.
Позорный конец генерала-предателя зафиксирован в приговоре Военного трибунала.
Парад Победы[92]
24 июня 1945 года состоялся торжественный приём в Кремле в честь участников Парада Победы. Кроме фронтовиков, на приёме были государственные и партийные деятели, учёные, работники искусства, знатные труженики – всего две с половиной тысячи человек…
Открыл торжество по поручению Сталина, Вячеслав Михайлович Молотов:
— Сегодня мы приветствуем участников Парада Победы. В их лице мы приветствуем нашу славную армию и морской флот, наш советский народ и всех тех, кто на фронте и в тылу ковал нашу Великую Победу, и прежде всего приветствуем того, кто руководил и руководит всем нашим делом, кто выковал нашу Победу как великий полководец и гениальный вождь Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье товарища Сталина!
Собравшиеся встают и устраивают овацию в честь Сталина… На этом торжестве были провозглашены здравицы за каждого командующего фронтом, за учёных, причём каждого вспоминали поимённо(!) – и, следовательно, были названы почти все, кто творил победу на фронте и в тылу.
К Сталину подходили, чокались, выпивали с ним, говорили весёлые слова и добрые пожелания все, кто хотел пообщаться с Верховным. Он был радушен, приветлив и ласков.
На приёме и Сталин произнёс тост:
— Не думайте, что я скажу что-нибудь необычайное. У меня самый простой, обыкновенный тост. Я бы хотел выпить за здоровье людей, у которых чинов мало и звание незавидное. За людей, которых считают «винтиками» государственного механизма, но без которых все мы – маршалы и командующие фронтами и армиями, говоря грубо, ни чёрта не стоим. Какой-либо «винтик» разладится и кончено. Я поднимаю тост за людей простых, скромных, за «винтики», которых держат в состоянии активности наш великий государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела. Их очень много, имя им легион, потому что это десятки миллионов людей. Это скромные люди. Никто о них ничего не пишет, звания у них нет, чинов мало, но это – люди, которые держат нас, как основание держит вершину. Я пью за здоровье этих людей, наших уважаемых товарищей.
Собравшиеся долго и горячо аплодируют его словам.
За месяц до этого – 25 мая 1945 года – состоялся приём в честь командующих войсками Красной Армии, тогда Сталин произнёс тост, который войдёт на века в память соотечественников… По своей значимости, величественности и, главное, справедливости этот тост действительно очень подходит к завершению победных торжеств, поэтому я привожу его здесь. Вот что сказал Сталин:
«-Товарищи, разрешите мне поднять ещё один, последний тост.
Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего Советского народа, и, прежде всего, русского народа.
Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание как руководящая сила Советского Союза среди всех народов нашей страны.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он – руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.
У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам сёла и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, — покидала потому, что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошёл на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства, он пошёл на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества – над фашизмом.
Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!
За здоровье русского народа!»
* * *
Участники торжества обратили внимание на то, что у Верховного Главнокомандующего – нет наград! Одна Золотая Звезда Героя Социалистического Труда, которой он был награждён ещё до войны.
И вот они пируют, украшенные многими наградами, у некоторых по две, и даже по три геройских Звезды, а у Сталина, который совершил для победы больше любого из присутствующих, нет боевых наград! Об этой несправедливости многие высказывались на приёме, а после него обращались в ЦК и Верховный Совет с пожеланиями отметить особые заслуги Сталина.
Политбюро рассмотрело эти обращения. Сталин сопротивлялся, говорил, что не заслужил звание Героя, что не соответствует статусу высшей награды, – но на этот раз с его мнением не посчитались.
26 июня 1945 года, через день после пышного приёма, было издано два Указа Президиума Верховного Совета СССР: один – о присвоении И.В. Сталину звания генералиссимуса и второй – о награждении его Золотой Звездой Героя Советского Союза. Это была первая и единственная его Золотая Звезда, отметим это как его скромность и как упрёк последователям, которые вешали себе на грудь Золотые Звёзды как сувениры, не имея на то ни права, ни заслуг.
И вот ещё парадоксальная черта личности Сталина. Вроде бы и властолюбивый и «культ себе создал», а Золотую Звезду не получил, не вручили её в торжественной обстановке, так и осталась она в красной коробочке в наградном отделе Верховного Совета.
Художники да фотографы пририсовывали ему эту Звезду на его портретах. И вспомнили об этой высшей награде только в день похорон, когда надо было её прикрепить к подушечке в числе других знаков отличия, по традиции характеризующих заслуги и итог жизни покойного.
Портреты некоторых победителей[93]
Прошли годы, нет в живых многих участников сражений Великой Отечественной войны. Какие они были замечательные люди! Мне посчастливилось знать многих из них. Я расскажу здесь лишь о нескольких встречах, которые имеют прямое отношение к завершающему историческому моменту в войне. Да и сами эти люди стали личностями историческими. Пройдут ещё годы, не будет и меня на этом тёплом свете, но, я думаю, потомки наши с благодарностью прочтут строки о нас, живших в далёкие, счастливые дни, когда мы праздновали Победу.
… Командир прославленной 150-й стрелковой дивизии, штурмовавшей рейхстаг, – генерал-полковник Шатилов.
Последние годы Василий Митрофанович жил в доме на Старой площади, напротив тогдашнего здания ЦК КПСС. Место и дом престижные, здесь жили многие известные люди. На той же лестничной площадке, где была квартира Шатилова, до войны жил маршал Егоров.
Я бывал у Василия Митрофановича много раз, и он мне рассказывал подробности штурма рейхстага и водружение Знамени Победы.
«- В горячке боя едва не получился казус с этим рейхстагом, – улыбаясь, говорил Шатилов.
— Звонит мне командир полка Зинченко, которому я поставил задачу брать рейхстаг, докладывает:
— Перед нами какой-то большой серый дом, он закрывает рейхстаг. Силы на него я тратить не буду, обойду справа, а там уже будет рейхстаг.
Смотрю я на карту, вроде бы большого серого дома в полосе наступления полка нет. О чём он докладывает?
Спрашиваю:
— Уточни, что за дом перед тобой? Кроль-опера? Не может быть – она на юго-запад от тебя.
Разобрались. Оказалось – большой серый дом и есть рейхстаг. Вот так, чуть не обошли мы его в дыму сражений. Тяжёлые шли бои, каждый метр с боем брали. Жалко было солдат, за несколько часов до конца войны жизни отдавали!
Зинченко докладывает:
— Рота Сьянова приближается к главному входу. К нему пошёл комбат Неустроев – поторопить.
— А где знамя Военного совета? – спрашиваю.
— Рядом, на моём НП.
— Так его же сразу надо водружать, как ворвутся.
— Да некому этим заниматься, такой бой идёт, товарищ генерал!
Я решил его попугать:
— Ну раз тебе некогда, передам знамя в полк Плеходанова. Он найдёт подходящих людей.
Зинченко тут же опомнился и про бой забыл. Как же, знамя хочет комдив забрать. Кричит в трубку:
— Товарищ генерал, уже нашёл нужных людей, вот они рядом со мной, боевые, опытные разведчики – сержант Егоров и сержант Кантария. Я им уже задачу ставлю.
— Ну то-то же! – усмехнулся я.
Военный совет армии выдал девять знамён – по одному каждой дивизии, наступавшей в центре города. Кто первый возьмёт рейхстаг, тот и будет водружать знамя. Мы тогда его не называли Знаменем Победы…»
Не стану пересказывать другие перипетии разведчиков и знамени на пути в рейхстаг. Сразу перехожу к тому, что узнал от полковника Зинченко. Мы с ним не только были знакомы, я даже снял о нём телефильм для передачи «Подвиг», которую вёл несколько лет на центральном телевидении.
Герой Советского Союза Зинченко со своим полком брал рейхстаг и был назначен первым его комендантом.
«- Бои за рейхстаг были очень тяжёлые, и на подступах и в самом здании. Оно огромное, сюда несколько тысяч гитлеровцев сбилось. Сопротивлялись отчаянно. Бои шли на этажах и в подвалах. Кантария и Егоров со знаменем тоже расчищали себе дорогу огнём из автоматов»…
А Зинченко я спросил:
— Кто придумал, кто начал делать надписи на стенах рейхстага? Может быть, ваши бойцы, как только вышли к стенам рейхстага, стали запечатлевать этот исторический момент?
— Нет, мы ещё вели бои внутри здания, а надписи уже появились. Я вышел из рейхстага, смотрю, уже весь низ исписан. Стали подниматься выше, на плечи друг друга вставали. А потом лестницы нашли в подвале, притащили и расписали весь дом до самых карнизов.
— Жуков тоже расписался?
— Да, и он, и сопровождающие его генералы.
— А как это произошло?
— Первым его встретил один из моих комбатов – капитан Неустроев, а потом и я подошёл, как только мне сообщили, что командующий фронтом прибыл. Жуков читал надписи на стенах, улыбался, был очень доволен. Спросил: «Как же наверх до самого потолка добрались?». Я рассказал, показал лестницы. Неустроева спросил: «Ну вы, конечно, первыми расписались?» — Никак нет, товарищ маршал, — ответил капитан, – пока мы немцев внутри добивали, тут уже другие свои надписи нацарапали.
Жуков больше часа беседовал с солдатами, которые ходили с ним вокруг рейхстага, а потом и сам расписался на одной стене…
Я был в рейхстаге в шестьдесят восьмом году. Внутри, на первом этаже, немцы устроили выставочный зал. Здание ещё не было капитально отремонтировано, однако, снаружи стены были оштукатурены и все росписи, в том числе и Жукова, затёрты.
Великая Отечественная война
Краткий военно-политический очерк[94]
Великая Отечественная война 1941-1945 – справедливая освободительная война советского народа за свободу и независимость социалистической Родины против фашистской Германии и её союзников, важнейшая и решающая часть Второй мировой войны 1939-45.
Накануне войны в 1940 территория СССР составляла 22,1 млн. км2, население – 194,1 млн. человек. В СССР – единое многонациональное государство – входили 16 союзных республик, в которых было 20 автономных республик, 9 автономных областей, 10 национальных округов. Согласно административно-территориальному делению в СССР насчитывалось 107 краёв и областей, 8 административных округов.
В результате индустриализации страны, коллективизации сельского хозяйства, культурной революции утвердился новый социалистический общественный и государственный строй – основа экономического и военного могущества Советского Союза. В СССР были полностью ликвидированы эксплуататорские классы. Сложился прочный союз двух дружественных классов – рабочего класса и колхозного крестьянства и связанной с ними народной советской интеллигенции. Социалистическая система хозяйства стала единственной в промышленности и господствующей в сельском хозяйстве, утвердились две формы социалистической собственности – общенародная (государственная) и кооперативно-колхозная.
За короткий срок в Советском Союзе были достигнуты исключительные результаты в политическом, экономическом и культурном подъёме народов. Под руководством Коммунистической партии благодаря Ленинской национальной политике ранее отсталые окраины России превратились в промышленно развитые социалистические республики. В борьбе за построение социализма сформировались новые социалистические нации. Под знаменем пролетарского интернационализма укреплялось их братское сотрудничество в составе Союза ССР.
Происшедшие в жизни страны глубокие изменения были отражены в Конституции СССР 1936, которая закрепила победу социализма в СССР, основы социалистического и государственного строя, систему органов Советского государства, принципы их организации и деятельности, основные права и обязанности советских граждан, наглядно продемонстрировав тем самым превосходство социалистической демократии над буржуазной. Экономической основой СССР стала социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства, политической основой – Советы депутатов трудящихся, которым принадлежала вся власть в стране. С победой социализма ещё более возрос авторитет СССР на международной арене.
* * *
Благодаря самоотверженным усилиям трудящихся Советский Союз располагал значительной материально-технической базой. Валовая продукция всей промышленности в 1940 увеличилась по сравнению с 1913 в 7,7 раза, производство средств производства – в 13, 4, промышленности и металлообработки (в физич. единицах) – в 30, энерговооружённость труда – в 5, электровооружённость труда – в 8, производительность труда – в 3,8 раза. По выпуску валовой продукции машиностроения, добыче нефти и производству тракторов СССР занял 1-еместо в Европе и 2-е место в мире; по производству электроэнергии, чугуна и стали – 2-е место в Европе и 3-е в мире; по добыче угля, производству цемента– 3-е место в Европе и 4-е в мире.
В 1940 в Советском Союзе произведено 14,9 млн. т. чугуна (в 3,5 раза больше чем в 1913), 18,3 млн.т.стали (в 4,3 раза больше), 166 млн.т. каменного угля (в 5,7 раза больше), 31,1 млн.т. нефти, включая газовый конденсат (в 3 раза больше): производство электроэнергии достигло 48,6 млрд. кВт.ч (в 1913 – 2 млрд. кВтч); эксплуатационная длина железных дорог составляла 106,1 тыс.км (в 1913 – 71,7). Значительные успехи были и в сельском хозяйстве. Около 237 тыс. колхозов объединяли 97% всех крестьянских дворов; было 4,2 тыс. совхозов. Вся посевная площадь в 1940 составляла 150,6млн.Га (в 1913 – 118,2 млн.Га), в том числе подзерновые 110,7 млн.Га (в 1913 – 104,6млн.Га). Производство зерна достигло 95,6млн.т (в 1913 – 86 млн.т), хлопка-сырца – 2,24млн.т (в 1913 – 0,74млн.т). Насчитывалось 7069 МТС (531 тыс. тракторов, 182 тыс. зерноуборочных комбайнов, 228 тыс. грузовых автомобилей.
Обстановка накануне войны
Положение в мире весной 1941 характеризовалось сложностью межгосударственных отношений, таивших опасность дальнейшего расширения масштабов начавшейся в сентябре 1939 2-й мировой войны. Агрессивный блок сил мирового империализма – Германии, Италии и Японии – расширялся и укреплялся, к нему присоединились королевская Румыния, хортистская Венгрия, царская Болгария, а также Финляндия. Этот блок поддерживала вся международная империалистическая реакция.
Ещё до начала 2-й мировой войны мощной социально-политической силой, противостоявшей агрессивным проискам империализма и настойчиво добивавшейся создания системы коллективной безопасности в Европе, был Советский Союз, однако западные державы не поддержали его предложения.
Они не пошли на соглашение о совместной борьбе против агрессора во время советско-англо-французских переговоров. В создавшихся условиях СССР вынужден был в 1939 году согласиться на заключение договора о ненападении с Германией. Подписав этот договор, советское правительство сорвало планы империалистических кругов западных держав, рассчитывавших на столкновение СССР и Германии в крайне невыгодных для СССР условиях. Советско-германский договор предотвратил образование единого фронта империалистических государств против СССР, способствовал созданию более благоприятной обстановки на Дальнем Востоке, Советский Союз получил возможность в течение ещё почти двух лет продолжать укреплять обороноспособность страны.
* * *
Фашистская Германия в 1938-41 оккупировала 12 государств Европы. В Польше, Чехословакии, Дании, Нидерландах, Норвегии, Бельгии, Югославии, Греции и других странах, а также, на значительной части Франции был установлен нацистский «новый порядок».
Путём милитаризации экономики и всей жизни страны, захвата промышленности и запасов стратегического сырья других стран, принудительного использования дешёвой рабочей силы оккупированных и союзных государств фашистская Германия создала огромный военно-экономический потенциал. Военное производство фашистской Германии с 1934 по 1940 увеличилось в 22 раза. Почти в 36 раз (со 105 тыс. до 3755 тыс. чел) возросла численность немецко-фашистских вооружённых сил. К середине 1941 она составляла около 8,5 млн. человек, в том числе 1,2 млн. человек вольнонаёмного состава.
Вооружённые силы фашистской Германии превосходили Советские Вооружённые силы (СВС) почти в 1,6 раза. Сухопутные войска (около 5,2 млн.чел) насчитывали 214 дивизий (169 пехотных, 21 танковых, 14 моторизованных и 10 других), 7 отдельных бригад. В немецкой армии имелось 5639 танков и штурмовых орудий, свыше 10 тыс. боевых самолётов, свыше 61 тыс. орудий и миномётов.
Военно-морской флот к июню 1941 насчитывал 217 боевых кораблей основных классов, в том числе 161 подводную лодку.
Важнейшей военно-политической целью войны в планах гитлеровцев было уничтожение главного противника фашизма – Советского Союза, в лице которого они видели основное препятствие на пути к завоеванию мирового господства.
В фашистской Германии широко проводилась идеологическая обработка населения и армии, пропагандировались расизм, крайний шовинизм – «превосходство» арийской расы, «необходимость» завоевания для Германии «жизненного пространства». Особое значение фашистская пропаганда придавала воспитанию ненависти к коммунизму, к советским людям.
Коммунистическая партия и Советское правительство, учитывая особенности международной обстановки, чреватой опасностью фашистского нападения, принимали необходимые меры по укреплению обороноспособности СССР. Население страны и личный состав СВС воспитывались в духе готовности дать отпор любому агрессору. К середине 1941 Советское государство располагало материально-технической базой, обеспечивавшей при её мобилизации массовое производство боевой техники и вооружения. Были осуществлены важные мероприятия, направленные на перестройку работы промышленности и транспорта, на создание оборонной промышленности, развёртывания Вооружённых Сил, их техническое перевооружение, расширение подготовки военных кадров. Увеличились ассигнования на военные нужды. Быстрыми темпами строились новые заводы и расширялись уже существующие оборонные заводы, им выделялось всё больше металла, топлива, электроэнергии, новых станков.
Численность СВС к июню 1941 составляла свыше 5 млн. человек: в сухопутных войсках и войсках ПВО – свыше 4,5 млн, в ВВС – 476 тысяч, в ВМФ – 344 тысяч. На вооружении армии состояло свыше 67 тысяч орудий и миномётов, 1860 новых танков и свыше 2700 боевых самолётов новых типов. Кроме того, в войсках было большое количество устаревшей бронетанковой и авиационной техники. ВМФ имел 276 боевых кораблей основных классов, в том числе 212 подводных лодок. Большое внимание уделялось подготовке командных, политических и военно-технических кадров. Одновременно осуществлялось оснащение вооружённых сил новым стрелковым, артиллерийским, танковым и авиационным оружием и боевой техникой, образцы который были разработаны, испытаны и внедрялись в серийное производство. Для завершения большого объёма сложных оборонных мероприятий требовалось время.
* * *
Фашистская Германия и её сателлиты сосредоточили против Советского Союза крупные контингентывойск – 190 дивизий (в т.ч. 19 танковых и 14 моторизованных) и большое количество боевой техники. Эта группировка насчитывала 5,5 млн. человек, около 4300 танков и штурмовых орудий, 47,2 тыс. орудий и миномётов, 4980 боевых самолётов и свыше 190боевых кораблей. К лету 1941 немецко-фашистское командование завершило стратегическое развёртывание вооружённых сил вдоль западных границ на трёх стратегических направлениях.
В соответствии с планом «Барбаросса» предусматривалось нанести поражение СССР в быстротечной компании: уничтожить основные силы Советской Армии западнее линии Днепр, Западная Двина, не допустив их отхода в глубь страны. Важнейшими стратегическими объектами считались Москва, Ленинград, Киев, Донбасс, при этом особое место в плане отводилось Москве. Предполагалось, что её захват будет иметь решающее значение для победоносного исхода всей войны.
Была создана следующая группировка войск. Группа армий «Север», развёрнутая в Восточной Пруссии, в составе 16-й, 18-й армий и 4-й танковой группы (всего 29 дивизий) при поддержке 1-го воздушного флота получила задачу разгромить советские войска в Прибалтике и захватить порты на Балтийском море, включая Ленинград и Кронштадт, лишить советский флот опорных баз.
Группа армий «Центр», сосредоточенная на главном московском направлении, в составе 4-й и 9-й армий, 2-й и 3-й танковых групп (всего 50 дивизий и 2 бригады) при поддержке 2-го воздушного флота должна была рассечь стратегический фронт обороны, окружить и уничтожить войска Советской Армии в Белоруссии и развивать наступление на Москву.
На киевском направлении была развёрнута группа армий «Юг», состоявшая из немецко-фашистских 6-й, 17-й, 11-й, румынских 3-й и 4-й армий, 1-й танковой группы и подвижного венгерского корпуса (всего 57 дивизий и 13 бригад). Она имела задачу при поддержке 4-го воздушного флота и румынской авиации уничтожить советские войска на Правобережной Украине, выйти на Днепр и развивать наступление на восток.
На территории Норвегии и в Финляндии были развёрнуты немецко-фашистская армия «Норвегия» и 2-е финские армии (всего 21 дивизия и 3 бригады), поддерживаемые 5-м немецким воздушным флотом и Финской авиацией. Армия «Норвегия» имела задачу овладеть Мурманском и Полярным, финские войска – содействовать группе армий «Север» в захвате Ленинграда. В резерве главного командования сухопутных войск находилось 24 дивизии.
В войне против СССР германский фашизм преследовал классовые, захватнические, грабительские цели – уничтожение первого в мире социалистического государства. Гитлеровцы планировали поработить и физически истребить миллионы советских людей, что предусматривалось в так называемом плане «Ост». Предполагалось ликвидировать русских как единый народ, уничтожить русскую интеллигенцию, искусственно сократить рождаемость.
* * *
В условиях назревания фашистской агрессии Коммунистическая партия Советского правительства поставила задачу – ускорить работы по укреплению западных границ. Строились новые и реконструировались старые аэродромы, создавались склады горючего и боеприпасов, проводились дополнительные призывы контингентов из запаса.
Отражение возможного нападения с Запада возлагалось на войска приграничных Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов (ВО). А также на Северный, Балтийский и Черноморский флоты и войска западных зон ПВО страны. Все они составляли первый стратегический эшелон СВС, который должен был активной обороной отразить наступление агрессора и создать условия для ответных ударов. В западных приграничных округах насчитывалось 170 дивизий (103 стрелковых, 40 танковых, 20 моторизованных, 7 кавалерийских) и 2 бригады, около 2,7 млн. человек личного состава, 37,5 тысяч орудий и миномётов(без 50-мм), 1475 новых танков (КВ и Т-34), 1540 боевых самолётов новых типов, а также значительное количество лёгких танков и боевых самолётов устаревшей конструкции.В составе трёх флотов имелось 182 корабля (3 линкора, 7 крейсеров, 45 эсминцев, 127 подводных лодок). Охрану государственных границ несли сухопутные и морские пограничные части.
* * *
Немецко-фашистское командование в первом эшелоне своих армий развернуло для нападения на Советский Союз103 дивизии (в т.ч. 12 танковых), в то время как в первом эшелоне советских армий прикрытия имелось лишь 54 стрелковых и 2 кавалерийские дивизии, т.е. в 2 раза меньше. При этом дивизии противника были полностью укомплектованы личным составом, вооружением и боевой техникой, транспортными средствами, обладали высокой подвижностью и имели боевой опыт. На ряде направлений противник превосходил Советские войска в 3-4 раза, а на направлениях главных ударов и более.
КПСС и Советское правительство, предвидя неизбежность войны, настойчиво проводили в жизнь программу всемерного укрепления Вооружённых Сил, однако не все намеченные материально-технические и организационные мероприятия удалось осуществить к началу войны. Сыграли роль и просчёты в оценке возможного времени нападения на СССР, упущение в порядке к отражению первых вражеских ударов. К началу войны западные приграничные округа не успели закончить развёртывания и полностью привести войска в боевую готовность. В связи с запозданием директивы Наркома обороны, отданной приграничным военным округам в 00часов30 минут 22 июня 1941, многие соединения и части не получили распоряжений, поэтому не удалось закончить создание группировок войск для отражения ударов немецко-фашистских армий, что поставило советские войска в самом начале войны в крайне невыгодное положение.
Первый период войны (22 июня 1941-18 ноября 1942)
Стратегическая оборона Советских Вооружённых Сил. Разгром фашистских войск под Москвой. Срыв попытки гитлеровской коалиции сокрушить СССР в молниеносной войне.
На рассвете 22 июня 1941 фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Её авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам расквартирования военных частей и многих городам на глубину 250-300 километров от государственной границы. После артподготовки в пределы СССР вторглись главные силы немецко-фашистской армии. Против СССР выступили также Италия, Румыния, Финляндия, Венгрия. Советский народ вынужден был прервать мирный созидательный труд и вступить в смертельную схватку с сильным и коварным врагом.
В войну была вовлечена могучая социалистическая держава, располагавшая огромным военно-экономическим и морально-политическим потенциалом и крупными вооружёнными силами. Навязанная советскому народу война была бескомпромиссной борьбой двух противоположных социальных систем, ожесточённой битвой между ударными силами империализма и социализмом. Вступление СССР в войну явилось решающим фактором перерастания 2-й мировой войны в справедливую, антифашистскую, освободительную войну. Советский Союз стал главной опорой народов в борьбе с империалистической агрессией, главной силой, способной организовать отпор агрессорам и их разгром.
Первыми удар врага приняли пограничные войска и дивизии, располагавшиеся вблизи границы. На всём фронте развернулись ожесточённые сражения.
Военные действия начались на рассвете 22 июня (на границе с Финляндией – 29 июня, на границе с Румынией – 1 июля).
Приграничные сражения 1941, боевые действия советских войск прикрытия и пограничных войск 22-29 июня в приграничных районах СССР на территории Южной Латвии, Литвы, Западной Белоруссии и Западной Украины против немецко-фашистских войск, вторгшихся в пределы Советского Союза.
Отражая превосходящие силы врага, личный состав многих застав полностью погиб. Внезапный удар врага и быстрое продвижение его танковых и моторизованных войск нарушили управление советскими войсками.
Западные границы СССР прикрывали войска Ленинградского (генерал-лейтенант М.М. Попов), Прибалтийского особого (генерал-полковник Ф.И. Кузнецов), западного Особого (генерал армии Д.Г. Павлов), Киевского Особого (генерал-полковник М.П. Кирпонос) и Одесского (генерал-полковник Я.Т. Черевиченко) военных округов (ВО), которые 22-24 июня были преобразованы соответственно в Северный, Северо-Западный, Западный и Юго-Западный фронты и 9-ю отдельную армию. 25 июня был создан Южный фронт (генерал армии И.В. Тюленев). Морские границы на Западе прикрывали Северный (контр-адмирал А.Г. Головко), Балтийский (вице-адмирал В.Ф. Трибуц), Черноморский (вице-адмирал Ф.С. Октябрьский) флоты. Соединения и части приграничных ВО не были отмобилизованы и развёрнуты на предусмотренных планом прикрытия рубежах, войска не были приведены заблаговременно в полную боевую готовность. К моменту вражеского нападения за линией погранзастав в 3-5 км от государственной границы располагались лишь отдельные роты и батальоны советских войск. Дивизии первых эшелонов армий прикрытия находились в районах удалённых от назначенных им рубежей развёртывания на 8-20 км, а вторые эшелоны, состоявшие в большинстве случаев из механизированных корпусов – в нескольких десятках км от границы. Внезапное нападение врага застало войска в районах расквартирования и в лагерях. Авиация приграничных ВО понесла большие потери на своих аэродромах, противник захватил господство в воздухе.
Превосходство противника над советскими войсками прикрытия было на ряде направлений 3-4 кратным и более. Например, на направлении главного удара группы армий «Север» против 6 советских стрелковых дивизий, выдвигавшихся к границе действовали 6 танковых, 1 моторизованная и 9 пехотных дивизий противника.
На Западном фронте, где наступала группа армий «Центр», против 4 советских дивизий действовали 4 танковые и 6 пехотных дивизий. Управление войсками было чрезвычайно затруднено, так как ударами авиации и действиями диверсионных групп противника в тылу советских войск были выведены из строя многие линии и узлы связи, нарушено снабжение боеприпасами и горючим.
Главный военный совет, не располагая достаточными сведениями об обстановке на границе, вечером 22 июня потребовал с утра 23 июня нанести по противнику решительные удары.
На подготовку ударов отводилось всего одна ночь. Предназначенные для них войска были уже втянуты в бои или находились далеко от исходных районов. Несмотря на тяжёлые условия, 23-25 июня войска Северо-Западного фронта нанесли на шяуляйском направлении контрудар силами 4 дивизий при поддержке дальнебомбардировочной авиации, в результате которого наступление противника под Шяуляем было задержано на 2 дня, но разгромить или остановить дальнейшее продвижение противника не удалось.
В полосе Западного фронта на гродненском направлении советские войска 6-го и 11-го механизированных и 6-го кавалерийского корпусов, и части сил 3-й армии нанесли 23-24 июня контрудар по противнику, но, несмотря на 2-дневные ожесточённые бои, им не удалось остановить здесь продвижение врага. С разрешения Ставки ВГК 25 июня эти войска начали отход в направлении Минского и Слуцкого укреплённых районов (УР).
На Юго-Западном фронте к 24 июня образовался 50-км разрыв между 5-й и 6-й армиями. В него устремились войска 1-й немецкой танковой группы. Для контрудара по прорвавшемуся противнику были привлечены силы 6-ти механизированных и 3-х стрелковых корпусов. Однако они вынуждены были вступить в сражение последовательно, по мере подхода к фронту, что не обеспечивало силы удара по противнику. 23-29 июня в районе Луцк, Броды, Ровно, Дубно произошло крупное танковое сражение.
Контрудар Юго-Западного фронта сыграл важную роль в срыве попыток противника прорваться с ходу к Киеву и его замысла по окружению главных сил Юго-Западного фронта на Правобережной Украине. По приказу Ставки с 30 июня войска Юго-Западного фронта начали отход на линию УР по старой госгранице для организации на ней упорной обороны.
* * *
Несмотря на героическое сопротивление, войска прикрытия не смогли задержать противника в приграничной зоне на всех трёх стратегических направлениях.
В целях сохранения сил советские войска вынуждены были отходить на новые рубежи.
Приграничные сражения завершились отходом войск Северо-Западного фронта к Западной Двине от Риги до Даугавпилса, Западного фронта в Минской УР и к Бобруйску и Юго-Западного фронта на линию восточнее Ровно, Острог, Кременец, Львов. Однако 11 дивизий 3-й и 10-й армий Западного фронта оказались в окружении между Белостоком и Минском (район Налибокской пущи), где вели бои до 8 июля, сковав здесь около 25 дивизий противника. Как великий образец патриотизма и героизма советских воинов вошли в историю оборона Брестской крепости, оборона военно-морской базы Лиепая, Таллина, Моонзундских островов и полуострова Ханко.
В результате неблагоприятного для Советского Союза исхода приграничных сражений, немецко-фашистские войска в короткие сроки продвинулись в северо-западном направлении на 400-450 километров, в западном – на 450-600 километров, юго-западном – на 300-350 километров. Захватили территорию Латвии, Литвы, часть Эстонии, значительную часть Украины, почти всю Белоруссию, Молдавию, вторглись в западные области Российской Федерации, вышли на дальние подступы к Ленинграду, угрожали Смоленску и Киеву. Над Советским Союзом нависла смертельная опасность. Под угрозой оказались завоевания Великой Октябрьской социалистической революции, свобода и независимость народов СССР.
* * *
По поручению Политбюро ЦК ВКП(б) и Советского правительства в 12 часов 22 июня 1941 года выступил по радио заместитель председателя Совнаркома, нарком иностранных дел В.М. Молотов с заявлением, в котором указывалось, что нападение фашистской Германии на СССР явилось беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. В этом заявлении партия и правительство призывали советский народ дать отпор агрессору и выразили твёрдую уверенность в победе над ним. В тот же день Президиум ВС СССР объявил о мобилизации военнообязанных 1905-1918 годов рождения.
Для стратегического руководства Вооружёнными Силами 23 июня была создана ставка Главного командования. Её рабочим органом стал Генеральный штаб.
Исходя из сложившейся обстановки, советское командование в конце июня приняло решение о переходе на всём советско-германском фронте к стратегической обороне. Перед войсками первого стратегического эшелона была поставлена задача – подготовить на направлениях главных ударов противника систему эшелонированных оборонительных полос и рубежей, опираясь на которые упорным и активным противодействием подорвать наступательную мощь врага, остановить его и выиграть время для подготовки контрнаступления.
ЦК ВКП(б) определил пути и способы достижения победы над немецко-фашистскими захватчиками. Эта программа была изложена в Директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года партийным и советским организациям прифронтовых областей. «Всё для фронта! Всё для победы!» — такова была главная идея Директивы. Она раскрывала справедливый, освободительный характер Великой Отечественно войны (ВОВ), определяла главные направления военной и экономической политики Советского государства на период войны, призывала советский народ оказывать всестороннюю поддержку действующим армиям. Её положения были затем изложены в выступлении генерального Секретаря ЦК ВКП(б), председателя СНК СССР и Государственного комитета обороны (ГКО) И.В. Сталина по радио 3 июля 1941 года и конкретизированы в ряде последующих решений и постановлений партии и правительства.
* * *
С целью объединения усилий фронта и тыла вся полнота власти в стране сосредоточивалась в руках образованного ещё 30 июня 1941 года Государственного комитета обороны (ГКО). 23 июня был введён в действие мобилизованный план по производству боеприпасов. 30 июня утверждён мобилизованный народно-хозяйственный план на 3-й квартал 1941. В связи с угрозой важным экономическим районам на Западе и Юге страны потребовалось немедленно переместить их промышленные предприятия на Урал, в Сибирь, Поволжье, Среднюю Азию. 24 июня был образован Совет по эвакуации при СНК СССР. В восточные районы страны во 2-й половине 1941, по неполным данным, было перебазировано оборудование 2593 промышленных предприятий (в т.ч. 1523 крупных), эвакуировано до 30-40% рабочих, инженеров и техников. Одновременно в тыл были вывезены запасы зерна и продовольствия, десятки тысяч тракторов и сельскохозяйственных машин, другие материальные и культурные ценности, колхозы и совхозы восточных районов страны во 2-м полугодии 1941 приняли около 2,4 миллиона голов скота, перемещённого из прифронтовой полосы. Вглубь страны были эвакуированы сотни научных институтов, лабораторий, школ, библиотек, а также уникальных произведений искусства из музеев Москвы, Ленинграда, Киева и других городов.
Организовалось народное ополчение. В тылу страны широко развернулось формирование новых соединений. 10 июля в целях приближения стратегического руководства к войскам были созданы главные командования войск Северо-Западного, Западного и Юго-Западного направлений. Для улучшения материального обеспечения войск действующей армии решением ГКО от 28 июля 1941 были учреждены Главное управление тыла и должность Начальника тыла Советской Армии.
В начале войны ЦК партии направил на руководящую работу в Советскую Армию и ВМФ, главным образом, в качестве членов военных советов и начальников политорганов фронтов, армий и соединений, 500 секретарей ЦК компартий республик, краёв, областных, городских и районных комитетов, 270 ответственных работников аппарата ЦК партии, 1265 работников областного и районного звена. Ещё в конце июня 1941 года было принято решение о массовой мобилизации коммунистов и комсомольцев на фронт.
На основании решения Политбюро ЦК ВКП(б) Президиум ВС СССР 16 июля 1941 года принял постановление «О реорганизации органов политической пропаганды и введения института военных комиссаров в рабоче-крестьянской Красной Армии», которое 20 июля было распространено и на ВМФ.
18 июля ЦК ВКП(б) принял постановление «Об организации борьбы в тылу германских войск». Оно обязывало республиканские, областные и районные комитеты партии развернуть в тылу врага широкую сеть подпольных партийных организаций, возглавить руководство действиями партизанских отрядов, диверсионных групп, боевых дружин.
С конца 1941 введено всеобщее обязательное обучение населения военному делу, которым было охвачено 9,8 миллиона человек.
Летом и осенью 1941на фронтах шли ожесточённые бои. На северо-западном направлении противнику удалось выйти на ближние подступы к Ленинграду и перерезать сухопутные коммуникации, связывавшие город со страной. Началась героическая оборона Ленинграда. Ленинградская битва 1941-1944 имела большое политическое и военно-стратегическое значение, сковала крупные силы немецко-фашистских войск и финскую армию. На московском направлении в Смоленском сражении 1941, развернувшемся на фронте до 650 километров и в глубину до 250 километров, был сорван план противника безостановочного наступления на Москву. Советские войска контрударами вынудили немецко-фашистские войска впервые за время 2-й мировой войны перейти на главном направлении к обороне. В этих боях родилась советская гвардия. В июле впервые было применено новое советское оружие – реактивные миномёты – «Катюши». В июле-сентябре советские войска вели ожесточённые бои и на юго-западном направлении, где противник рвался к Киеву и днепровским переправам.
В августе советские войска под натиском превосходящих сил врага, вынуждены были отойти к Днепру и к Одессе, а в сентябре были вынуждены оставить Киев, в октябре-ноябре 1941 года — западные районы Донбасса. Враг прорвался в Крым. Началась героическая оборона Севастополя, в ноябре 1941 противник овладел Ростовом-на-Дону.
Героическая оборона Ленинграда, Киева, Одессы, Севастополя, Смоленское сражение способствовали срыву немецко-фашистского плана «молниеносной войны» против Советского государства. В конце сентября – начале октября противник возобновил наступление на московском направлении. Началась Московская битва 1941-1942, ставшая одним из важнейших событий Великой Отечественной войны и 2-й мировой войны. Обескровленная ударная группировка немецких войск в начале декабря вынуждена была перейти к обороне. Большую роль в защите южных подступов к столице сыграла оборона Тулы. Успеху битве под Москвой способствовали Тихвинская и Ростовская наступательные операции 1941. В начале декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой, которое переросло в общее наступление и впервые с начала 2-й мировой войны немецко-фашистские войска потерпели крупное поражение. Победа Советской Армии под Москвой окончательно сорвала план «блицкрига» и развеяла миф и непобедимости фашистской армии. Немецко-фашистские войска перешли к обороне на всём советско-германском фронте. Это позволило выиграть время для формирования новых советских частей и соединений, для перестройки народного хозяйства на военный лад. Фашистская Германия была поставлена перед необходимостью веления затяжной войны.
* * *
Усилия советской внешней политики летом и осенью 1941 были направлены на сплочение свободолюбивых народов мира, на создание антигитлеровской коалиции. Необходимо было сорвать расчёты фашистского руководства на международную изоляцию СССР и организовать единый фронт государств для разгрома агрессоров. В июле 1941 Советское правительство подписало соглашение о совместных действиях в войне против Германии с правительствами Великобритании, Чехословакии и Польши. Значительную роль в развитии союзнических отношений между тремя великими державами сыграла Московская конференция 1941 представителей СССР, Великобритании и США по вопросу о военных поставках Советскому Союзу, состоявшаяся 29 сентября — 1 октября 1941. Она имела большое значение в мобилизации ресурсов государств коалиции на разгром агрессивного блока. В мае-июне 1942 в ходе переговоров между СССР, США и Великобританией было достигнуто решение о создании второго фронта в Европе в 1942.
* * *
Немецко-фашистское командование, будучи не в состоянии вести наступательные действия одновременно на всём советско-германском фронте, летом 1942 сосредоточило основные усилия войск на Юге с целью выхода в нефтяные районы Кавказа и плодородные районы Дона, Кубани, Нижней Волги. Фашистское руководство рассчитывало также, что победоносное завершение кампании позволит втянуть в войну против СССР Турцию и Японию. Неудачный для советских войск исход операции в мае 1942 в Крыму и в районе Харькова крайне осложнил обстановку на южном крыле советско-германского фронта. Противник снова захватил стратегическую инициативу и в конце июня 1942 развернул общее наступление. Под ударами его превосходящих сил советские войска отступили на 150-400 километров, оставили восточные районы Донбасса и правый берег Дона. В середине июля немецко-фашистские войска вышли в большую излучину Дона, создав реальную угрозу прорыва к Волге и на Кавказ.
17 июля начался оборонительный период величайшей во 2-й мировой войне Сталинградской битвы 1942-43, который продолжался до 18 ноября 1942. Советские войска, проявив стойкость и массовый героизм, сорвали план противника овладеть Сталинградом с ходу и нанесли ему большой урон в людях и технике.
В ходе обороны Кавказа, продолжавшейся с июля по декабрь, советские войска сорвали планы вражеского командования по захвату Кавказа, выиграли время для подготовки наступления. В мае-сентябре 1942 советское командование провело несколько частных наступательных операций на северо-западном, западном и воронежском направлениях. (Демянская операция 1942, Ржевско-Сычёвская операция 1942, Воронежско-Ворошиловоградская операция 1942).
* * *
В целом первый период войны был самым тяжёлым для советского народа и его Вооружённых Сил. Войска фашистской Германии захватили часть советской территории, на которой до войны проживало около 42% населения, производилась 1/3 валовой продукции промышленности СССР и значительная часть продовольствия. Однако фашистская Германия не добилась поставленных целей в войне с СССР. Её политические и военные планы потерпели крах. Зимой 1941-1942 на советско-германском фронте немецко-фашистские войска впервые за годы 2-й мировой войны понесли крупнейшее поражение.
В результате огромной работы партии и правительства, героических усилий трудящихся СССР к концу 1942 было создано слаженное и быстро растущее военное хозяйство. Боевые и трудовые подвиги советского народа обусловили коренной перелом в ходе борьбы с фашистской Германией в свою пользу. В суровых боях возросли политическая закалка и боевое мастерство командиров, всего личного состава Советской Армии. Был приобретён практический опыт в организации обороны, наступления и всех видов обеспечения войск и их боевых действий, в вопросах создания и использования резервов, организации боевого применения различных родов войск, а также видов Вооружённых Сил. К концу первого периода войны Советская Армия стала более сильной и опытной, способной решать сложные задачи, направленные на разгром врага.
Второй период войны (19 ноября 1942-конец 1943)
Ко 2-й половине ноября 1942 обстановка на советско-германском фронте оставалась напряжённой. Второй фронт в Западной Европе не был открыт, СССР продолжал вести один борьбу против блока фашистских государств. Противник дополнительно перебросил на советско-германский фронт 67 дивизий, сформировал 16 новых соединений и к ноябрю 1942 имел здесь 266 дивизий (свыше 6,2 млн. человек), около 52 тысяч орудий и миномётов, свыше 5 тысяч танков и штурмовых орудий, 3,5 тысяч боевых самолётов, 194 боевых кораблей. Никогда ещё на советско-германском фронте не находилось столько вражеских войск, как к ноябрю 1942. Однако, несмотря на сложные условия, в которых находилось Советское государство, его военное хозяйство уверенно наращивало темпы развития. Уж во 2-м полугодии 1942 советская военная промышленность производила вооружения больше, чем военная промышленность Германии.
К ноябрю 1942 в советской действующей армии насчитывалось 6,6 миллиона человек, свыше 78 тысяч орудий и миномётов (без зенитных орудий), свыше 7,35 тысяч танков, свыше 4,5 тысяч боевых самолётов. Увеличение производства боевой техники и вооружения, оснащение ими войск позволили во 2-й половине 1942 провести ряд крупных мероприятий по организованному совершенствованию всех звеньев Советских Вооружённых Сил. Создавались танковые армии смешанного состава, танковые и механизированные корпуса, артиллерийские дивизии резерва ВГК, были сформированы воздушные армии, однородные авиационные соединения. Дальнейшее развитие получила и организационная структура ВМФ, войск ПВО страны, специальных войск. Успешно решалась проблема создания стратегических резервов.
* * *
В этих условиях Ставка ВГК поставила перед СВС задачу в течение зимы 1942-43 разгромить вражеские войска на Южном Крыле советско-германского фронта и одновременно значительно улучшить стратегическое положение под Москвой и Ленинградом.
19 ноября 1942 началось контрнаступление советских войск под Сталинградом, в ходе которого они окружили 22 дивизии и 160 отдельных частей немецко-фашистских войск (330 тыс.чел). Стратегическая инициатива окончательно перешла к Советским Вооружённым Силам. По своему значению и размаху Сталинградская битва 1942-43 превзошла все битвы и сражения прошлого. В ней с обеих сторон одновременно участвовало свыше 2 млн. человек. Эта битва положила начало коренному перелому в войне, массовому изгнанию захватчиков с советской земли. И хотя война ещё продолжалась более двух лет, дальнейший ход событий был в значительной степени предопределён.
Победа под Сталинградом имела огромное международное значение. Она укрепила в свободолюбивых народах веру в неизбежность поражения гитлеровского блока. Усилилась борьба порабощённых народов Европы против фашистских оккупантов. Турция и Япония отказались от своего намерения выступать против СССР. Укрепилась антифашистская коалиция и возросла роль Советского Союза как ведущей силы этой коалиции.
На кавказском направлении советские войска, перейдя в наступление в январе, к началу апреля продвинулись на 500-600 км, освободив большую часть Северного Кавказа. На севере в январе 1943 советские войска осуществили прорыв блокады Ленинграда. Расчёты немецко-фашистского командования на удушение города в тисках блокады и его захват провалились. В январе-феврале 1943 были полностью разбиты острогожско-россошанская и воронежско-касторненская группировки врага. В марте 1943 на подступах к Харькову в районе Соколово получил боевое крещение сформированный на территории СССР 1-й отдельный Чехословацкий батальон.
* * *
Несмотря на поражение зимой 1942-43, фашистская Германия всё ещё обладала большой военной мощью. Стремясь вернуть стратегическую инициативу, гитлеровское руководство, проведя тотальную мобилизацию в Германии и странах-сателлитах, используя отсутствие второго фронта, сосредоточило на Восточном фронте значительные силы и летом 1943 предприняло крупное наступление в районе Курского выступа, которое было отражено советскими войсками.
Перейдя в контрнаступление, советские войска разгромили ударную группировку врага. В результате Курской битвы была сорвана последняя попытка немецко-фашистского командования захватить стратегическую инициативу. Немецкие войска понесли невосполнимые потери – около 0,5 млн. чел (из 0,9млн. чел участвовавших в битве), большое количество вооружения и вынуждены были перейти к стратегической обороне на всём советско-германском фронте. Курская битва стала одним из важнейших этапов на пути к победе СССР над фашистской Германией. Она привела к глубоким сдвигам в соотношении сил на советско-германском фронте и оказала решающее воздействие на развитие 2-й мировой войны. Началось общее стратегическое наступление Советской Армии на фронте свыше 2 тыс.км, от Великих Лук до Чёрного моря советские войска освободили Смоленск и Брянск, вышли в восточные районы Белоруссии, стремительно наступали к среднему течению Днепра, освободили важнейший экономический район – Донбасс, полностью освободили Таманский полуостров, а затем Киев.
К середине декабря советские войска освободили часть Калининской, всю Смоленскую область, часть Полоцкой, Витебской, Могилёвской и Гомельской областей, форсировали реки Десна, Сож, Днепр, Припять, Березина и вышли к Полесью. Началось освобождение восточных районов Белоруссии. 12 октября 1943 в боях под деревней Ленино (Могилёвская область)в составе советских войск начала свой боевой путь сформированная в СССР 1-я польская дивизия имени Т. Костюшко. С ноября 1942 по декабрь 1943 Советская Армия продвинулась на 500-1300 км и освободила около 50% оккупированной противником территории. На советско-германском фронте в этот период действовало от 236 до 266 дивизий фашистской Германии и её союзников, многие из которых были разгромлены советскими войсками, уничтожено до 7 тыс. танков, не считая штурмовых орудий, 14,3 тыс. боевых самолётов, около 50 тыс. орудий , потоплено 296 кораблей и судов различных классов.
Большой урон врагу нанесли советские партизаны. К середине 1943 на оккупированной территории действовали 24 подпольных областных, 222 уездных, окружных, городских и районных комитета партии, под руководством которых к концу года сражалось около 250 тыс. партизан и подпольщиков. Крупные партизанские отряды преобразовались в бригады и дивизии, командному составу присваивались воинские звания. В 1943 партизаны провели крупные операции по разрушению путей сообщения с кодовыми названиями «Рельсовая война» и «Концерт».
* * *
Разгромом немецко-фашистских войск в битве под Курском и выходом Советской Армии на Днепр завершился коренной перелом не только в Великой Отечественной войне, но и в ходе всей 2-й мировой войны, открылся прямой путь к полному разгрому фашистского блока. Успехи СВС в борьбе с фашизмом придали размах антифашистскому движению в оккупированных странах и в самой Германии, способствовали укреплению антигитлеровской коалиции. Усилилось Движение Сопротивления в оккупированных странах. Большие масштабы приняло в 1943 национально-освободительное движение в Польше, возглавляемое Польской рабочей партией. Под руководством Коммунистической партии Чехословакии были созданы подпольные радиоцентры, партизанские отряды и боевые группы, осуществлялись диверсионные акты на предприятиях, издавалась и широко распространялась антифашистская литература.
Активизировалась возглавляемая коммунистами героическая борьба народов Югославии против фашистских оккупантов. Росло партизанское движение в Болгарии, Греции, Албании, Франции и других оккупированных фашистами странах. Фашистское государство и созданный им «новый порядок» в Европе оказались перед катастрофой.
Операции союзников в 1943 были ограниченными, велись сравнительно небольшими силами союзников и вовлекали в активные военные действия по сравнению с советско-германским фронтом незначительную часть войск фашистского блока. Правящие круги Великобритании и США преднамеренно затягивали открытие второго фронта в соответствии с их политикой, направленной на взаимное истощение СССР и фашистской Германии, желая установить своё господство в Европе и во всём мире.
* * *
Для СССР 2-я половина 1942-1943 стала временем перелома не только на фронтах, но и в работе тыла. В великом трудовом подвиге рабочего класса большую роль сыграли женщины и дети. Они вынесли на своих плечах основную тяжесть труда в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте. В 1943 по сравнению с 1942 общий объём промышленного производства увеличился на 17% (в Германии – на 12%). Строились новые металлургические заводы и расширялись существовавшие на Урале и в Сибири, резко увеличилась добыча угля в Кузбассе, были введены в строй новые электростанции. На базе успешного развития тяжёлой промышленности быстро развёртывалось военное производство, рост которого позволил повысить уровень технического оснащения СВС. Они во всё большем количестве получали боевую технику и вооружение, превосходившее по ряду показателей технику и вооружение капиталистических армий. Это прежде всего самоходные артиллерийские установки (САУ), модернизированные танки, истребители, штурмовики и бомбардировщики новых типов, а также артиллерийские орудия.
Были восстановлены стрелковые корпуса, упразднённые в 1941, созданы более мощные танковые и механизированные соединения, танковые армии однородного состава, включавшие в себя танковые и механизированные корпуса. Формировались артиллерийские корпуса и дивизии прорыва, истребительно-противотанковые артиллерийские соединения и части и другие.
В ноябре 1942 завершилось формирование воздушных армий действующих фронтов. Благодаря самоотверженному труду советского народа успешно восстанавливалось промышленное производство в освобождённых районах.
Огромную помощь в развитии промышленности, сельского хозяйства оказали учёные. Ярким проявлением советского патриотизма являлась добровольная финансовая помощь трудящихся государству, в результате дополнительно были направлены на фронт самолёты, танки и другая военная техника. Широкое распространение получили сбор вещей и подарков для воинов, денежных средств от населения в Фонд обороны, донорство, способствовавшее возвращению в строй воинов после ранений.
Во втором периоде войны дальнейшее развитие получило советское военное искусство. В результате побед Советский Армии неизмеримо выросли престиж СССР на международной арене и его роль в решении важнейших вопросов мировой политики.
Это ярко проявилось на Тегеранской конференции 1943, где руководители трёх держав – СССР, США и Великобритании – согласовали планы и сроки совместных действий по разгрому врага, об открытии в течение мая 1944 второго фронта в Европе.
Третий период войны (январь 1944 – 9 мая 1945)
Разгром фашистского блока, изгнание вражеских войск за пределы СССР, освобождение от оккупации стран Европы, полный крах фашистской Германии и её безоговорочная капитуляция.
К январю 1944 немецко-фашистские войска продолжали оккупировать Эстонию, Латвию, Литву, Карелию, значительную часть Белоруссии, Украины, Ленинградскую и Калининскую области, Молдавию и Крым. Вооружённые силы противника насчитывали свыше 10 млн. чел. Однако положение фашистской Германии резко ухудшилось. Несмотря на продолжавшийся до июля 1944 рост военной продукции, экономика Германии вступила в полосу непреодолимых затруднений. Крайне обострилось положение с людскими резервами. Потери на советско-германском фронте опытных кадров, составившие свыше 1,2 млн. чел в июле-ноябре 1943, к началу 1944 были возмещены новыми мобилизациями менее чем на ¾ и к тому же слабо подготовленным составом.
К началу 1944 немецко-фашистская армия имела 314 дивизий и 8 бригад. На советско-германском фронте находилось 198 дивизий и 6 бригад, а также 38 дивизий и 18 бригад её союзников. В действующей армии насчитывалось около 6,7 млн. чел., из них на советско-германском фронте – около 5 млн. чел. Противник имел здесь около 54,6 тыс. орудий и миномётов, 5400 танков и штурмовых орудий и более 3 тыс. самолётов. Враг перешёл к жёсткой позиционной обороне, и требовались большие усилия для его разгрома.
* * *
Общая военно-политическая и стратегическая обстановка в сравнении с первыми годами войны коренным образом изменилась в пользу СССР и его Вооружённых Сил.
В СССР производство стали составило 10,9 млн. т., чугуна – 7,3 млн. т, каменного угля – 121,5 млн. т., нефти – 18,3 млн. т. В 1942-44 было построено в восточных районах 2250 крупных промышленных предприятий и восстановлено в освобождённых районах свыше 6 тыс. предприятий. Широко развернулось восстановление промышленности и сельского хозяйства в освобождённых районах РСФСР, на Украине и в Белоруссии. В 1944 восстановлено свыше 24 тыс. км. железных дорог. Оборонная промышленность в 1944 ежемесячно производила танков и самолётов в 5 раз больше, чем в 1941, достигнув максимального уровня за время войны. Сельское хозяйство благодаря героическому труду колхозного крестьянства добилось увеличения производства хлеба, животноводческой продукции. В 1944 посевные площади страны увеличились по сравнению с 1943 на 16 млн.Га.
К началу 1944 в действующей армии СССР было более 6,3млн. чел, свыше 83,6 тыс. орудий и миномётов (без зенитных орудий и 50-мм миномётов), около 5,3 тыс. танков и САУ, 10,2 тыс. боевых самолётов. Однако подавляющего превосходства СВС над немецко-фашистскими войсками в силах и средствах (за исключением артиллерии и авиации) ещё не было. Обстановка на морских театрах войны определялась боевыми действиями на суше.
Противник ещё удерживал в своих руках ряд советского военно-морских баз, вследствие чего возможности базирования и операции Балтийского и Черноморского флотов были ограничены.
Перед Советской Армией стояла задача завершить освобождение от врага советской земли, оказать помощь народам Европы в освобождении от фашистского ига, закончить войну полным разгромом врага на территории самой Германии. В декабре 1943-апреле 1944 советские войска в ходе наступления на Правобережной Украине (Житомирско-Бердичевская, Кировоградская, Корсунь-Шевченковская, Ровно-Луцкая, Никопольско-Криворожская, Проскуровско-Черновицкая, Уманско-Ботошанская, Березнеговато-Снигирёвская, Полесская и Одесская операции) развернувшегося на фронте до 1300-1400 км, разгромили противостоявшую группировку врага, и вышли на государственную границу, в предгорья Карпат и на территорию Румынии.
В результате Ленинградско-Новгородской операции 1944 были освобождены Ленинградская и часть Калининской области, окончательно снята блокада Ленинграда. Весной 1944 был освобождён Крым.
* * *
Победы советских войск показали, что СВС способны сами завершить разгром Германии и освободить народы Европы от гитлеровского ига. Это заставило правящие круги США и Великобритании отказаться от политики дальнейшего оттягивания сроков открытия второго фронта в Европе и 6 июня 1944 начать вторжение в Северную Францию. Высадке союзников в Нормандии благоприятствовала общая военно-стратегическая обстановка, сложившаяся к тому времени в результате действий СВС на советско-германском фронте. Зимой и весной 1944 Советская Армия разгромила свыше 170 дивизий противника. Для восстановления этих потерь враг перебросил с Запада на советско-германский фронт свыше 40 дивизий, ослабив тем самым группировку своих войск на Западе.
К началу июня 1944 на советско-германском фронте действовало 239 дивизий противника, в том числе 181 немецко-фашистская. Во Франции, Бельгии и Нидерландах оставалось 58 германских дивизий низкой боеспособности. Свыше половины из них почти не имели автотранспорта, а около 20 формировались и восстанавливались. Высадку и последующие действия англо-американских войск облегчили СВС.
* * *
Как было обусловлено ранее Тегеранской конференцией, они развернули летом 1944 мощное стратегическое наступление в Карелии (Выборгско-Петрозаводская операция 1944), в Белоруссии (Белорусская операция 1944), в Западной Украине (Львовско-Сандомирская операция 1944) и Молдавии (Ясско-Кишинёвская операция 1944). В Карелии советские войска продвинулись на 110-250 км. Это привело к изменению обстановки на всём северном участке советско-германского фронта и ускорило выход Финляндии из войны.
В ходе Белорусской операции советские войска разгромили оборонявшуюся в Белорусском выступе группировку противника и освободили Белоруссию, большую часть Литвы и Латвии, восточную часть Польши и подошли к границам Восточной Пруссии, продвинувшись на 550-600 км и расширив фронт наступления более чем на 1000 км.
В результате Львовско-Сандомирской операции были освобождены западные области Украины и юго-восточная часть Польши. В ходе Ясско-Кишинёвской операции уничтожены 22 немецко-фашистские дивизии и разгромлены почти все румынские дивизии, находившиеся на фронте. Это привело к краху обороны противника на южном крыле советско-германского фронта, изменило всю военно-политическую обстановку на Балканах. Создались благоприятные условия для победы антифашистского вооружённого восстания румынского народа. Румыния вышла из войны на стороне фашистского блока и 24 августа объявила войну Германии.
Наступление Советской Армии осенью 1944 на южном направлении оказало непосредственную помощь болгарскому, венгерскому, югославскому и чехословацкому народам в их освобождении от фашизма. Советские войска в сентябре пересекли румыно-болгарскую границу. 9 сентября в Софии под руководством Коммунистической партии Болгарии произошло вооружённое восстание. К власти пришло правительство Отечественного фронта, которое объявило войну Германии. В сентябре-октябре 1944 советские войска провели Восточно-Карпатскую операцию, освободили часть Чехословакии и оказали помощь Словацкому национальному восстанию 1944. В дальнейшем Советская Армия совместно с войсками Румынии, Болгарии, Югославии продолжала мощное наступление с целью освобождения Венгрии (Дебреценская операция 1944, Будапештская операция 1944-45), и Югославии (Белградская операция 1944). В сентябре-ноябре советские войска провели Прибалтийскую операцию 1944, завершившуюся освобождением почти всей Прибалтики (29 дивизий разгромлены, около 33 изолированы в Курляндии и блокированы). В октябре Советская Армия и ВМФ освободили Северное заполярье, северные районы Норвегии (Петсамо-Киркенесская операция 1944). Таким образом, СВС в 1944 разгромили основные группировки противника. Только за лето и осень противник потерял 1,6 млн. чел. Фашистская Германия лишилась почти всех своих европейских союзников, фронт приблизился к её границам, а в Восточной Пруссии перешагнул их.
* * *
С открытием второго фронта положение фашистской Германии ухудшилось. Зажатая в тисках двух фронтов, она уже не могла свободно перебрасывать силы с Запада на Восток, ей пришлось проводить новую тотальную мобилизацию, чтобы в какой-то мере восполнить потери на фронте. В то же время наметилась координация военных действий Советских Вооружённых Сил с вооружёнными силами союзников. Это особенно проявилось зимой 1944-45, когда в результате наступления немецко-фашистских войск в Арденнах англо-американские войска попали в тяжёлое положение. В связи с этим, по просьбе Черчилля, советские войска в январе 1945 ранее запланированного срока перешли в наступление от Балтики до Карпат и уже в начале февраля вышли на подступы к Берлину. Это оказало решающее влияние на срыв контрнаступления немецко-фашистских войск на Западном фронте, способствовало действиям войск союзников.
В январе-1-й половине апреля 1945 в результате мощного стратегического наступления Советской Армии на всём советско-германском фронте (Восточно-Прусская операция 1945, Восточно-Померанская операция 1945, Нижнесилезская операция 1945, Верхнесилезская операция 1945) были разгромлены главные группировки немецко-фашистских войск, освобождены почти вся Польша, значительная часть Чехословакии, Венгрия, восточная часть Австрии со столицей Веной. Советские войска вышли к Одеру и захватили Кюстринский плацдарм на левом берегу реки. Немецко-фашистское командование, находясь перед явной угрозой поражения, стремились вызвать раскол в антифашистской коалиции и добиться сепаратного мира с США и Великобританией. Наиболее реакционные элементы правящих кругов США и Великобритании в тайне от СССР пытались вести переговоры с Германией. Советский Союз продолжал добиваться укрепления антигитлеровской коалиции. Решающие победы СВС способствовали успеху Крымской конференции 1945 руководителей СССР, США и Великобритании, на которой были согласованы вопросы, связанные с завершением разгрома Германии и с её послевоенным положением. Было также достигнуто соглашение о вступлении СССР в войну против империалистической Японии через 2-3 месяца после окончания войны в Европе.
В ходе Берлинской операции 1945 Советские войска овладели столицей Германии. Было разгромлено 93 дивизии противника и большое количество отдельных частей, взято в плен около 480 тыс. человек, захвачено огромное количество боевой техники. Советские войска, продолжая наступление, встретились с войсками союзников. Берлинская операция – одна из крупнейших во 2-й мировой войне. Характеризуется исключительно высокой напряжённостью борьбы с обеих сторон, подготовлена и проведена СВС на основе всестороннего учёта и творческого использования накопленного в ходе войны богатейшего опыта. 8 мая 1945 в Карлхорсте (пригород Берлина) был подписан Акт о безоговорочной капитуляции вооружённых сил фашистской Германии.
6-11 мая советские войска, оказывая помощь восставшему (1-5 мая) населению Праги и других районов Чехословакии, разгромили немецко-фашистские войска, отказавшиеся капитулировать.
День 9 мая стал Днём Победы над фашистской Германией. В связи с окончанием войны в Европе состоялась Берлинская конференция 1945 глав правительств великих держав – СССР, США и Великобритании. На ней были обсуждены проблемы послевоенного устройства мира в Европе и приняты решения по ряду вопросов.
Разгром милитаристской Японии (9 августа – 2 сентября 1945)
С капитуляцией Германии война в Европе завершилась, но продолжалась война с Японией на Дальнем Востоке и Тихом океане, которую вели США, Великобритания и их союзники. Япония, несмотря на значительные потери, ещё обладала крупными вооружёнными силами, особенно сухопутными войсками (5,5 млн.чел), и продолжала оказывать сопротивление. Американо-английское командование рассчитывало закончить войну с Японией через 1,5 года после разгрома Германии. После нападения фашистской Германии на СССР Япония, несмотря на договор с Советским Союзом о нейтралитете, активно помогала Германии. Японские империалисты держали крупную группировку войск на территории Маньчжурии и Кореи, ожидая благоприятного момента для нападения на СССР и сковывая до 40 советских дивизий на Дальнем Востоке; Японией нарушалась госграница СССР, чинились препятствия судоходству.
5 апреля 1945 советское правительство денонсировало договор с Японией о нейтралитете. Для ликвидации очага войны на Дальнем Востоке, скорейшего установления мира во всём мире, обеспечения безопасности СССР, выполняя союзнические обязательства, принятые на Крымской конференции, Советский Союз 8 августа объявил войну Японии. 9 августа начались военные действия.
Военно-политическое руководство США в 1945 монопольно владело атомным оружием и рассматривало его как важнейшее средство для утверждения своего мирового господства. 6 и 9 августа авиация США сбросила на японские города Хиросима и Нагасаки две атомные бомбы с тротиловым эквивалентом 20 тыс.т. каждая, в результате чего пострадало около 500 тыс. мирных жителей. Такие действия военно-политического руководства США вызывались не военной необходимостью, а стремлением продемонстрировать ядерную мощь, устрашить народы мира и оказать давление на СССР при решении послевоенных проблем.
* * *
Советские войска, ведя наступление на фронте свыше 5 тыс. км, во взаимодействии с Тихоокеанским флотом и Амурской военной флотилией за 23 дня разгромили почти миллионную Квантунскую армию и японские войска на Южном Сахалине и Курильских островах, освободили Северо-Восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. Вместе с советскими войсками в войне участвовали войска Монгольской народной республики (МНР).
2 сентября 1945 в Токийской бухте на борту американского линкора «Миссури» представители Японии подписали акт о безоговорочной капитуляции. Разгром Квантунской армии явился решающим вкладом СССР в победу над Японией.
Был ликвидирован очаг агрессии на Дальнем Востоке, усилилось национально-освободительное движение народов Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Огромную помощь СССР оказал китайскому и корейскому народам. Освобождённый Северо-Восточный Китай стал надёжной базой революционных сил страны.
Маньчжурская операция 1945, стратегическая наступательная операция СВС и войск Монгольской народно-революционной армии, проведённая 9 августа-2 сентября, с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения Маньчжурии и Северной Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и военно-экономической базы Японии на Азиатском континенте. К началу Маньчжурской операции (М.О) на территории Маньчжурии и Северной Кореи была сосредоточена крупная стратегическая группировка японских и марионеточных войск. Её основой являлась Квантунская армия (генерал О. Ямада) в состав которой входили 3 фронта, 4-я отдельная армия (всего 31 пехотная дивизия, 11 пехотных и 2 танковые бригады, бригада смертников, отдельные части), две воздушные армии, Сунгарийская военно-речная флотилия. Главнокомандующему Квантунской армией подчинялись марионеточные войска: армия Маньчжоу-Го (2 пехотные и 2 кавалерийские дивизии, 12 пехотных бригад, 4 отдельных кавалерийских полка), армия Внутренней Монголии под командованием князя Дэвана (4 пехотные дивизии и Суйюаньская армейская группа (5 кавалерийских дивизий и 2 кавалерийские бригады). Всего в войсках противника насчитывалось свыше 1 млн. чел, 6260 орудий и миномётов, 1155 танков, 1900 самолётов, 25 кораблей. 1/3 войск вражеской группировки располагалась в приграничной зоне, главные силы – в центральных районах Маньчжурии. У границ с Советским Союзом и МНР имелось 17 укреплённых районов.
В течение мая — начале августа Советское командование перебросило на дальний Восток часть высвободившихся на Западе войск и техники (свыше 400 тыс. чел., 7137 орудий и миномётов. 2119 танков и САУ и др). Вместе с дислоцированными на Дальнем Востоке войсками перегруппированные соединения и части составили 3 фронта: Забайкальский (командующий Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский), 1-й Дальневосточный (командующий Маршал Советского Союза К.А. Мерецков), 2-й Дальневосточный (командующий генерал армии М.А. Пуркаев) – всего 131 дивизия и 117 бригад, свыше 1,5 млн. чел, свыше 27 тыс. орудий и миномётов, 5250 танков и САУ, свыше 3,7 тыс. самолётов. Сухопутную границу СССР прикрывал 21 укреплённый район. К проведению М.О. привлекались силы Тихоокеанского флота (около 165 тыс. чел, 416 кораблей, в т.ч. 2 крейсера, 1 лидер, 12 эсминцев, 78 подводных лодок, 1382 боевых самолёта, 2550 орудий и миномётов, командующий адмирал И.С. Юмашев), Амурская военная флотилия (12,5 тыс. чел, 126 кораблей, 68 боевых самолётов, 199 орудий и миномётов, командующий контр-адмирал Н.В. Антонов), а также пограничные войска Приморского, Хабаровского и Забайкальского пограничных округов.
Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке был Маршал Советского Союза А.М. Василевский, главнокомандующий монгольскими войсками – маршал МНР Х. Чойболсан. Действия сил ВМФ и ВВС координировали адмирал флота Н.Г. Кузнецов и Главный Маршал авиации А.А. Новиков.
Замысел советского командования предусматривал нанесение двух основных (с территории МНР и Приморья) и нескольких вспомогательных ударов по сходящимся в центре Маньчжурии направлениям. Глубокий охват главных сил Квантунской армии, рассечение их и разгром по частям, овладение важнейшими военно-политическими центрами – Шэньяном, Чанчунем, Харбином, Гирином. М.О. проводилась на фронте 2700 км (активный участок, на глубину 200-800 км). Включала Хингано-Мукденскую, Харбино-Гиринскую и Сунгарийскую операции. 9 августа передовые и разведывательные отряды трёх советских фронтов начали наступление. К 20 августа Советские войска продвинулись в глубь Северо-Восточного Китая с Запада на Восток на 400-800 км, с Востока и Севера – на 200-300 км, вышли на Маньчжурскую равнину, расчленили японские войска на ряд изолированных группировок и завершили их окружение. С 19 августа японские войска почти повсеместно стали сдаваться в плен. Чтобы ускорить этот процесс и не дать противнику возможности вывести или уничтожить материальные ценности, с 18 по 27 августа были высажены воздушные десанты в Харбине, Шэньяне, Чанчуне, Гирине, Люйшуне, Даляне, Пхеньяне и других городах, а также использованы подвижные передовые отряды. Успешные проведение МО позволило в сравнительно короткие сроки освободить Южный Сахалин и Курильские острова.
За боевые отличия 220 соединений и частей получили почётные наименования «Хинганские», «Амурские», «Уссурийские», «Харбинские», «Мукденские», «Порт-Артурские», и др. 92 воина удостоены звания Героя Советского Союза.
Военно-политические итоги и уроки войны
Победа народов СССР над фашистской Германией и милитаристской Японией имела всемирно-историческое значение, оказала огромное влияние на всё послевоенное развитие человечества. Были защищены социалистические завоевания советского народа, человечество избавлено от угрозы фашистского порабощения, спасена мировая цивилизация, оказана помощь многим народам Европы в освобождении от фашистского рабства, в том числе и немецкому народу. Советские Вооружённые Силы выполнили свой интернациональный долг и в отношении порабощенных милитаристской Японией народов Китая и Кореи. Около 7 млн. советских воинов непосредственно участвовало в освобождении 11 европейских стран и свыше 1,5 млн. в освобождении Северо-Восточных Китая (Маньчжурии) и Северной Кореи.
Разгром германского фашизма и японского империализма привёл к падению реакционных режимов в ряде государств Европы и Азии. В результате осуществления социалистических революций в ряде европейских и азиатских стран образовалась мировая социалистическая Система, углубился общий кризис капитализма, ускорилось развитие мирового революционного процесса.
Великая Отечественная война была тяжелейшей из всех войн мировой истории. Она унесла свыше 27 млн. жизней советских людей, большая часть из них – гражданское население, погибшее в гитлеровских лагерях смерти, в результате фашистских репрессий, болезней, голода. Более 1 млн. воинов СВС отдали свои жизни при освобождении народов Европы и Азии. Фашисты превратили в руины тысячи городов, посёлков, сёл и деревень Советского Союза. Только прямой материальный ущерб государству и населению составил 679 млрд. руб. (в ценах 1941).
* * *
Экономической базой победоносной Великой Отечественной войны была социалистическая экономика. В СССР было создано слаженное военное хозяйство, достигнуто единство фронта и тыла. Советские люди проявили массовый трудовой героизм, совершили подвиг, равному которому ещё не знала история. Они выиграли небывалую битву за металл и хлеб, топливо и сырьё, за создание могучего советского оружия. Заменив в труде ушедших на фронт отцов и братьев, сыновей и мужей, женщины работали в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте. Боевым помощником партии в решении задач на фронте и в тылу был Ленинский комсомол.
Результаты деятельности Академии наук СССР и других научных учреждений позволили непрерывно расширять производственную и сырьевую базу, фронт работ по конструированию и модернизации военной техники, её массовому производству. Крупные учёные были привлечены для работы в управлениях и комитетах при ГКО и СНК СССР, а также в наркоматах и различных комиссиях. Во время войны сеть научных учреждений в стране не сократилась. К концу 1945 в СССР насчитывалось 2061 научное учреждение, в т.ч. 914 научно-исследовательских институтов и их филиалов.
Преодолев исключительные трудности советская промышленность значительно превзошла промышленность Германии как по масштабам военного производства, так и по качеству военной техники. С 1 июля 1941 по 1 сентября 1945 в СССР было выпущено 112,1 тыс. боевых самолётов, около 102,8 тыс. танков и САУ, 834 тыс. орудий и миномётов.
Большой вклад в организацию военной экономики внесли наркомы Б.Л. Ванников, В.В. Вахрушев, П.Н. Горемыкин, А.И. Ефремов, А.Г. Зверев, В.А. Малышев, П.И. Паршин, М.Г. Первухин, И.Ф. Тевосян, Д.Ф. Устинов, А.И. Шахурин и др. Упорно трудились над созданием высококачественного оружия и военные конструкторы.
Ярким проявлением советского патриотизма являлась добровольная финансовая помощь трудящихся государству, позволившая дополнительно направить на фронт 2565 самолётов, несколько тыс. танков и много другой военной техники. Поступления денежных средств от населения в Фонд обороны, в Фонд Красной Армии и др, по займам и лотереям составили свыше 100 млрд. рублей. Советский патриотизм проявился и в донорском движении, в котором участвовали 5,5млн. человек. За время войны они дали фронту около 1,7 млн. литров крови, что в большой степени способствовало возвращению в строй воинов после ранений.
Главным творцом победы в войне был советский народ, совершивший под руководством Коммунистической партии подвиг, в котором слиты воедино величайшее мужество воинов, партизан, участников подполья, самоотверженность тружеников тыла – рабочих, колхозников, интеллигенции. На протяжении всей войны фронт и тыл представляли собой единый боевой лагерь.
В жёсткой схватке с фашизмом беззаветную преданность партии и народу, любовь к Родине, массовый героизм проявили воины армии и флота, бойцы народного ополчения, партизаны и подпольщики. Советский народ хранит в памяти имена своих сыновей и дочерей, героически отдавших жизнь в боях за Родину, таких, как Н.Ф. Гастелло, А.К. Горовец, Л.М. Доватор, Д.М. Карбышев, З.А. Космодемьянская, А.М. Матросов, И.В. Панфилов, В.В. Талалихин.
За подвиги на фронтах ВОВ свыше 11 тыс. советских воинов удостоены звания Героя Советского Союза, 104 из них получили это звание дважды, а Г.К. Жуков, И.Н. Кожедуб, А.П. Покрышкин – трижды. Четыре Героя Советского Союза – артиллеристы А.В. Алёшин, Н.И. Кузнецов, лётчик И.Г. Драченко и командир стрелкового взвода П.Х. Дубинда были награждены также орденами Славы трёх степеней. Орденами и медалями было награждено свыше 7 млн. человек. Свыше 350 советских воинов, совершивших особо выдающиеся подвиги, навечно зачислены в списки частей и кораблей. Соединениям, частям и кораблям СВС вручено свыше 10,9 тыс. орденов.
С беспримерным мужеством сражались с врагом советские партизаны и подпольщики, внёсшие значительный вклад в победу над фашизмом. 127 тыс. партизан награждены медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й и 2-й степени, свыше 184 тыс. партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями СССР, а 248 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Высоко оценён трудовой подвиг рабочего класса СССР, колхозного крестьянства и интеллигенции. За время войны награждено орденами и медалями свыше 204 тыс. тружеников тыла. 201 человек получил звание Героя Социалистического труда. Свыше 16 млн. трудящихся награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». Орденами и медалями награждены сотни предприятий промышленности, транспорта, строительных организаций и сельского хозяйства, ряд НИИ.
В честь исторических побед Советской Армии и подвига советского народа в войне в СССР сооружено большое количество военных мемориалов. Апофеозом всенародной скорби о павших героях является Могила Неизвестного солдата у Кремлёвской стены в Москве.
Как символ признания великих заслуг Советской Армии воздвигнуты многочисленные военные мемориалы в городах и сёлах Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии, Австрии, КНДР, КНР и других стран. Величественный памятник героическому подвигу советского народа и его Вооружённых Сил сооружён в Трептов-парке.
Победа явилась ярким свидетельством неоспоримого превосходства советской военной науки и военного искусства над военной наукой и военным искусством фашистской Германии, продемонстрировала высокий уровень стратегического руководства и боевого мастерства советских военачальников.
Коммунистическая партия воспитала плеяду военачальников, которые успешно осуществляли руководство операциями на суше, на море и в воздухе. За выдающиеся успехи в организации и осуществлении вооружённой борьбы на фронтах Великой Отечественной войны высшим военным орденом «Победа» дважды награждены И.В. Сталин, Г.К. Жуков, А.М. Василевский. Ордена «Победа» удостоены А.И. Антонов, Л.А. Говоров, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков, К.К. Рокоссовский, С.К. Тимошенко и Ф.И. Толбухин.
На важнейших участках государственного, партийного и военного руководства находились А.А. Андреев, Н.А. Вознесенский, К.Е. Ворошилов, А.А. Жданов, М.И. Калинин, А.Н. Косыгин, А.И. Микоян, В.М. Молотов, И.В. Сталин, Н.М. Шверник, А.Х. Щербаков и другие.
На фронт было направлено1,5 млн. коммунистов. За время войны в партию было принято 5 млн. 319тыс человек. КПСС была подлинно сражающейся партией. Тяжёлые испытания в годы войны (в борьбе с фашистскими захватчиками погибло свыше 3млн. коммунистов) не ослабили партию. Она выросла количественно и закалилась идейно. К концу войны в армии и на флоте находилось свыше 3,3 млн. коммунистов (60% всех членов партии). Огромное влияние на армейскую молодёжь оказывал комсомол. В армию и на флот было направлено 3,5 млн. комсомольцев. В годы войны в ВЛКСМ вступило около 12 млн. человек, в т.ч. 5 млн. воинов.
Война обнажила перед народами всего мира истинного виновника агрессии – империализм и его наиболее опасные порождения – фашизм и милитаризм и со всей остротой поставила вопрос о том, чтобы не допустить развязывания новой, ещё более кровавой мировой войны, обуздать агрессивные силы империализма, обеспечить прочный мир во всём мире.
Итоги минувшей войны – суровое предупреждение нынешним претендентам на мировое господство.
Империалисты США, Великобритании, ФРГ, Японии и других стран и их идеологи, преследуя свои корыстные классовые цели, стремятся извратить причины возникновения и характер войны, принизить роль СССР и преувеличить роль западных держав в разгроме фашизма.
Народы Советского Союза и его Вооружённые Силы сыграли решающую роль в победоносном исходе 2-й мировой войны. На протяжении почти четырёх лет советско-германский фронт приковывал к себе основную массу сил и средств фашистской Германии. Против советских войск в различные периоды войны действовало от 190 до 266 наиболее боеспособных дивизий фашистского блока, в то время как англо-американским войском в северной Африке в 1941-43 противостояло от 9 до 20 дивизий, в Италии в 1943-45 – от 7 до 26, в Западной Европе после июня 1944 – от 56 до 75 дивизий. На советско-германском фронте были разгромлены и пленены основные силы фашистского блока – 607 дивизий, тогда как союзники за всё время войны разгромили и пленили 176 дивизий. 80% общих потерь немецко-фашистская армия понесла в боях и сражениях с Советской Армией. Урон в личном составе нанесённый немецко-фашистским войскам на советско-германском фронте был в 4 раза больше, чем на Западно-европейском и Средиземноморском театрах военных действий вместе взятых. На советско-германском фронте была уничтожена и основная часть военной техники противника – до 75% танков и штурмовых орудий, свыше75% самолётов, 74% орудий.
Поражение фашистской Германии они объясняют ошибками и просчётами Гитлера, огромной величиной территории и многочисленностью населения СССР, суровым климатом, плохими дорогами и другими причинами. Однако буржуазным идеологам не удастся исказить истинную правду. Советские Вооружённые Силы стали главной силой, преградившей путь германскому фашизму к мировому господству. Они остановили нашествие гитлеровских полчищ, уничтожили главные силы вермахта, довели вооружённую борьбу до окончательной победы, последовательно выполнили свою освободительную интернациональную миссию. СССР вынес на своих плечах основную тяжесть войны.
Буржуазные фальсификаторы истории, пытаясь принизить роль СССР в разгроме фашизма, преувеличивают также экономическую помощь, оказанную Советскому Союзу США и Великобританией. В действительности поставки США по ленд-лизу в СССР были относительно незначительные – около 4% производства промышленной продукции в СССР. К тому же Советский Союз не всегда получал именно то, в чём он особенно нуждался, и не в то время, когда поставки были особенно необходимы. В то же время за годы войны США получили от СССР в виде так называемого обратного ленд-лиза 300 тыс.т. хромовой руды, и 32 тыс.т. марганцевой руды, а также много другой ценной продукции.
Разгром Японии[95]
Бытует мнение, что Сталин после Победы над Германией отошёл от военных дел – это не верно. Наряду с огромной работой по восстановлению народного хозяйства он продолжал выполнять обязанности Верховного Главнокомандующего. Война с Японией легла на его плечи в полном объёме.
Впервые о войне с Японией Сталин заговорил ещё при подготовке завершающих операций против Германии. Перед взятием Кенигсберга Сталин сказал Василевскому:
— В Ялте мы договорились о войне на Дальнем Востоке против японцев. Уже сейчас надо готовить к переброске туда несколько лучших армий. Их мы возьмём в том числе и из Восточной Пруссии. Я хочу, чтобы именно вы наметили эти армии. Ставка предполагает поручить вам руководство боевыми действиями против японцев…
* * *
У Сталина были необходимые справочные данные о японской армии и последние разведсводки, но он решил узнать более подробно о предстоящем противнике.
— Товарищ Ильичёв, мне известны общие сведения о японских укреплениях вдоль монгольской и советской границы. Доложите о них подробнее.
— Вдоль западных границ Маньчжоу-Го имеется четыре укрепрайона; на севере, вдоль Амура – пять; на Востоке, севернее и южнее Ханко, – восемь. Все они, товарищ Сталин, вначале предназначались для подготовки агрессии против Советского Союза, но теперь переоборудуются исключительно для обороны. Каждый из них включает до семи узлов сопротивления, насыщенных цепью опорных пунктов. Они занимают господствующие высоты, имеют перекрёстную огневую связь. Фланги же, как правило, упираются в труднодоступную местность – в болота или горы…
— А не удалось ли нашим разведчикам, товарищ Ильичёв, добраться до планов японского командования?- спросил с лёгкой иронией Верховный.
— Удалось, товарищ Сталин, — тоже повеселев, ответил генерал. –Японцы, естественно, отказались от своего наступательного плана и разработали план оборонительных операций. Основная его идея заключается в том, чтобы путём упорной обороны приграничных укреплённых районов и выгодных естественных рубежей, как горный хребет Большой Хинган, реки Мулинхэ и Муданьцзян, не допустить проникновения наступающих группировок советских войск в центральные районы Маньчжурии… Главные силы Квантунской армии, будучи сосредоточенными в районах основных узлов дорог в центре Маньчжурии, должны были быть в готовности к маневру и нанесению ударов на любом направлении. Этими контрударами японское командование надеется остановить наступление наших войск и вынудить их перейти к обороне. После этого Квантунская армия, пополненная стратегическими резервами, должна была перейти в контрнаступление вплоть до вторжения в пределы советского Дальнего Востока.
— Даже так? – посмотрев как-то сбоку и приподняв одну бровь, сказал Сталин и тут же добавил: — Японцы не такие простаки. Какая-то должна быть каверзность. На что они надеются?
— Они оценивают наши силы на Востоке в 30-40 дивизий, в основном стрелковых и кавалерийских, что не даёт перевеса над Квантунской армией. К тому же японское командование считало, что советские войска понесут большие потери при преодолении укреплённых районов, горных и речных рубежей и не смогут прорваться вглубь Маньчжурии крупными силами.
Сталин помолчал и опять спросил: — Сколько, вы говорите, у них самолётов?
— Одна тысяча девятьсот.
— Вполне могут нанести мощный превентивный удар по нашим сосредоточенным группировкам. Рано или поздно японцы их обнаружат.
Начальник ГРУ молчал, это уже были не его заботы.
Отпустив Ильичёва, Сталин вскоре вызвал начальника артиллерии Красной Армии Главного маршала артиллерии Воронова. С ним Сталин обсудил и наметил меры по прикрытию наших войск от возможного массированного удара японской авиации…
Соображения Сталина известны потому, что он делился ими с заместителем начальника Генштаба Антоновым и начальником Оперативного управления Штеменко, а они это отразили в своих мемуарах…
А сейчас приведу ещё один важный эпизод (специально для недоброжелателей, отрицавших роль и участие Сталина в войне против Японии). Сталин взял на себя ответственность в очень рискованном решении о применении танков в горах Большого Хингана. Вот по этому поводу цитата из книги Штеменко:
«Сталин не любил неопределённостей и, помня недавние споры о порядке использования танковой армии, приказал при подписании директивы включить в неё следующий пункт: «6-гвардейской танковой армии, действуя в полосе главного удара в общем направлении на Чанчунь, к 10 дню операции форсировать Большой Хинган, закрепить за собой перевалы через хребет и до подхода главных сил пехоты не допустить резервов противника из Центральной и Южной Маньчжурии»: такая формулировка не допускала никаких сомнений относительно места танковой армии в оперативном построении войск фронта. Она могла находиться только в первом эшелоне и должна была вести за собой остальные армии».
Вот так – сам вписал в уже готовый текст директивы! Не побоялся ответственности в случае неудачи. Не думаю, что Сталин не знал характеристики Большого Хингана. Наверное, генштабисты, а может быть и он сам, заглядывали в справочники, энциклопедию Брокгауза и Ефрона или в энциклопедический словарь «Гранат», которые были в его личной библиотеке. А там написано: «Большой Хинган – горный хребет между Монголией и Маньчжурией, по длине и ширине равен Альпам (в этой же энциклопедии сказано:«Альпы – самая высокая горная система Европы: длина 4300 километров, ширина – 130 километров, вершины – 1300 -4500 метров). На Большом Хингане: вершина Пайча- 3200 метров, обрывы в сторону Маньчжурии -1000-1200 метров».
* * *
Атомная бомба была взорвана американцами 6 августа над Хиросимой, начав новую эру человеческого безумия. Впрочем, в те дни люди ещё не понимали всего ужаса этого пока ещё единственного взрыва. Во всяком случае, в штабе Главкомата войск Дальнего Востока гораздо большее впечатление произвела полученная 7 августа около семнадцати часов по московскому времени директива Сталина о начале 9 августа боевых действий Забайкальского и 1-го Дальневосточного фронтов. Да и на японцев гораздо большее впечатление произвело полученное вечером 8 августа через посла в Москве заявление Советского правительства.
«После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии, — говорилось в документе, — единственной великой державой оказалась Япония, которая стоит за продолжение войны.
Требование трёх держав – Соединённых Штатов Америки, Великобритании и Китая – от 26 июля сего года о безоговорочной капитуляции японских вооружённых сил было отклонено Японией.
… Советское Правительство заявляет, что с завтрашнего дня, то есть с 9 августа Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией».
9 августа была сброшена вторая атомная бомба на Нагасаки. Американцы считают это главной причиной капитуляции Японии. Но анализ событий, предшествовавших атомной бомбардировке, и особенно последовавших за ней, опровергает эту версию и приводит к другим выводам.
Во-первых, на бомбардировку Хиросимы императорская ставка ответила лишь отправкой в этот город специальной комиссии по изучению последствий атомного взрыва. Японских руководителей гораздо больше беспокоила позиция Советского Союза. И когда 9 августа советские войска перешли в наступление, то это в корне изменило обстановку…
Применение атомного оружия не вызывалась военной необходимостью, поскольку поражение Японии, по существу, было предрешено разгромом фашистской Германии и предстоящим вступлением в войну против Японии Советского Союза, о котором американское руководство хорошо знало. Если же принимать всерьёз утверждения американской буржуазной историографии, что к началу августа 1945 года, «Япония фактически была уже разбита» и американцам оставалось только «устроить церемонию подписания капитуляции», то в таком случае атомная бомбардировка тем более не являлась необходимой…
Как справедливо заметили японские историки, «использование атомной бомбы было для Соединённых Штатов скорее не последним военным действием во второй мировой войне, а первым серьёзным сражением в «холодной войне», которую они ведут против России». Это был не только удар по Японии, но главным образом шантаж против СССР.
Итак, Сталин приказал начать боевые действия против Японии 8 августа 1945 года…
Утром из первого доклада с фронта Главком Василевский узнал, что на всех направлениях… главные силы продвинулись на десять-пятнадцать километров… Из Забайкалья же пришли просто потрясающие донесения. Танкисты Кравченко… совершили бросок в сто пятьдесят километров и к исходу дня вышли к перевалам Большого Хингана… Через пять суток Забайкальский фронт перешёл Большой Хинган, и танки Кравченко по маньчжурской равнине рванулись на тылы Квантунской армии – к Шеньяну, Чанчуню… Начались уникальные десантные операции по овладению Южным Сахалином и Курилами…
— Значит, ваши предположения подтвердились? – спросил Сталин, выслушав доклад Василевского.
— Так точно, товарищ Сталин. Теперь самое главное – не потерять темпа наступления.
— Хорошо. Только темп надо увеличить ещё. Какие на этот счёт будут предложения?
— Предполагаем выброс авиационных десантов в крупнейших городах: Харбине, Чанчуне, Гирине, Мукдене. Создаём передовые подвижные отряды во всех общевойсковых армиях и у Кравченко.
— Вы знаете, что японское правительство официально объявило о капитуляции?
— Так точно. Разведка и радиоперехват это подтверждают… Приказа прекратить сопротивление нет…
— Я так и думал, — перебил его Сталин. – Завтра мы выступим с официальным заявлением в печати, а вы начинайте десантные операции.
16 августа все газеты Советского Союза опубликовали за подписью генерала армии Антонова официальное заявление Генерального штаба Красной армии, которое гласило:
«1. Сделанное японским императором сообщение о капитуляции Японии является только общей декларацией о безоговорочной капитуляции.
Приказ Вооружённым Силам о прекращении боевых действий ещё не отдан, и японские вооружённые силы по-прежнему продолжают сопротивление. Следовательно, действительной капитуляции в вооружённых силах Японии ещё нет.
- Капитуляцию вооружённых сил Японии можно считать только с того момента, когда японским императором будет дан приказ своим вооружённым силам прекратить боевые действия и сложить оружие и когда этот приказ будет практически выполняться.
- Ввиду изложенного Вооружённые Силы Советского Союза на Дальнем Востоке будут продолжать свои наступательные операции против Японии».
Враг сопротивлялся, и всё же процесс капитуляции начался. Прокатилась волна самоубийств. 11 августа выстрелом из револьвера себе в грудь начал эту цепочку бывший премьер-министр Тодзио – главный виновник развязывания войны и поражения Японии. 15 августа покончил счёты с жизнью военный министр Анами. За ним – член Высшего военного совета генерал-лейтенант Синодзука, потом министры последнего правительства…
Несколько слов о десантниках в Мукдене.
Автоматчики авиадесантного отряда свалились на японцев как снег на голову… В тот же день, когда наши части овладели Мукденом, представители фронта сразу же направились в японский лагерь для военнопленных англичан и американцев…
Представитель советского командования генерал Притула поднялся на импровизированную трибуну и стал говорить:
— Сегодня утром нашими частями занят город Мукден. Я уполномочен сообщить вам, что с этого часа все американские, английские и другие союзные военнопленные, находящиеся в этом лагере свободны…
— От имени советского командования, — продолжал генерал Притула, — поздравляю вас с победой союзных войск над японским империализмом…
Стихийно возник митинг. На крыльцо взбегает американец Александр Байби. Он горячо говорит по-английски:
— Нам русские войска принесли свободу! Три с половиной года мы томились в японской тюрьме. Тысячи нас умирали от голода и пыток… Наши русские боевые друзья, к вам общаюсь я, простой американский солдат, со словами горячей благодарности и любви. Никто из нас не забудет этого дня. На всю жизнь мы ваши самые верные друзья, и эту дружбу с Россией мы завещаем своим детям…
В лагере были вице-маршал авиации Великобритании Малтби, генералы Джонс и Шарп Ченович – командиры американских корпусов, генералы Втофер, Пиэрс, Фонк, Орэйк, Стивенс Лоф Бийби – командиры дивизий, известный голландский журналист Жоэлом, попавший в плен в 1942 году. Он сказал:
— Я напишу и о вас – русских людях, посланцах неба в нашу темницу!…
2 сентября на линкоре «Миссуре», бросившем якорь в Токийской бухте, состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии…
* * *
Итак, война победоносно закончена, капитуляция японским агрессором подписана. Договоры с союзниками-победителями определили, кому что принадлежит и как строить добрые отношения в будущем.
Но это на бумаге. В жизни – осталась тлеющая головёшка от прошлой войны. Имя ей — Курильские острова. Не загасили её, и даже наоборот, кое-кто пытается раздуть этот тлеющий огонёк. Иногда он вспыхивает язычками яркого пламени на страницах газет, на телевидении, и кое-кто начинает бряцать оружием. Споры идут не один десяток лет.
Почему? В чём дело? Где истина?
Энциклопедический словарь «Гранат», изданный ещё в царские времена, пишет (опускаю географические сведения):
«Курильские острова открыты голландским мореплавателем Де-Фрисом в 1634г; южные из них издавна принадлежали японцам, на северных в XVIII в. утвердились русские; по договору 1875г. Россия уступила Курильские острова Японии в обмен на Сахалин».
Вроде бы нет никаких причин для споров, с 1875 по 1945 год договоры соблюдались.
Права на владение Курильскими островами были восстановлены «Соглашением трёх держав по вопросам Дальнего Востока» на Крымской конференции 1945 года. Вступить во владение островами пришлось силой оружия.
Закон есть закон, его надо соблюдать. Почему-то после несправедливого отъёма Курильских островов в 1875 году никто, в том числе и Россия, не пытался восстанавливать «статус-кво» (возвращение в первоначальное положение). И когда это возвращение совершилось решением держав- победителей, почему-то начинаются споры, претензии, кривотолки и прочие интриги. То, что исходит от японцев, понять можно. Но чем объявить двойную позицию американцев, подписавших Крымские соглашения?
Вот очень убедительный пример не только их двуличного поведения, но и явного желания заложить мину для будущего раздора.
15 августа (когда ещё шли бои в Маньчжурии) американцы представили в Москву на согласование проект документа о капитуляции японских войск. В этом документе отсутствовало ранее принятое решение о Курильских островах!… Конечно, это не случайно- мина закладывалась умышленно.
Сталин немедленно отправил президенту Трумэну послание с требованием исправить и внести в документ положение о Курильских островах:
«Включить в район сдачи японских вооружённых сил советским войскам все Курильские острова, которые согласно решениям трёх держав в Крыму должны перейти во владение Советского Союза».
Кроме того, Сталин предложил отвести СССР район для принятия капитуляции на севере Хоккайдо, что было равносильно требованию советской зоны оккупации в Японии. 18 августа Трумэн прислал ответ. Он отклонил предложение Сталина о северном Хоккайдо, но согласился включить все Курильские острова в район принятия капитуляции советскими войсками. Одновременно Трумэн выразил пожелание, чтобы СССР предоставил Америке право иметь на Курилах авиационную базу. Сталин ответил резким отказом.
А теперь познакомлю вас с ответным ходом Сталина на провокацию союзника с Курильскими островами. Не знаю, действительно хотел Верховный осуществить эту операцию или только попугал американцев. Но в любом случае, проучил он их весьма убедительно.
19 августа в 4 часа утра командование Тихоокеанским флотом получило радиограмму Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке маршала Василевского (конечно же по указанию Сталина):
«Командующему 1-м Дальневосточным фронтом, копия начальнику Генштаба Красной Армии, начальнику штаба Главкома советских войск на Дальнем Востоке, приказываю: Первому Дальневосточному фронту в период с 19 августа по 1 сентября оккупировать половину острова Хоккайдо к северу от линии, идущей от города Кусиро до города Румон и острова южной части Курильской гряды до острова Сумусиру-То включительно».
Надеюсь, вы поняли, что это приказ о высадке десанта на метрополию Японии (на Хоккайдо, многие политические и промышленные центры государства).
Обратите внимание на вежливость и пунктуальность советской стороны – она собирается оккупировать только «половину острова Хоккайдо» (явный расчёт на то, что этот приказ станет известен союзникам).
Далее в приказе указывалось детально, что проделать для проведения этой операции:
«Для этой цели при помощи судов ТОФ и частично морского флота в период с 19 августа по 1 сентября 1945г. перебросить две стрелковые дивизии 87-го стрелкового корпуса.
В те же сроки перебазировать на Хоккайдо и Курильские острова одну истребительскую и одну бомбардировочную авиационную дивизию 9-й воздушной армии.
Василевский. Проценко».
В приказе подробно расписаны задачи всем участникам этой операции. Приказ большой, привожу лишь некоторые его пункты:
«Командующим 1-м и 2-м Дальневосточным фронтом, командующему ТОФ, главкому авиации.
Срок начала операции по высадке наших войск в северной части острова Хоккайдо и в южной части Курильских островов будет дополнительно указан Ставкой Верховного Главнокомандования. Высадку наших войск на острова произвести с южной части острова Сахалин. Для чего:
- Используя благоприятную обстановку в районе порта Маока, немедленно и ни в коем случае не позднее утра 21 августа приступить к погрузке 87-го стрелкового корпуса с техвойсками; в предельно минимальные сроки сосредоточить его в южной части Сахалина в районе порта Отомари и города Тойохара…
- Ещё раз подчёркиваю, что операцию по переброске 87-го стрелкового корпуса на остров Сахалин в район порта Маока необходимо начать немедленно. Сроки начала десантной операции на остров Хоккайдо будут указаны мной дополнительно. Основной базой в этой операции, как для наземных войск, так и для авиации ТОФ должен явиться остров Сахалин. Срок готовности для этой операции – к исходу 23 августа 1945г.»
Напомню о строжайшей секретности при разработке планов операции против Японии: никаких письменных документов, никаких разговоров по средствам связи, изменены фамилии маршалов. А приказ о высадке десанта на метрополию Японии в нескольких экземплярах, разослан исполнителям. Ведутся разговоры по телефонам и радио. Явный расчёт на утечку секретности!
Подтверждение этому – результат: очень напугал Сталин союзников возможной высадкой этого десанта. Они понимали реальность такого намерения: у японцев на Хоккайдо было всего две дивизии, все остальные соединения уже разгромлены и пленены Советской Армией в Маньчжурии.
Ещё при завершении боёв на западе союзники боялись, что Советская Армия не остановится на взятии Берлина и может рвануть через Францию до побережья Атлантического океана. И опасения такие были вполне основательны, наша армия была настолько сильна, что её не остановили бы ни немцы, ни союзники, если бы такая попытка была бы предпринята.
На Дальнем Востоке ситуация была аналогичная. Если бы Сталин дал приказ, наши войска несомненно оккупировали бы Хоккайдо и, наверное, даже не «половину». Однако Сталин не хотел обострять отношения с союзниками.
Если вы вспомните пословицу насчёт «шила», которое «в мешке не утаишь», то обращаю ваше внимание: пословица эта не только против недругов, она, как говорится, обоюдоострая. Вы без труда обнаружите это наше «шило» в следующей телеграмме Сталина:
«От операции по десантированию наших войск с острова Сахалин на остров Хоккайдо необходимо воздержаться впредь до особых указаний Ставки. Переброску 87-го стрелкового корпуса на остров Сахалин продолжать. В связи с заявлением японцев о готовности капитулировать на Курильских островах прошу продумать вопрос о возможности переброски головной дивизии 87-го стрелкового корпуса с острова Сахалин на южные Курильские острова (Кунасири и Итуруп), минуя остров «Хоккайдо».
1 сентября разведывательные самолёты ТОФ произвели аэрофотосъёмку западного побережья островов Хоккайдо, Хонею и северных районов Кореи. Однако этим подготовка к десанту на Хоккайдо и закончилась.
В общем, «попугали» убедительно, вопрос о Курильских островах в Акт о безоговорочной капитуляции, об их принадлежности Советскому Союзу был включён без споров, согласований и какой-либо волокиты…
Жаль, что обессилили Россию губительными перестройками, развалили могучую Советскую державу, и не может она пригрозить какой-нибудь операцией, вроде той, которую намеревался провести Сталин в августе 1945 года. Сегодня многострадальное наше Отечество само на положении оккупированной страны.
* * *
Таким образом, вопреки утверждениям недоброжелателей Сталина о том, что он якобы после победы над Германией отошёл от руководства Вооружёнными Силами, из рассказанного выше видно: Сталин принимал участие в разработке и осуществлении всех операций, проведённых на Дальнем Востоке тремя маршалами Василевским, Малиновским и Мерецковым.
Как стратег Сталин добился ликвидации агрессивного дамоклова меча, который постоянно висел над нашей страной на Востоке.
Сталин добился возвращения российских земель, отторгнутых Японией: Курильских островов – в 1875 году и Южного Сахалина – в 1905 году.
Сталин заставил союзников – США и Великобританию – зафиксировать, что указанные земли «должны безусловно» принадлежать Советскому Союзу «после победы над Японией».
Приказ
Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и военно-морскому флоту
2 сентября 1945 года представителями Японии подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооружённых сил.
Война советского народа совместно с нашими союзниками против последнего агрессора — японского империализма – победоносно завершена, Япония разгромлена и капитулировала.
Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением войны против Японии.
В ознаменование победы над Японией сегодня, 3 сентября, в день Праздника Победы над Японией, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту победу, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трёхсот двадцати четырёх орудий.
Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины!
Пусть живут и здравствуют наша Красная Армия и наш Военно-Морской Флот!
Верховный Главнокомандующий
Генералиссимус Советского Союза
И. Сталин № 373.
3 сентября 1945г.
Так разгромом Японии завершилась Великая Отечественная война.
Победой над Японией мы спасли человечество!
Это не громкая фраза – это факт, конкретные состоявшиеся действия Советской Армии, к сожалению, по сей день не оценённые и даже не отмеченные благодарностью этим самым спасённым человечеством!
Я имею ввиду возможную гибель его от бактериологического оружия и катастрофы, которую подготовила и была близка к её практическому осуществлению Япония.
В ХХ веке всё живое на земном шаре могло погибнуть дважды.
Первая причина – атомная катастрофа, которая могла последовать после массового применения атомных бомб.
Америка открыла эру атомного апокалипсиса бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.
Человечество спасли от этого безумия Сталин и Советская страна, достигнув паритета в атомном вооружении и лишив тем самым США возможности единолично махать над миром атомной дубиной.
Второе спасение человечества произошло в 1945 году в войне против Японии тоже под руководством Сталина.
Правильно говорят русские пословицы «тайное всё равно когда-то становится явным» или «шила в мешке не утаишь!»
Я не первооткрыватель этой тайны, немало было сказано и написано об этом и… забыто, легкомысленно предано забвению. Я хочу лишь напомнить, как мы были (и остаёмся сегодня!) близки к гибели и кто в этом виноват.
В 1933 году в 20 километрах от Харбина была создана база, названная «Управлением по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии»…
Но… вот за этим «но» скрывается интересующая нас, хорошо спрятанная работа секретного «Маньчжурского отряда 731». Для скромной станции водоснабжения были построены аэродром, ряд жилых помещений примерно на 3 тысячи человек, электростанция, железнодорожная ветка, помещения учебного центра, тюрьма на 80-100 человек, многочисленные крупные и мелкие лаборатории, конный тренировочный манеж, большой лекционный зал, стадион и даже синтоистский храм.
Это громадное военное сооружение, окружённое рвом и забором с колючей проволокой, по которой был пропущен ток высокого напряжения, имело зашифрованное название – «Маньчжурский отряд 731» — и занималось созданием и накоплением бактериологического оружия.
К 1945 году Япония была готова к развязыванию бактериологической войны. В строго засекреченных бактериологических отрядах Квантунской армии в Маньчжурии уже были созданы огромные запасы бактерий, способных вызвать массовые эпидемии, а также технические средства доставки их к целям. Эффективность смертоносных бацилл была многократно проверена на тысячах живых людей различных национальностей в «лабораториях» и на специальных полигонах. Поражающая способность начинённых бациллами авиабомб и бактерий, распылявшихся с самолётов с помощью особых устройств, была «изучена» в ходе боевых операций японской военщины в Монголии и Китае.
Были уже размножены и географические карты советских дальневосточных районов с указанием населённых пунктов, водоёмов и других объектов, которые должны были подвергнуться бактериологической атаке. Бактериологическое оружие планировалось применить в первую очередь в районе Хабаровска, Благовещенска, Уссурийска, Читы. Сюда намечалось сбрасывать авиабомбы, наполненные чумными блохами, предусматривался также вариант распыления бактерий с самолётов.
Однако этим изуверским планам не суждено было осуществиться. «Вступление Советского Союза в войну против Японии и стремительное продвижение Советской Армии вглубь Маньчжурии, — заявил на суде в Хабаровске попавший в плен командующий Квантунской армией генерал Ямада, — лишило нас возможности применить бактериологическое оружие против СССР и других стран».
Неслучайно первый из многочисленных десантов, которые выбрасывались в ходе боёв против Японии, был направлен в Харбин лично командующим 1-м Дальневосточным фронтом маршалом Мерецковым.
Суд в Хабаровске воздал по заслугам всем представшим перед ним японским военным преступникам. На этом процессе один из сотрудников «Отряда 731» сказал: «Готовых к употреблению бактерий в «Отряде 731» хранилось столько, что если бы они были рассеяны по земному шару, этого хватило бы, чтобы уничтожить всё человечество».
Это убедительно подтверждает величие подвига Советской армии, действительно спасшей человечество от страшной катастрофы.
Но главному идеологу подготовки бактериологической войны, организатору массового производства смертоносных бактерий и варварских опытов над живыми людьми генералу Исии, а также его подручным после сокрушительного разгрома Квантунской армии советскими войсками удалось скрыться и избежать заслуженного наказания. Вместо того чтобы после окончания Второй мировой войны оказаться на скамье подсудимых, они попали под крылышко могущественного покровителя – американской военщины…
Командование оккупационных войск США в Японии пошло на укрывательство японских бактериологов-убийц, хотя было известно, что «подопытным материалом» для экспериментов служили и американские военнопленные.
Осенью 1981 года в журнале «Булетин оф атомиксайентистс», издающемся в Чикаго, была опубликована небольшая статья «Неизвестная глава в истории», в которой сообщалось, что начальник «Отряда 731»генерал Исии после войны передал разработки по бактериологическому оружию американским оккупационным войскам в Японии, взамен чего последние укрыли его от ответственности за военные преступления. В доказательство приводились документы, обнаруженные автором статьи Джоном Пауэллом в Государственном архиве официальных документов США.
Это копии текстов официальных телеграмм, которые я недавно обнаружил в архиве официальных документов. Вот, пожалуйста. Эта отправлена 21 марта 1947 года из Вашингтона Объединённым комитетом начальников штабов в Токио Верховному командующему американскими войсками в Японии Макартуру. Здесь мнение Вашингтона на запрос, следует или не следует выдавать начальника «Отряда 731» Исии Советскому Союзу. Читайте.
«…если во время предварительного допроса будут получены сведения, о которых будет решено, что они не должны стать известны советской стороне, то надлежит проинструктировать Кикутии, Ооту, не сообщать эти сведения советской стороне;
б) указать японским специалистам-бактериологам (имеются в виду Исии, Кикути, Оота.-Прим. авт), что они не должны разглашать факта предварительной проверки и инструктажа, проведённых США перед их допросом советской стороной…»
Таким образом, все важные сведения должны быть монополией США.
«в) данные о разработке бактериологической войны в «Отряде 731» являются чрезвычайно важными для обеспечения национальной безопасности США и значительно превосходят то, что было бы достигнуто в результате преследования Исии, как военного преступника;
г) крайне нежелательно с точки зрения безопасности США, чтобы данные об «Отряде 731» фигурировали на процессе над военными преступниками и стали достоянием гласности в других странах;
д) обращение с информацией о бактериологической войне, полученной от японцев, ограничить каналами разведки. Информацию от Исии и его сотрудников не следует использовать для преследования их как военных преступников…»
Документы штаб-квартиры американских войск в Японии, полученные Джоном Пауэллом, не оставляют сомнения относительно того, что «Отряд 731»был освобождён от преследования за военные преступления, и отчётливо показывают, как это было сделано.
Я думаю, вам, читающим эти документы, ясно, кто стал наследником и продолжателем разработки страшного бактериологического оружия, от применения которого в 1945 году спасла человечество Советская Армия под руководством Сталина.
[1] Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. Москва. «Олма-пресс» 2002 13-е издание исправленное и дополненное по рукописям автора.
[2] История Второй мировой войны 1939-1945 гг., М.: Воениздат 1974 т, 3 с. 432, т.4 с. 18
[3] На протяжении войны в состав Ставки последовательно включались занимавшие пост начальника Генштаба Шапошников, Василевский, Антонов. Последнее изменение произошло 17 февраля 1945 года, когда постановлением ГК Ставка была определена в составе Сталина, Жукова, Василевского, Антонова, Булганина, Н.Г. Кузнецова –Прим. автора
[4] История Второй Мировой войны 1939-1945 гг. М.: Воениздат 1975. Т.4 с.126.
[5] Архив МО СССР ф 219 оп.178510. д.29, л 1-3.
[6] Архив МО СССР ф.132-А, оп 2642, д 30, л.18
[7] Гальдер Ф. «Военный дневник» том 3, кн. 1. М.: Воениздат 1971
[8] Фуллер Дж. Вторая мировая война 1939-1945 гг.. М. Иностранная литература, 1956
[9] Архив МО СССР ф 217, оп 1221, д. 174, л.81-96
[10] Архив МО СССР ф 96-А оп 2011, д.5, л.104.
[11] Архив МО СССР, ф. 96-А, оп 2011, д.5, л, 122
[12] ЛГА ОРСС, ф. 330, оп, 1, д 5, л.1-42, 174.
[13] Жуков Г.К. Воспоминания и размышления Том 2, 13-е издание исправленное и дополненное по рукописям автора. М., «Олма-Пресс», 2002
[14] Архив МО СССР, Ф. 208, Оп 2513, д 5 л. 450
[15] История Второй мировой войны. 1939-1945 гг. в 12 т, т. 4, с.93 М., Воениздат, 1975
[16]История Второй мировой войны. 1939-1945 гг. в 12 т, т. 4, с.93 М., Воениздат, 1975
[17] Архив МО СССР, Ф. 208. ОП. 2511, Д.7, л. 150
[18] Архив МО СССР, Ф.208, Оп.2511, Д.1029, л. 332
[19] Архив МО СССР, Ф. 208, Оп.2513, д. 204, л. 169.
[20]Архив МО СССР, Ф. 208, Оп.2513, д. 207, л. 210.
[21] История Второй мировой войны 1939-1945 гг. М.: Воениздат 1975 т.5, с. 121, 143.
[22] Василевский А.М. Дело всей жизни. М.: Политиздат, 1973, с.191.
[23]Василевский А.М. Дело всей жизни. М.: Политиздат, 1973, с.192.
[24] Типпельскирх К. История Второй мировой войны М.: Иностранная литература, 1956 с. 241.
[25]Видер И. Катастрофа на Волге. М., 1965 с. 52.
[26] История Второй мировой войны 1939-1945 гг. М.: Воениздат, 1976. Т.6 с. 19
[27]История Второй мировой войны 1939-1945 гг. М.: Воениздат, 1976. Т.6 с. 19
[28]Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. М.; Наука, 1973. Т.2 с.410-413.
[29] История Второй мировой войны 1939-1945г.г. М.: Воениздат, 1976 т. 7 с, 114.
[30] 20 октября 1943 года Воронежский фронт был переименован в 1-й Украинский фронт. Степной фронт – во 2-й Украинский – Прим. автора.
[31] ИМЛ. Документы истории Великой Отечественной войны инв № 9492, л. 10-11
[32] История Второй мировой войны 1939-1945 гг. М. : Воениздат 1977 т.8 с. 415
[33] Советская энциклопедия (СВЭ) М: Воениздат 1976 т.2 с. 62
[34] СВЭ т.1 с.431
[35]Освободительная миссия Советских Вооружённых сил во второй мировой войне. М.: Политиздат. 1974 с. 107, 228
[36] Архив МО СССР. Ф 223, Оп2356, д.570, л.4
[37] Почью Ф.С. Верховное командование. М.: Воениздат, 1959, с. 458
[38] Архив МО СССР, ФЦГВ, Оп 70500, д.2, л.145-149
[39] Материалы Нюрнбергского процесса – Прим. автора
[40]Гальдер Ф. Гитлер как вождь Мюнхен, 1949 с. 58.
[41] Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. В 7 томах. Юридическая литература. 1957 т.1 с. 495
[42] Материал взят из архива Г.К. Жукова – Прим. ред.
[43]Василевский А.М. Дело всей жизни кн. Первая Издание шестое Издательство политической литературы 1989
[44] Архив МО СССР, ф. 16-А, оп. 947, д. 36, л. 70-72
[45] Ленин В.И. Полн. Собр. Соч., т. 41 с.121
[46] Генерал-лейтенант И.И. Масленников – командующий Северной группой войск Закавказского фронта.
[47]Генерал-лейтенант И.Е. Петров – Командующий Черноморской группой войск Закавказского фронта.
[48] Архив МО СССР Ф 132-А, Оп. 2642, д. 34, л. 3-4
[49] Василевский А.М. Дело всей жизни. Книга 1, ИПЛ, 1989
[50] Жуков Г.К. Воспоминания и размышления Т.2 с. 124
[51] Архив МО СССР, ф. 233, оп. 2307, д.3, л.29-33.
[52] Архив МО СССР, Ф.48-А, оп.1147, д.2, л.4-7
[53] Архив МО СССР, Ф 132-А, оп. 2642, д. 34 л. 183
[54] Правда, 1944, 10 мая
[55] Архив МО СССР, Ф. 132-А, Оп.2542, Д. 13, л.211-216
[56] Василевский А.М. Дело всей жизни. Книга вторая, ИПЛ, 1989
[57] Архив МО СССР, Ф 132-А, оп 2642, д.39, л.31
[58] Архив МО СССР, Ф.241, оп. 2593, д. 821, л. 297,298
[59] Архив внешней политики СССР (АВП СССР) ф. 01000, оп. 35-А д.1, л. 6.
[60] Тегеран-Ялта-Потсдам. Сборник документов. М., 1970, с. 199-200
[61] Архив МО СССР, ф. 14-А, оп. 272, д. 19, л. 10.
[62] Институт военной истории Министерства обороны СССР (ИВИ МО СССР) Документы и материалы, инв. 4, с. 836
[63] Архив МО СССР, ф-132-А, оп. 2642, д. 13, л. 247-256
[64] Архив МО СССР, ф 132-А, оп. 2642, д. 39, л. 162-163
[65] Архив МО СССР, ф.210, оп. 3171, д. 144 л.5
[66] Освободительная миссия Советских Вооружённых Сил во второй мировой войне М., 1974 с.423
[67] Иноу Киёси Судзуки Сёси История современной Японии, М., 1955, с.264
[68] «Правда», 1945, 16 августа
[69] Около пяти лет Пу И прожил в СССР, а затем был передан властям КНР по их просьбе. До 1959 года он содержался в лагере для почётных заключённых, вёл вольготный образ жизни, позже был амнистирован пекинским правительством, стал депутатом Всекитайского народно-политического консультативного совета, начал работать в ботаническом саду Академии наук КНР и писать свои мемуары. В 1967 году китайская печать сообщила о его смерти.
[70] Военно-исторический журнал , 1978 № 2.
[71] Рокоссовский К.К. Солдатский долг В.М. Военное издательство Министерства обороны СССР. Москва 1968.
[72]Дайнес В. Рокоссовский Гений манёвра М., «Яуза» «Эксмо», 2008
[73] Кузнецов Н.Г. Курсом к победе Москва, «Военное издательство», 1987
[74] В обороне базы принимал участие также полк эстонских и латышских рабочих. – Прим. ред.
[75]Ой ли? «Странная война» по прежнему продолжалась, воевали только в воздухе и на море – Прим. ред.
[76] В то время Б.М. Шапошников был заместителем наркома обороны и осуществлял руководство Главным военно-инженерным управлением и Управлением строительства укреплённых районов. – Прим. ред.
[77] Нет, не только в халатности было дело. Известно, что определённые круги в США делали всё зависящее от них, чтобы Япония повернула свои вооружённые силы против СССР. В Перл-Харборе они пожинали результаты своей собственной политики попустительства японским агрессором. – Прим. ред.
[78] Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентом США и Премьер-Министром Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, т.1, с.11.
[79] Этим крупным соединением командовал адмирал Тови. – Прим. авт.
[80] Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентом США и Премьер-Министром Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945. Т.1 с.54
[81] И.В. Сталин вообще никогда и никого не встречал, один раз в апреле 1941 года проводил на вокзале министра иностранных дел Японии Мацуоку – прим. ред
[82] Кузнецов Н.Г. Курсом к победе Военно-историческая библиотека М., «Издательство АСТ», 2003.
[83] Этот датский остров сыграл свою роль и в 21 веке, именно Дания длительное время не давала разрешения производить работы по укладке Северного газопровода № 2 в своих территориальных водах, что не позволило закончить его строительство в Германии в 2019 году. – А.М
[84] Беккер. К Военные действия и гибель германского военно-морского флота с. 249-253 — ОЦВМА
[85] История войны на Тихом океане т. III М., 1958, с. 380
[86] Международные отношения на Дальнем Востоке (1840-1949). 2-е изд. М., 1956, с. 542
[87] Карпов В.В. Генерал армии Хрулёв. М., «Вече», 2004
[88] Карпов В.В. Генералиссимус М., «Вече» 2010 с. 292-298.
[89] Карпов В.В. Генералиссимус Москва «Вече» 2010. с. 481-483.
[90] Карпов В.В. «Генералиссимус», Москва, «Вече» 2010, с. 446-451.
[91] Карпов В.В. Генералиссимус Москва, «Вече» 2010, с. 579-587
[92] Карпов В.В. Генералиссимус. Москва «Вече», 2010, с. 634-635.
[93] Карпов В.В. Генералиссимус. Москва, «Вече» 2010, с. 605-608
[94] Энциклопедия Великая Отечественная война 1941-1945. М. «Советская энциклопедия» 1985 с. 7-31.
[95] Карпов В.В. Генералиссимус Москва, «Вече», 2010, с. 655-680.
Материалы книги «Россия из века в век» опубликованы с разрешения и согласия автора Анатолия Ивановича Матвеева